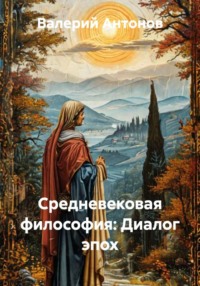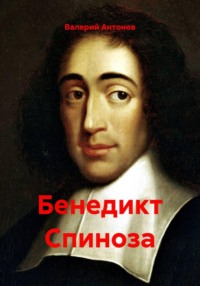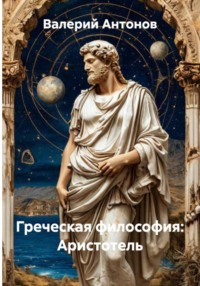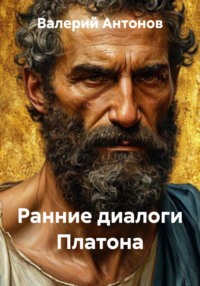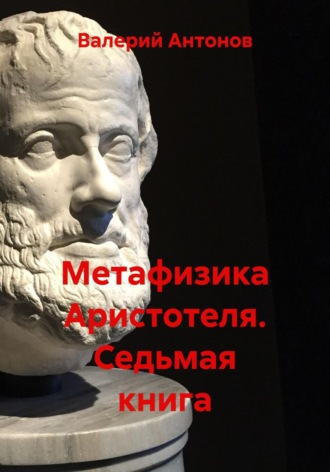
Полная версия
Метафизика Аристотеля. Седьмая книга
Глава 6 – смысловой центр не только книги VII, но и всей метафизики Аристотеля. В ней доказывается краеугольный камень его системы: тождество бытия и мысли на уровне сущности. Это утверждение, что реальность умопостигаема, а logos (понятие, разум) способен адекватно схватывать ousia (сущность), является одним из самых влиятельных положений в истории западной философии, закладывающим основы научного и философского рационализма.
Глава 7. Природа становления: анализ причин и роли материи и формы в процессе возникновения.
Общий контекст главы.Аристотель в этой главе продолжает исследование сущности (οὐσία) и её становления. Он анализирует типы становления (по природе, искусству, случаю) и ключевые принципы любого изменения: «через что» (движущая причина), «из чего» (материя) и «во что» (форма). Это центральный момент для понимания его гилеморфизма (учения о материи и форме).
[1] Из вещей, которые появляются на свет, одни становятся по природе, другие – по искусству, третьи – по воле случая. Но все, что становится, становится через что-то, из чего-то и чем-то. Это нечто может подпадать под любую категорию, оно может быть этим, или качественным, или количественным, или где.
Комментарий (Лосев, Бугай): Аристотель начинает с классификации видов становления (γένεσις). Важно, что он сразу подчёркивает универсальную структуру любого изменения: у него всегда есть 1) источник движения или деятель («через что»), 2) материальный субстрат («из чего») и 3) цель или форма («чем-то», т.е. во что оно превращается). Утверждение, что причина может относиться к любой категории (сущность, качество, количество, место), означает, что изменение может быть не только субстанциальным (возникновение новой вещи), но и качественным (изменение свойства), количественным (увеличение) и т.д.
Критическое описание: Это введение задаёт аналитический framework для всей последующей главы. Аристотель не просто описывает, а декомпозирует процесс становления на его необходимые компоненты, что является классическим примером его метода.
[2] Что касается естественного становления, то это то, что становится от природы.
Комментарий (Бугай): Здесь Аристотель лишь обозначает сферу анализа, которую он рассматривает первой – природное становление. «От природы» (φύσει) означает, что принцип движения и покоя находится в самой вещи, а не привнесён извне, как в искусстве.
[3] То, что становится чем-то, – это материя; то, чем она становится, – это природная вещь; то, чем она становится, – это человек или растение, короче говоря, то, что мы предпочитаем называть индивидуальной субстанцией.
Комментарий (Лосев): Это ключевое утверждение. Аристотель чётко определяет триаду:
«То, что становится» (ὁ γίγνεται) – материя (ὕλη). Это субстрат, потенция, возможность стать чем-то иным.
«То, чем оно становится» (ᾧ γίγνεται) – форма (εἶδος). Это сущность, структура, актуализация возможности.
«То, во что оно становится» (ὃ γίγνεται) – конкретная сущность (τὸ τὶ ὄν), составная вещь (σύνολον). Это результат – единство материи и формы (например, вот этот человек, это растение).
Критическое описание: Аристотель проводит тонкое, но фундаментальное различие между формой (человечность) и конкретной сущностью (Сократ). Форма – это то, чем материя становится, а составная сущность – это что возникает в итоге. Это различие критически важно для избежания платоновского удвоения мира: форма не существует отдельно от материи, кроме как в уме.
[4] Все, что становится природой или искусством, имеет материю: каждая такая вещь может как быть, так и не быть, и причина этого – материя в ней.
Комментарий (зарубежные комментаторы, e.g., W.D. Ross): Материя является принципом случайности (contingency) и не-необходимости. Всякая чувственная вещь подвержена возникновению и уничтожению именно потому, что она имеет материальную составляющую. Чистая, нематериальная форма (например, божественный ум у Аристотеля) вечна и необходимо существует. Материя – это источник потенциальности, а значит, и неопределённости.
Критическое описание: Это глубокое онтологическое наблюдение связывает физику с метафизикой. Возможность не-бытия заложена в самой структуре чувственного мира через материю.
[5] Вообще, то, что становится чем-то, есть природа, как и то, после чего оно становится, ибо то, что становится, имеет природу, например, растение или животное.
Комментарий (Бугай): Фраза сложна для перевода. Речь идёт о том, что «природа» (φύσις) может пониматься двояко: 1) как материя («то, из чего», поскольку она является врождённым субстратом) и 2) как форма («то, во что», поскольку именно форма является целью и сущностью природной вещи). Но Аристотель сразу уточняет, что в собственном смысле слова «природа» – это скорее форма, ведь именно ею определяется, что есть вещь (растение, животное).
[6] А то, благодаря чему нечто становится, – это подобная природа, которая обитает в другом: так человек производит человека.
Комментарий (Лосев): Здесь определяется движущая причина (τὸ κινοῦν) в природном становлении. Это не внешняя сила, а такая же форма («подобная природа»), но существующая в другой уже актуализированной сущности («обитает в другом»). Отец, являясь человеком (актуализированная форма «человека»), передаёт форму и является движущей причиной для возникновения нового человека.
Критическое описание: Это классический пример, показывающий, что для Аристотеля эффективная причина тесно связана с формальной. Движет не просто тело, а форма, воплощённая в этом теле.
[7] Так происходит со становлением через природу. Другие виды производства называются деятельностью. Все виды деятельности происходят от искусства, или от способности, или от мысли.
Комментарий: Аристотель завершает анализ природного становления и переходит к становлению через искусство (τέχνη). Он указывает, что источником деятельности (πράξις) в этом случае является не внутренняя природа, а внешний принцип: искусство (как совокупность знаний), способность (ἕξις – устойчивое умение) или мысль (διάνοια).
[8] Некоторые из них также возникают сами по себе и случайно, как и то, что возникает по природе, ибо и здесь многие вещи возникают как без семени, так и из семени. [9] Но об этом позже.
Комментарий (зарубежные комментаторы): Аристотель признаёт существование спонтанного возникновения (τὸ αὐτόματον), но откладывает его анализ, так как его первостепенная цель – исследование сущности через упорядоченные процессы (природа и искусство). Случайность он понимает как пересечение двух причинных цепочек, приводящее к результату, который мог бы быть целью, но достигнут непреднамеренно.
[10] Через искусство же становится то, чья форма находится в душе.
Комментарий (Лосев): Это центральный тезис для понимания искусственного становления. Форма (идея, эйдос) будущей вещи (например, дома или статуи) существует не в самом материале, а в душе (ἐν τῇ ψυχῇ) мастера. Это нематериальный, концептуальный план.
Критическое описание: Здесь Аристотель радикально расходится с Платоном. Форма не существует в неком мире идей, а существует как понятие в уме творца. Это имманентный, а не трансцендентный принцип.
[11] Формой я называю понятие каждой вещи и ее своеобразную сущность.
Комментарий (Бугай): Аристотель даёт определение форме. Это логос (λόγος) – понятие, определение, сущностная характеристика вещи, то, что отвечает на вопрос «что это есть?».
[12] Ибо противоположное также имеет до некоторой степени ту же форму, поскольку отрицание имеет свою сущность в противоположной сущности, например, болезнь в здоровье, ибо болезнь возникает посредством отсутствия здоровья, [13] а здоровье – это понятие в душе и в науке.
Комментарий (зарубежные комментаторы): Это сложный и важный пассаж. Аристотель утверждает, что даже лишённость (στέρησις), например, болезнь, определяется через свою противоположность – форму (здоровье). Болезнь – это не просто хаос, а отсутствие порядка, присущего здоровью. Таким образом, форма (здоровье) является точкой отсчёта для понимания даже своего отрицания. Эта форма и существует как знание (ἐπιστήμη) в душе врача.
[14] Поэтому здоровье возникает из следующей комбинации мыслей… [до] … теперь сразу же называется деланием».
Комментарий (Лосев): Аристотель описывает процесс практического мышления (ἡ ποιητικὴ διανοία) – движение от цели к средствам. Ум врача, имея цель («здоровье»), дедуцирует необходимые промежуточные шаги (уравновешенность соков -> теплота). Цепочка умозаключений продолжается до тех пор, пока мы не придём к первому шагу, который мастер может совершить непосредственно («начать тереть»). Этот первый шаг и есть начало «делания» (ποίησις) – физического воплощения формы.
Критическое описание: Это блестящее описание телеологического (целевого) процесса в искусстве и практическом разуме. Действие направляется формой-целью, существующей в уме.
[15] Таким образом, в некотором смысле здоровье становится здоровьем из здоровья, а дом из дома, то есть реальный материальный дом из нематериального воображаемого дома; ибо искусство врачевания и искусство строительства есть идея здоровья и дома.
Комментарий (Бугай): Аристотель подводит итог. Подобно тому как в природе человек рождает человека (форма производит форму), в искусстве форма-в-душе (идея дома) производить форму-в-материи (реальный дом). Поэтому можно сказать, что дом возникает из «дома», но только в смысле из его идеи. Искусство и есть эта идея, воплощённая в знании мастера.
[16] Но нематериальное бытие я называю понятием.
Комментарий: Краткое резюме: форма как «нематериальное бытие» (τὸ εἶναι ἄνευ τῆς ὕλης) – это и есть логос, понятие.
[17] Произведения и движения – это отчасти мысль и отчасти действие… [до] … во власти действующего субъекта.
Комментарий (Лосев): Аристотель детализирует процесс. Мысль движется от общей цели к конкретному действию («если начинать с формы, то это мысль»). Само же действие развёртывается в обратном порядке: оно начинается с последнего звена в умозаключении (которое является первым в действии) и ведёт к реализации цели («если начинать с конечного пункта… то это действие»). Каждое промежуточное состояние (нагрев, уравновешенность соков) – это уже действие, ведущее к цели.
[18] Таким образом, активным агентом и первой движущей причиной здоровья является идея приостановки в случае становления искусством…
Комментарий (зарубежные комментаторы): Фраза «идея приостановки» (ἡ στάσις ἡ ἐν τῇ τέχνῃ) считается трудной для интерпретации. Наиболее вероятное значение: «устоявшееся понимание» или «принцип, содержащийся в искусстве». То есть, первая движущая причина – это не само по себе физическое действие (трение), а знание в душе мастера, которое направляет это действие. Именно от этого знания исходит вся причинная цепочка.
[19] …поэтому тепло, содержащееся в теле, либо является частью здоровья, либо за ним следует нечто, что является частью здоровья… но это действенное является последним, а то, что является таковым, является частью здоровья и дома, (как, например, камни)…
Комментарий: Аристотель объясняет, как материя включается в процесс. Действие (нагрев) приводит к появлению некоего состояния, которое является либо частью цели (здоровья), либо необходимым условием для её достижения. Материал же (камни для дома) становится частью составной сущности, возникшей в результате.
[20] Поэтому становление, как принято говорить, невозможно, если ничего не существует заранее.
Комментарий: Фундаментальный принцип: из ничего ничего не возникает (ex nihilo nihil fit). Любое становление требует наличия уществующего субстрата (материи).
[21] Теперь ясно, что некоторая часть становящегося обязательно существует заранее, ибо материя является частью становящегося постольку, поскольку она есть и становится содержащейся в нем.
Комментарий (Бугай): Материя не уничтожается в процессе становления, а преобразуется. Она переходит из одного состояния в другое, становясь частью новой составной сущности. Медь, которая была материалом, становится частью медного шара.
[22] Но материя содержится и в том, что содержится в понятии. Ведь мы указываем на то, что такое медный круг, двумя способами… таким образом, медный круг также имеет материю в своем понятии.
Комментарий (Лосев): Это крайне важный и новаторский ход мысли. Аристотель показывает, что материя входит не только в состав физической вещи, но и в её определение (логос). Чтобы определить «медный шар», мы должны указать и на его форму («шар»), и на его материю («медный»). В отличие от простой формы «шара вообще», конкретная сущность всегда включает указание на материю. Таким образом, материя является частью сущности (ὡς ἐν τῷ λόγῳ) составных, чувственных вещей.
Критическое описание: Это отличает аристотелевскую сущность от платоновской идеи. Сущность чувственной вещи неотделима от материи в концептуальном плане.
[23] Вещи, однако, когда они стали, обычно не называются так же, как материя, из которой они стали, но называются только по ней; образ-столб, например, называется не камнем, а каменистым.
Комментарий: Аристотель переходит к лингвистическому анализу, показывающему онтологическое различие. Мы называем вещь не по имени её материи, а по имени её формы, используя прилагательное, производное от материала. Мы говорим не «камень» (это указание на материю), а «каменный» (указание на оформленную материю). Язык отражает победу формы над материей в образовании новой сущности.
[24] Выздоравливающий же человек называется вовсе не по имени того, из чего он выздоравливает… ибо он выздоравливает из лишения и из субстрата или материи.
Комментарий: Процесс изменения (здоровье из болезни) аналогичен. Мы называем результат по форме («здоровый»), а не по тому состоянию лишённости («больной»), из которого он возник. Субстратом здесь является сам человек, а лишением – болезнь.
[25] …скорее говорится, что подобное возникает из лишения, скорее, например, что кто-то становится здоровым из больного, чем из человека.
Комментарий (зарубежные комментаторы): Хотя сущностью результата является форма, в описании процесса изменения мы часто используем противоположности: здоровое из больного, светлое из тёмного. Это потому, что изменение особенно наглядно видно на контрасте.
[26] Но там, где лишение нечетко и безымянно… там становящееся кажется становящимся, как там здоровое из больного. Поэтому… то, что становится, не называется так же, как и то, из чего оно становится…
Комментарий: Аристотель применяет модель «форма-лишённость» к искусству. Когда мы строим дом из кирпичей, у кирпичей нет «болезни» – у них есть лишь лишённость формы дома, которая безымянна и неопределённа. Поэтому, как и в случае со здоровьем, результат (дом) не называется по имени материала (кирпичи), а материал получает производное имя («кирпичный» по отношению к дому).
[27] …образ-столб называется не деревянным, а производным от деревянного… а дом – не кирпичным, а каменным.
Комментарий: Повторение лингвистического правила для закрепления.
[28] Точнее, нельзя сказать, что дерево становится столбом, а кирпичи – домом, потому что материал, из которого сделан продукт, не остается тем, что он есть, но должен измениться. И по этой причине мы говорим так, как уже было сказано.
Комментарий (Лосев, Бугай): Аристотель даёт окончательное онтологическое обоснование языковой практике. Материал изменяется, когда приобретает новую форму. Дерево не просто продолжает быть деревом – оно становится столбом. Его сущность изменилась. Поэтому строго онтологически корректно говорить: «Из дерева (которое было) становится столб (который есть теперь)». Язык, опуская глагол «быть», схватывает именно это преобразование: «деревянный столб».
Критическое описание: Этот пассаж подчёркивает динамический характер аристотелевской онтологии. Становление – это не просто перекомбинация неизменных элементов (как у досократиков), а реальное изменение сущности материала через приобретение новой формы.
Обобщение главы 7: Природа становления.
Основная цель главы:Аристотель проводит систематический анализ процесса становления (γένεσις), чтобы выявить его универсальную структуру и ключевые принципы, лежащие в основе любого изменения в чувственном мире. Это углубление его гилеморфизма (учения о материи и форме).
Ключевые выводы и положения:1. Универсальная структура становления.Любое изменение, будь то по природе (φύσει), искусству (τέχνη) или случаю (αὐτόματον), требует трёх необходимых компонентов:
«Из чего» (ἐξ οὗ): Материя (ὕλη). Это субстрат, потенция, то, что подвергается изменению.
«Во что» (εἰς ὅ): Форма (εἶδος, μορφή). Это сущность, структура, цель изменения, то, чем становится материя.
«Через что» (ὑφ' οὗ): Движущая причина (τὸ κινῆσαν). Источник изменения, инициирующий процесс.
Эта триада является аналитическим каркасом для понимания всех видов изменений – не только субстанциальных (возникновение новой вещи), но и качественных, количественных и других.
2. Природа (φύσις) как образец.В природном становлении принцип движения находится в самой вещи. Здесь ярко видна взаимосвязь причин:
Движущая причина – это форма, существующая в другой актуализированной сущности (например, человек-отец порождает человека-сына).
Формальная причина (чем становится) и целевая причина (во что стремится стать) по сути совпадают. Природа вещи – это её цель.
Материя – это то, из чего возникает новая природная сущность (растение, животное).
3. Искусство (τέχνη) как аналог природы.Аристотель проводит прямую аналогию между природным и искусственным становлением, но с одним ключевым отличием:
В искусстве форма существует не в материи, а в душе (ἐν τῇ ψυχῇ) мастера в виде понятия, идеи или знания (λόγος, εἶδος). Искусство – это и есть воплощённая в мастере форма.
Процесс направляется телеологически: мысль мастера движется от цели (например, «здоровье») назад, выстраивая цепочку необходимых действий для её достижения, пока не найдёт первое практическое действие («начать тереть»).
Таким образом, первая движущая причина в искусстве – это не само физическое действие, а форма-цель, существующая в уме.
4. Онтологический статус материи и формы.Материя – это принцип изменчивости, потенциальности и случайности. Именно потому, что вещи состоят из материи, они могут как быть, так и не быть, т.е. возникать и уничтожаться.
Форма – это принцип устойчивости, определённости и сущности (τὸ τί ἦν εἶναι). Это то, что делает вещь именно этой вещью.
Составная сущность (σύνολον) – это результат соединения материи и формы (например, конкретный медный шар, этот человек). Важно различать саму форму («шаровидность») и составную сущность («медный шар»).
5. Материя в определении сущности.Это одно из самых важных и новаторских утверждений главы. В отличие от Платона, для Аристотеля материя входит в понятие (λόγος) чувственной сущности. Чтобы определить «медный шар», необходимо указать и на его форму («шар»), и на его материю («медный»). Таким образом, сущность чувственных вещей по своей природе гилеморфна.
6. Роль языка в отражении онтологии.Язык точно отражает онтологические процессы. Мы называем вещь не по имени её материи («камень»), а по имени её формы, используя производное прилагательное («каменный» столб). Это показывает, что в результате становления возникает новая сущность, а материал не просто сохраняется, но изменяется, получая новую форму.
7. Фундаментальный принцип: из ничего ничего не бывает (ex nihilo nihil fit).Любое становление требует предсуществующего субстрата – материи. Становление – это всегда переход материи из одной формы в другую, а не creation из небытия.
Заключение:
В седьмой главе Аристотель представляет всеобъемлющую и стройную теорию становления. Он показывает, что все разнообразные изменения в мире подчиняются единой логической структуре, в центре которой находится динамическое взаимодействие материи (принципа возможности) и формы (принципа действительности и цели). Его анализ примиряет изменчивость чувственного мира (объясняемую через материю) с его упорядоченностью и познаваемостью (объясняемыми через форму), предлагая альтернативу как платоновскому идеализму, так и механистическому материализму досократиков.
Глава 8. Критика платоновских Идей: становление формы и тождество по виду.
[1] Таким образом, через нечто становящееся (а именно через движущуюся причину), и из чего-то (а именно из лишения или, правильнее, из материи, ибо мы уже установили, что мы под этим понимаем), и нечто (например, сфера, круг или тому подобное). Как производитель не порождает субстрат, а именно руду, так и он не порождает форму сферы, за исключением, например, того случая, когда железная сфера является сферой и он порождает ее.
Комментарий:
Аристотель начинает с классификации причин становления: движущая причина (кто/что делает), материальная причина (из чего делается) и формальная причина (что делается, эйдос). Ключевой тезис: ремесленник не создает ни материю (бронзу), ни саму форму-эйдос (сферичность) как таковые. Он создает конкретную вещь – бронзовую сферу – путем воплощения формы в материи.
Комментарий А.Ф. Лосева: Лосев подчеркивает, что здесь Аристотель проводит четкое различие между вечным, умопостигаемым эйдосом (формой) и единичной вещью. Форма не возникает и не уничтожается, она вечна. Ремесленник лишь "сообщает" материи уже существующую форму. Случай, когда "железная сфера является сферой", – это не создание формы, а создание новой конкретной вещи, в которой форма вновь реализована.
Комментарий Д.В. Бугая: Бугай акцентирует внимание на том, что движущая причина (ремесленник) действует, уже имея форму в уме как цель. Таким образом, процесс становления – это целенаправленный акт реализации предсуществующей формы в подходящей материи. Материя (бронза) и форма (сферичность) – это предпосылки творения, а не его результат.
Критическое описание: Аристотель успешно отделяет онтологический статус формы от процесса ее воплощения. Однако возникает вопрос: откуда в уме ремесленника берется эта предсуществующая форма? Ответ Аристотеля – через умозрение и опыт – может показаться circular для платоников, настаивающих на независимом существовании идей.
[2] Ибо породить конкретное означает породить это из общего субстрата.
Комментарий:
Этот абзац – уточнение предыдущего. "Общий субстрат" (ή ὕλη) – это материя, понимаемая как потенция, возможность быть чем-то. Любое конкретное сущее (вот этот медный шар) возникает не из ничто, а из материи, которая уже была, но была в состоянии лишенности (στέρησις) данной формы (была медным кубом, например).
Комментарий У.Д. Росса (Ross, зарубежный): Ross объясняет, что Аристотель здесь противопоставляет свой взгляд теории идей Платона. Платон сказал бы, что шар порождается из причастности Идее Шара. Аристотель же утверждает, что становление всегда происходит из материального субстрата, который приобретает форму. "Из общего" означает "из материи вообще", которая является общей для многих вещей.
Комментарий Д.В. Бугая: Бугай видит здесь развитие учения о материи как возможности. Рождение конкретного – это актуализация возможности, заложенной в материи. Материя "общая", потому что одна и та же медь может стать и шаром, и статуей.
Критическое описание: Понятие "общего субстрата" является мощным анти-платоническим аргументом, grounding процесс становления в физическом мире, а не в мире идей. Однако оно также проблематично: что есть эта "материя вообще"? Аристотель признает ее неуловимой, она познается только по аналогии.
[3] Сделать руду круглой, например, значит не сделать ее круглой или сферой, а нечто иное, а именно превратить эту форму в другую.
Комментарий:
Это сложное для перевода место. Более точный смысл: "Сделать [из] меди круглое – не значит сделать 'круглое' или 'сферу' [как таковые], а значит сделать что-то иное [а именно, медный шар], и ввести эту форму во что-то другое". Аристотель продолжает мысль: ремесленник работает не с формами самими по себе, а с композицией "форма+материя".
Комментарий Дж. Хэмфри (J. Humphrey, зарубежный): Humphrey поясняет, что глагол "делать" (ποιεῖν) в греческом требует объекта. Нельзя "делать круглое", как абстракцию. Можно только "делать круглую вещь". Таким образом, Аристотель показывает грамматическую и онтологическую ошибку тех, кто думает, что творение касается чистой формы.
Комментарий А.Ф. Лосева: Лосев видит здесь полемику с пифагорейцами и платониками, которые склонны оперировать абстракциями как самостоятельными сущностями. Для Аристотеля форма всегда онтологически связана с материей, кроме случая Перводвигателя.