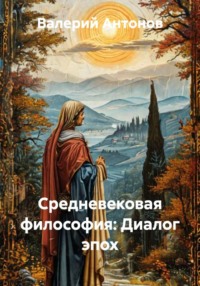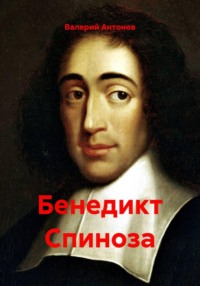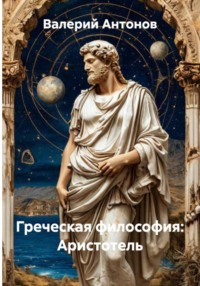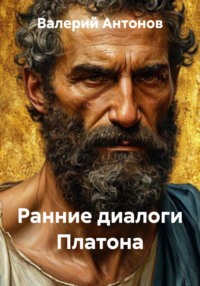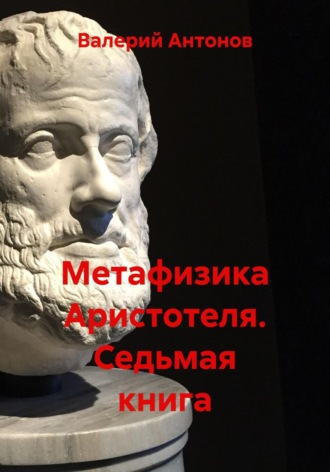
Полная версия
Метафизика Аристотеля. Седьмая книга
Критическое осмысление: Аристотель проводит тонкую градацию самодвижения материи, что является сильной стороной его теории. Однако его пример с огнём, который «движется сам», сегодня выглядит устаревшим с точки зрения физики.
[5-7] Принцип «становления из одноимённого» (ὁμώνυμα)
Текст Аристотеля: «Таким образом, в определенном смысле все создается из чего-то одноименного… например, тепло в движении производит тепло в теле… Поэтому о тепле в движении также говорят, что оно производит здоровье…»
Комментарий и критика:
Это центральный и сложный момент. Аристотель утверждает, что всё возникает из чего-то, что уже имеет ту же форму (а не материю). Это не значит, что из здорового тела возникает здоровое; значит, что действующая причина (движущее тепло) уже обладает некой «формой здоровья», то есть является инструментом, через который форма передаётся материи.
А.В. Кубицкий (переводчик и комментатор Аристотеля) поясняет: врач в уме имеет форму здоровья (логос болезни), и его действия (нагревание, охлаждение) суть движения, направленные к реализации этой формы в теле пациента. Но и естественное тепло тела, которое его исцеляет, действует как если бы оно следовало логосу здоровья, хотя и не обладает им в полной мере (как искусство).
У. Д. Росс (W. D. Ross) в своем фундаментальном комментарии "Aristotle's Metaphysics" пишет:
«The producing heat is not actually health, but it is the means to health, and in that sense a "part" of it. The process of production is the actualization of the form in the patient by the agency of a movement which itself embodies the form in a different way.»
Перевод: «Производящее тепло не есть актуальное здоровье, но оно является средством для достижения здоровья и в этом смысле его «частью». Процесс производства – это актуализация формы в пациенте через посредство движения, которое само воплощает форму иным способом.»
Критическое осмысление: Этот принцип – гениальное решение проблемы наследования свойств и направленности изменения. Однако его формулировка («создаётся из одноимённого») может ввести в заблуждение, если забыть, что речь идёт о форме, существующей в действующей причине, а не о материальном составе.
[8-10] Искусство и природа как параллельные процессы
Текст Аристотеля: «Как началом всего в умозаключении является сущность… так и все, что становится, происходит от понятия. Точно так же обстоит дело и с природными вещами, ибо семя производит так же, как художник…»
Комментарий и критика:
Здесь Аристотель проводит прямую аналогию между искусством (где форма существует в уме мастера как логос/понятие) и природой (где форма существует в семени как внутренняя цель и принцип развития). Это знаменитая мысль: «искусство подражает природе».
Лосев видит здесь основу для последующей европейской философии: природа понимается как бессознательный художник, целесообразно творящий свои произведения. Становление всегда направлено от понятия (логоса) к его воплощению.
Замечание о муле (который не порождает мула) – важное уточнение: правило «подобное рождает подобное» не абсолютно. Оно работает на уровне формы (живое рождает живое), но допускает вариации на уровне материи (мул как гибрид – несовершенное воплощение формы, unable to fully replicate it).
[11-14] Становление в разных категориях и роль субстанции
Текст Аристотеля: «…что не только в отношении сущности форма не может стать, но эти причины в равной мере относятся ко всем первым вещам… Становится не качественное, а дерево данного качества… всегда должна существовать другая актуальная индивидуальная субстанция, которая производит…»
Комментарий и критика:Это итог всей главы. Аристотель распространяет свою модель становления за пределы категории сущности (например, становление определённого размера или цвета).
Не становится «цвет» или «размер» сами по себе. Становится субстанция (дерево, животное), которая приобретает этот цвет или размер.
Форма не «становится», она есть то, что приобретается в процессе становления, то, что задаёт его цель и сущность.
Материя (например, бронза) должна существовать заранее.
Действующая причина – это всегда актуально существующая субстанция (например, взрослое животное, порождающее другое животное; художник, создающий статую).
Росс комментирует: «The central point is that all change presupposes a substratum which persists and an agent already in actual possession of the character to be produced.»
Перевод: «Центральный момент заключается в том, что всякое изменение предполагает некоторый субстрат, который сохраняется, и некий агент, уже актуально обладающий свойством, которое должно быть произведено.»
Критическое осмысление: Этот вывод онтологически обосновывает примат субстанции над всеми другими категориями. Все изменения в свойствах (качественных, количественных) возможны только потому, что существует первичная сущность, которая эти изменения претерпевает или вызывает. Это мощная и последовательная система, однако она сталкивается с трудностью при объяснении возникновения первой сущности – проблема, которая в конечном итоге приводит Аристотеля к постулированию Неподвижного Перводвигателя в последующих книгах.
Общий вывод по главе 9.
Глава 9 представляет собой целостную и взаимосвязанную теорию становления, объединяющую физику (учение о движении) и метафизику (учение о сущности и форме). Критическая сила подхода Аристотеля – в отказе от платоновского дуализма и в нахождении имманентных причин изменения в самой материи (потенция) и форме (энергия, энтелехия), которые всегда связаны с актуально существующей субстанцией. Слабость, отмечаемая современными комментаторами, заключается в некоторой телеологичности и антропоморфизме, особенно в применении модели человеческого искусства к природным процессам.
Обобщение: Причины становления по Аристотелю.
Основная проблема главы: Как возможно возникновение (γένεσις) нового, тождественного себе по форме, из чего-то иного? Аристотель решает этот парадокс, применяя свою теорию четырёх причин к процессам как искусственного (τέχνη), так и естественного (φύσις) становления.
Ключевые выводы и обобщения:
1. Критерий различия: внутреннее начало движения в материи.
Главное различие между процессами становления заключается не столько в противопоставлении искусства и природы, сколько в способности материи к самодвижению.
Искусство необходимо там, где материя инертна (например, камни для дома не могут двигаться сами к форме дома). Требуется внешний агент (мастер), обладающий «формой в уме».
Естественное становление возможно там, где материя обладает внутренним принципом (ἀρχή) движения к определённой форме (например, организм стремится к здоровью, семя – к взрослому растению). Здесь искусство извне лишь помогает актуализировать внутреннюю потенцию.
2. Материя как динамическая потенция (δύναμις).
Материя у Аристотеля – не пассивный субстрат, а потенция к определённым изменениям. Она онтологически наделена возможностью становиться чем-то иным. «Естественное» становление возможно именно потому, что материя уже содержит в себе потенцию к определённой форме и имманентную тенденцию к её актуализации.
3. Принцип «становления из одноимённого» (ὁμώνυμα).
Это центральный тезис для объяснения направленности и наследования формы. Всё возникает из чего-то, что уже актуально обладает той же формой, но не материально, а как движущая причина.
Врач обладает формой здоровья в своём уме (как «логос»), и его действия – это инструмент передачи этой формы.
Природное тепло, исцеляющее тело, действует как если бы оно обладало «формой здоровья», являясь её средством и частью процесса.
Таким образом, форма не возникает из ничего, а переходит от действующей причины (агента) к материи (пациенту), актуализируя заложенную в ней потенцию.
4. Параллелизм искусства и природы.
Аристотель проводит прямую аналогию между двумя типами становления:
В искусстве: Форма существует в уме мастера как понятие (логос) и цель, которой подчинены все его действия.
В природе: Форма существует внутри самой вещи (в семени) как внутренняя цель (энтелехия) и принцип развития.
Таким образом, природа понимается как бессознательный художник, целесообразно творящий свои произведения, а искусство – как сознательное подражание природе. Становление всегда есть движение от логоса (понятия/формы) к его воплощению.
5. Онтологический примат субстанции (οὐσία).
Теория становления универсальна и распространяется на все категории (качество, количество и т.д.), но всегда основывается на субстанции.
Не становится «цвет» или «размер» сами по себе. Становится субстанция (например, дерево), которая приобретает этот цвет или размер.
Форма не «становится» – она есть то, что приобретается, цель процесса.
Любое изменение требует:
Субстрата (материи), который сохраняется на протяжении изменения.
Актуально существующего агента (другой субстанции), который уже обладает передаваемой формой (как мастер или родитель).
Общий философский итог:
Глава 9 предлагает целостную имманентную теорию становления, где причины изменения находятся не в трансцендентном мире идей (как у Платона), а в самой структуре сущего: в потенции материи, в энергии формы и в актуальности движущего начала. Это блестящее соединение физики (учение о движении) и метафизики (учение о сущности).
Критическое замечание (от комментаторов):
Сила системы – в её последовательности и объяснительной мощи. Слабость усматривается в определённой телеологичности и антропоморфизме, особенно в проекции модели сознательной, целеполагающей человеческой деятельности (искусства) на все без исключения процессы природы.
Глава 10. Отношение части и целого: различение материальных и сущностных частей в определении.
Общий контекст главыАристотель в 7-й книге («Зете») исследует сущность (οὐσία, субстанцию). В главе 10 он углубляется в вопрос о том, что является частями сущности вещи, а что – нет, и, соответственно, что должно входить в ее определение (λόγος). Ключевое различие, которое он вводит – между частями формы (или вида, εἶδος) и частями материи (ὕλη). Это различие фундаментально для понимания его учения о сущности и определении.
Критический разбор по абзацам[1] Поскольку определение есть понятие, а всякое понятие имеет части, и поскольку понятие связано с вещью, так что часть понятия связана с частью вещи, возникает вопрос, должно ли понятие содержаться в понятии целого или нет.
Перевод/Парафраз: Определение – это логическая структура (λόγος), состоящая из частей. Эти части должны каким-то образом соответствовать частям самой определяемой вещи. Но должны ли части вещи обязательно быть частями ее понятия (определения)?
Комментарий (Лосев, Бугай): Аристотель ставит центральную проблему соотношения логического и онтологического. Части понятия – это роды и видовые отличия. Части вещи могут быть физическими (органы животного) или метафизическими (форма и материя). Вопрос в том, как они соотносятся. Лосев подчеркивает, что Аристотель здесь готовится к строгому разделению: в определение входят только те «части», которые являются частями формы, а не материи.
Критическое описание: Аристотель начинает с, казалось бы, простого лингвистического наблюдения о определениях, чтобы выйти на глубокую онтологическую проблему: что в вещи является существенным (субстанциальным), а что – акцидентальным или материальным.
[2] С некоторыми вещами мы обнаруживаем, что части содержатся в понятии целого, с другими – что нет. Например, понятие круга не содержит в себе понятия частей круга, а понятие слога содержит понятие звуков, хотя круг делится на части круга так же, как слог делится на свои элементы.
Перевод/Парафраз: Эмпирически мы видим, что в одних случаях части входят в определение (слог определяется через буквы-звуки), а в других – нет (круг не определяется через свои сегменты), хотя и круг, и слог делимы на части.
Комментарий (Бугай): Этот пример является отправной точкой для анализа. Различие между слогом и кругом не очевидно и требует объяснения. Почему для одного части конститутивны, а для другого – нет? Бугай указывает, что Аристотель наводит нас на мысль, что дело не в физической делимости, а в природе самого целого.
Критическое описание: Аристотель использует феноменологический метод: он апеллирует к нашему интуитивному пониманию определений. Это не просто произвольные примеры; они служат парадигмами для двух разных типов целостности: одна (слог) зависит от конкретных частей, другая (круг) – от абстрактной формы.
[3] Кроме того, если части раньше целого, но острый угол является частью права, а палец – частью животного, то острый угол будет раньше права, а палец – раньше человека. Однако не похоже, чтобы [4] части были более ранними, поскольку они производны по своему понятию от последнего, целого, а более ранним всегда является то, что может быть без другого.
Перевод/Парафраз: Если считать, что части онтологически первичнее целого, то выходит, что палец первичнее человека, а острый угол – прямого. Но это абсурдно, так как понятие «пальца» или «острого угла» логически выводится из понятия целого («палец чего?», «часть какого угла?»). По-настоящему первичное – это то, что может существовать самостоятельно (целое), а не часть, которая зависит от него.
Комментарий (Лосев): Лосев видит здесь полемику с платоновско-пифагорейской традицией, где элементы (части) часто считались первичными. Аристотель утверждает примат целого над частью. Целое (сущность) онтологически и логически первично. Палец как часть тела не существует отдельно от тела, а значит, его сущность как пальца определяется его функцией в целом.
Критическое описание: Это ключевой аргумент против редукционизма. Аристотель показывает, что сущность сложного объекта не может быть сведена к простой сумме его материальных частей. Целое обладает emergent property – формой, которая и определяет, чем являются его части.
[5] …оставим это в стороне и рассмотрим, что является частью индивидуальной субстанции. Если одно есть материя, другое [6] форма, третье – продукт того и другого, а и материя, и форма, как продукт того и другого, есть субстанция, то до некоторой степени материю тоже можно назвать частью чего-то, но до некоторой степени нет, а [7] только то, что является частью понятия формы.
Перевод/Парафраз: Вернемся к сущности (например, отдельному человеку – Сократу). Она составлена из материи (тело) и формы (душа). И материя, и форма – это принципы сущности. Материю в некотором смысле можно назвать частью сущности (Сократа), но в строгом смысле частями сущности являются только части формы (части понятия, определяющего его вид).
Комментарий (Бугай): Здесь Аристотель делает решающий шаг. Он проводит различие между «частью» в широком смысле (физический компонент) и «частью» в строгом, метафизическом смысле (компонент формы или определения). Материя – это часть составного целого (синолу), но не часть формы (эйдоса) и, следовательно, не часть определения.
Критическое описание: Это ядро главы. Аристотель четко разделяет онтологическую композицию (вещь состоит из формы и материи) и логическую структуру (определение состоит только из рода и видового отличия, т.е. из частей формы). Материя не входит в сущностное определение.
[8] …ибо именно форма должна быть выражена и ею должна быть названа каждая вещь; [9] материал сам по себе невыразим.
Перевод/Парафраз: Определение выражает форму (эйдос) вещи. Именно форма делает вещь тем, что она есть. Материя же сама по себе есть нечто неопределенное, лишенное конкретных характеристик («невыразима»).
Комментарий (Лосев): Лосев подчеркивает, что «невыразимость» материи (ἄποιον ὕλη – «бескачественная материя») – ключевой момент. Материя есть чистая потенция, возможность стать чем-то. Определение же имеет дело с действительностью, с тем, что уже есть. Поэтому материя не может быть частью определения.
Критическое описание: Этот тезис имеет огромные последствия для науки и философии. Наука, ищущая определения и сущности (что есть жизнь, что есть сознание), по Аристотелю, должна искать формальные и целевые причины, а не просто перечислять материальные компоненты (молекулы, клетки, нейроны).
[10] …понятие круга не содержит понятия сегментов круга… ибо звуковые элементы – это части понятия формы, а не материи, тогда как сегменты круга, из которых образуется круг, – это материальные части…
Перевод/Парафраз: Теперь разрешается загадка из [2]. Буквы (звуки) являются частями формы слога (поскольку форма слога – это определенная комбинация звуков). Сегменты круга – это лишь материальные части, через которые может быть реализована форма круга (кругообразность), но они не являются частью самой формы.
Комментарий (Бугай): Бугай уточняет, что форма слога – это его звуковой образ, паттерн. Поэтому элементы этого паттерна конститутивны. Форма круга – это определенное соотношение всех точек к центру. Отдельные сегменты не несут в себе этой формы; они лишь материальные воплощения ее фрагментов.
Критическое описание: Аристотель показывает, что один и тот же физический объект можно рассмотреть с двух точек зрения: формальной и материальной. В зависимости от этого его «части» будут иметь разный статус.
[11] В определенном смысле даже не все звуковые элементы содержатся в понятии слога, например, восковые звуки и звуки в воздухе: ведь они тоже [12] материальные части слога.
Перевод/Парафраз: Даже в слоге не всякая часть формальна. Звук, как физическое явление (колебания воздуха или след на воске), – это материя слога. В определение слога входит звук не как физическое явление, а как семиотический, смыслоразличительный элемент (фонема).
Комментарий (Лосев): Лосев видит здесь блестящее углубление анализа. Аристотель проводит дифференциацию и внутри, казалось бы, формальных частей. Он отделяет идеальную, функциональную единицу (букву как элемент алфавита) от ее физического воплощения (звучания или графического символа). В определение входит только первое.
Критическое описание: Это проявление фундаментального принципа: определение схватывает чтойность (τὸ τί ἦν εἶναι), сущность, а не акцидентальные свойства ее материального носителя. Для определения слога «BA» неважно, произнесен он басом или дискантом, написан мелом или чернилами.
[12] И даже линия, хотя она погибает, как только разделяется на половинки, или человек, который погибает, когда разделяется на кости, сухожилия и плоть, не включает, таким образом, эти составные части в себя как части своего понятия, но как материальные части: они – части целого, но не части формы и понятийного бытия, и поэтому не входят в понятийные определения.
Перевод/Парафраз: Тот факт, что целое разрушается при разделении, доказывает, что его сущность – это форма, а не материя. Линия, разделенная пополам, – это уже две линии, а не одна. Человек, расчлененный, – это труп, а не человек. Следовательно, части, на которые мы его делим, – это части его материи, а не его формы (души, которая и есть сущность живого тела). Поэтому в определение человека входит «разумное живое существо», а не «плоть и кости».
Комментарий (Бугай, зарубежные комментаторы): Этот абзац – кульминация аргумента. Критерий уничтожения целого при разделении показывает, что истинное целое – это форма, организующая материю. Форма – это принцип единства и существования вещи. Поэтому части формы – это элементы ее определения (род и вид), а части материи – это лишь компоненты, которые она организует.
Критическое описание: Аристотель дает мощный телеологический аргумент. Сущность вещи – это ее функция, ее деятельность (ἐνέργεια). Части определены по отношению к этой деятельности (рука для хватания, глаз для зрения). Следовательно, определение должно указывать на эту деятельность (форму), а не на inert material.
(критический синтез с 1 – 12)Глава 10. Отношение части и целого: различение материальных и сущностных частей в определении.
Глава 10 представляет собой концептуальную революцию. Аристотель проводит жесткую и плодотворную границу между:
Частями формы (μέρη τοῦ εἴδους): Это компоненты определения (род и видовое отличие). Они логичны, выразимы и конститутивны для сущности.
Частями материи (μέρη τῆς ὕλης): Это физические компоненты, которые могут существовать отдельно (как простые тела) или не могут (как органы). Они невразумительны сами по себе и не входят в сущностное определение.
Это различие позволяет Аристотелю:
Объяснить наши интуитивные практики определения (почему мы определяем одно через части, а другое – нет).
Обосновать примат целого (формы) над частями (материей) как в онтологии, так и в логике.
Заложить основание для функционального подхода к определению сущности: вещь определяется тем, чем она является в своей деятельности, а не тем, из чего она сделана.
Критики (уже в древности) могли бы отметить, что это различие не всегда применимо так же четко, как в примерах с кругом и слогом (например, в биологии форма и материя тесно переплетены). Однако сама рамка анализа оказалась чрезвычайно продуктивной для всей последующей западной философии и науки.
Критический разбор продолжения главы.
[13] …по этой причине одни вещи принципиально состоят из того, в чем они сливаются, а другие – нет.
Перевод/Парафраз: Поэтому одни вещи (конкретные, составные) по своей сути состоят из материи, в которую они «разлагаются» (растворяются при уничтожении), а другие (чистые формы, понятия) – нет.
Комментарий (Лосев): Лосев видит здесь развитие учения о синолу (σύνολον) – составной сущности, которая и есть единство материи и формы. Такая сущность «принципиально состоит» из своей материи, так как без нее она не может существовать как конкретная вещь. Однако ее сущность (чтойность) от этой материи независима.
Критическое описание: Аристотель вводит важный критерий: то, на что вещь разлагается, показывает, из чего она материально состоит. Но это не раскрывает ее сущностного состава.
[14] …но то, что не соединено с материей, но без материи, и чье понятие есть чистое понятие формы, не переходит, либо не переходит вовсе…
Перевод/Парафраз: Но чистая форма (например, математический круг, понятие «души» как таковое), не соединенная с конкретной материей, не «переходит» (не разлагается) на материальные части, потому что у нее их просто нет.
Комментарий (Бугай): Бугай подчеркивает, что Аристотель здесь говорит об абстрактных объектах (математических) и о формах, рассматриваемых отдельно в логике. Их бытие идеально, и потому они не подвержены материальному распаду. Их «части» – исключительно логические (род и вид).
Критическое описание: Это различие между конкретной сущностью (бронзовый шар) и ее формой (шаровидность) фундаментально. Наука, по Аристотелю, должна стремиться к познанию формы, но делает она это через изучение конкретных вещей.
[15] …глиняный столб растворяется в земле, бронзовый шар – в руде, Каллий – в плоти и кости, а круг – в круговых секциях…
Перевод/Парафраз: Конкретные вещи при уничтожении возвращаются в состояние своей материи: изделие – в материал, живое существо – в органическую массу, нарисованный круг – в сегменты линий.
Комментарий (Зарубежные комментаторы): Этот ряд примеров иллюстрирует иерархию материи. «Земля» и «руда» – это уже не просто материя, а «материя второй степени», прошедшая некоторую обработку. Но ключевой момент: процесс уничтожения идет в направлении, обратном процессу создания: от формы назад к материи.
Критическое описание:Аристотель демонстрирует универсальность своей схемы «форма-материя». Она применима к артефактам, живым существам и даже геометрическим фигурам, реализованным в материи (нарисованным).
[16] …круг как понятие и отдельный круг имеют одно и то же имя, потому что [17] отдельные вещи не имеют определенного имени.
Перевод/Парафраз: Мы используем одно слово «круг» и для идеального понятия, и для нарисованного мелом круга. Это происходит из-за бедности языка: у нас нет отдельного имени для каждой конкретной вещи (например, «круг №1», «круг №2»), поэтому мы именуем их по их форме.
Комментарий (Лосев): Лосев усматривает здесь важнейший момент: проблема омонимии. Конкретный круг и круг как эйдос названы одинаково, но их онтологический статус различен. Это одна из центральных проблем метафизики: соотношение общего и отдельного. Язык схватывает общее (форму), а реально существуют отдельные вещи.
Критическое описание: Аристотель указывает на источник многих философских заблуждений: перенос свойств конкретных вещей (которые материальны и destructible) на их сущностную форму (которая идеальна и вечна в понятии).
[18] Части понятия и моменты, на которые делится понятие, либо полностью, либо частично предшествуют понятию… понятие прямого угла не делится на понятие острого угла, а понятие острого угла – на понятие прямого…