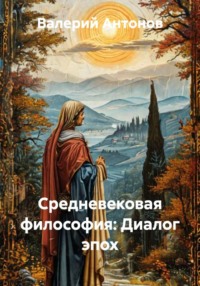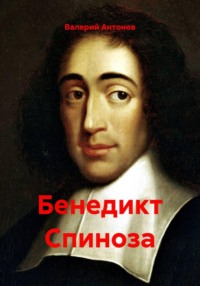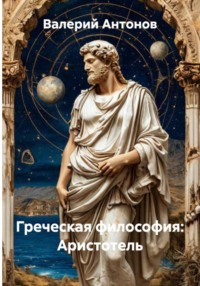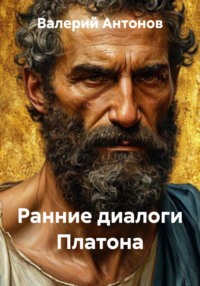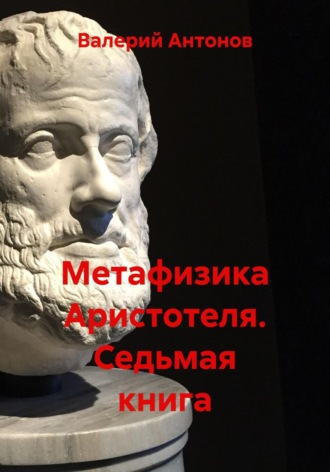
Полная версия
Метафизика Аристотеля. Седьмая книга
Комментарий и критика:
Аристотель формулирует критерий: определение сложного понятия не может обойтись без упоминания субстанции, к которой оно относится. Нельзя определить «курносость» без упоминания «носа», «нечетность» – без «числа», «мужественность» – без «животного». Это означает, что подобные сложные понятия онтологически зависимы от первичных сущностей.
Лосев видит здесь сильную сторону аристотелевской системы: последовательный субстанциализм. Все существующее существует либо как сущность, либо в связи с сущностью. Однако критика заключается в том, что этот принцип делает определение любого не-простого объекта вторичным и производным, potentially обедняя онтологию.
[5] Либо, следовательно, не существует чистого понятия и концептуального определения для любого из этих конкретных понятий, либо, [6] как я уже сказал, каким-то другим способом.
Комментарий и критика:
Аристотель ставит вопрос ребром: если сложные понятия нельзя определить без обращения к субстанции, значит ли это, что для них вообще не существует самостоятельного определения? Или же их определение возможно, но «каким-то другим способом»?
Этот пассаж показывает, что Аристотель осознает ограниченность жесткого подхода. Он оставляет дверь приоткрытой для поиска иного типа определения для не-субстанций, но основной вектор его мысли ведет к первому, более жесткому выводу.
[7] Здесь возникает еще одна трудность. Если полый нос и полый нос – это одно и то же, то полый нос и полый – это одно. Но если нет, то, поскольку невозможно говорить о полом носе в отрыве от предмета, для которого он предназначен (ведь полый нос – это пустота в носу), то либо вообще нельзя называть нос полым, либо дважды говорить одно и то же – полый нос, ибо полый нос будет полым носом. [8] По этой причине невозможно, чтобы существовало концептуальное бытие такой вещи, как полый нос: ведь полый нос снова будет иметь нечто другое, присущее ему.
Комментарий и критика:
Это ядро апории. Аристотель применяет логический анализ:
Если «курносый нос» = «курносость», то мы приходим к абсурду: часть (свойство) равна целому (носу, обладающему свойством).
Если же это не одно и то же (что верно), то мы сталкиваемся с тавтологией в определении. Определить «курносый» как «вогнутый нос» – значит сказать «курносый нос – это нос, который является курносым», то есть дважды повторить одно и то же (нос + курносый). Это не раскрывает сущность, а лишь перефразирует имя.
Вывод: у сложного объекта «курносый нос» нет своей собственной, неделимой сущности («концептуального бытия»). Он лишь комбинация двух других сущностей.
Зарубежные комментаторы (например, M. Frede) видят здесь зарождение проблемы синонимии и аналитичности. Аристотель, по сути, требует, чтобы определение давало новое знание, а не было простой подстановкой синонимов. Его критика тавтологичности очень современна.
[9] Итак, ясно, что существует определение только индивидуальной субстанции: если существует такое определение и других предикатов, то оно обязательно возникает путем сложения, как, например, в случае качественного и нечетного: нечетное нельзя определить без понятия числа, женское – без понятия животного. Определением [10] через дополнение я называю то, при котором приходится говорить одно и то же [11] дважды, как в приведенных примерах.
Комментарий и критика:
Здесь Аристотель делает решительный вывод. Подлинное определение (раскрывающее сущность) возможно только для первичной сущности (например, для «человека» или «лошади»). Все остальное – качества, свойства, отношения – может быть лишь «определено через дополнение» (προσθέσει λέγεσθαι), то есть путем привязки к субстанции. Такое «определение» является тавтологичным и не выражает самостоятельной сущности.
Критический взгляд: Этот вывод радикален. Он implies, что вся наука (за исключением, perhaps, первой философии и теологии) имеет дело не с определениями сущностей, а с описаниями акцидентальных или хотя и сущностных, но зависимых свойств. Это raises вопрос о статусе математики (определение нечетного числа) и биологии (определение самки).
[12] Если это верно, то не будет и определения сложного, например, нечетного числа, но человек идет на это неточно, не осознавая этого. Но если и существуют определения соединенного, то они либо даются по-другому, либо, как уже отмечалось выше, определение и понятие используются в нескольких значениях.
Комментарий и критика:
Аристотель честно применяет свой вывод к другим областям: даже «нечетное число» – сложное понятие, и, следуя его логике, не должно иметь истинного определения. Но люди все же дают такие определения, будучи не до конца строгими.
Однако он делает важную уступку: возможно, есть иной способ определения сложного, или же термин «определение» омонимичен, то есть имеет разный смысл применительно к сущностям и к не-сущностям.
Лосев высоко ценит эту диалектическую осторожность Аристотеля. Философ не просто отвергает все сложные понятия, а указывает на проблему и намечает возможные пути ее решения через анализ значений слов.
[13] Таким образом, с одной стороны, относится исключительно к отдельным субстанциям – определению и понятию, с другой – не исключительно. Теперь ясно, что определение есть понятие сущности [14], и что понятийное бытие либо принадлежит исключительно отдельным субстанциям, либо преимущественно и первично и безусловно.
Комментарий и критика:
Итог главы – компромиссный, но с четко расставленными приоритетами.
В первичном и абсолютном смысле (πρώτως καὶ ἁπλῶς) определение и сущность принадлежат только индивидуальным субстанциям.
В производном и вторичном смысле мы можем говорить о «определениях» и «сущностях» качеств, свойств и отношений, но только как о чем-то зависящем от субстанции.
Бугай и другие современные комментаторы отмечают, что эта глава – не приговор другим категориям, а прояснение их онтологического статуса. Они существуют, но их способ существования – это «бытие-в-другом» (в сущности). Таким образом, Аристотель строит иерархическую онтологию, во главе которой стоит индивидуальная субстанция, а все остальные категории являются ее модусами.
Общий итог критического анализаГлава 5 демонстрирует силу и слабость аристотелевского субстанциализма.
Сила: Логическая строгость, последовательность, защита индивидуального сущего как фундамента реальности. Аристотель успешно показывает проблематичность рассмотрения сложных свойств как самостоятельных сущностей и избегает платоновского гипостазирования идей (например, «идеи курносости»).
Слабость (предмет критики): Выводы главы кажутся излишне редукционистскими. Они ставят под сомнение научный статус любых дисциплин, кроме тех, что изучают простые субстанции. Уступка о «разных смыслах» определения выглядит как запоздалая попытка смягчить слишком жесткий вывод. Проблема определения сложных, но устойчивых единств (как «нечетное число», «радуга», «гроза») в полной мере не решается и остается вызовом для аристотелевской системы.
Комментаторы (и отечественные, и зарубежные) сходятся во мнении, что значение этой главы – не в окончательных ответах, а в постановке глубокой и чрезвычайно важной проблемы отношения языка, логики и онтологии.
Обобщение: Проблема определения сложных сущностей у Аристотеля.
Основной тезис главы: Истинное определение (ὁρισμός), раскрывающее сущность (τί ἐστι), в первичном и абсолютном смысле возможно только для простых, индивидуальных субстанций (первичных сущностей). Определение сложных, составных понятий (таких как «курносый», «нечетное число») проблематично и, если возможно, то лишь во вторичном, производном смысле, через добавление (πρόσθεσις) и привязку к субстанции.
Ключевые выводы и аргументы Аристотеля:Дилемма определения: Возникает апория: если не признавать определение через простое сложение характеристик, то как определить сложные, но целостные понятия? Если же признать такой способ, то определение рискует стать простым перечислением акциденций, не выражающим единой сущности.
Критерий истинного определения: Определение должно быть не-тавтологичным и давать новое знание. Определение «курносый нос» как «нос, обладающий курносостью» нарушает этот принцип, так как является круговым и не раскрывает сущность.
Онтологическая зависимость: Сложные понятия (свойства, качества) онтологически зависимы от первичных сущностей. Нельзя определить «курносость» без ссылки на «нос», а «нечетность» – без ссылки на «число». Их бытие – это «бытие-в-другом».
Два типа предикации: Аристотель различает:
Случайную (акцидентальную): «Каллиас – белый». Белизна не есть сущность Каллиаса.
Сущностную («в порядке фундаментального определения»): «животное – мужское» или «число – нечетное». Здесь свойство хотя и не является самостоятельной сущностью, но определяет способ существования субстанции (ее вид, состояние).
Окончательный вывод: Строго говоря, у сложных образований нет своей собственной, неделимой сущности («концептуального бытия»). Они являются комбинациями. Поэтому:
Первично и абсолютно определение относится только к индивидуальным субстанциям.
Вторично и по-другому мы можем говорить о «определениях» свойств и качеств, но лишь как об описаниях, данных «через добавление» к субстанции.
Критическая оценка (на основе комментариев):
Сила позиции Аристотеля:
Логическая строгость: Последовательный субстанциализм защищает мир от превращения каждого свойства в отдельную сущность (критика платоновского гипостазирования идей, например, «идеи курносости»).
Прояснение онтологического статуса: Четко выстраивает иерархию бытия: во главе – независимая субстанция, все остальные категории – ее зависимые модусы.
Актуальность: Поднятая проблема тавтологичности и аналитичности в определениях остается крайне важной для философии и логики по сей день.
Слабость и проблемность позиции:
Редукционизм: Выводы главы излишне жестки. Они ставят под сомнение научный статус дисциплин, изучающих сложные, но устойчивые единства (математика – «нечетное число», физика – «гроза», биология – «самка»). Если у них нет истинных определений, то что же тогда дает их наука?
Недоработанность альтернативы: Уступка о том, что определение может иметь «несколько значений» или что сложное можно определить «каким-то другим способом», выглядит как намек на решение, а не само решение. Это ослабляет жесткость основной позиции, но не предлагает четкой альтернативной модели.
Проблема статуса сложных свойств: Не до конца ясно, как надежно отличить сущностное свойство («мужественность» животного) от акцидентального («белизна» Каллиаса), если оба онтологически зависимы.
Общее значение главы:Глава 5 имеет методологическое, а не догматическое значение. Ее главная ценность – не в окончательных ответах, а в глубокой и точной постановке фундаментальной проблемы на стыке логики, языка и онтологии: как язык и логические определения соотносятся со сложной структурой реальности? Аристотель не столько закрывает вопрос, сколько открывает поле для дальнейших исследований, очерчивая границы применимости своего ключевого понятия – определения.
Глава 6. Тождество вещи и её сущности: критический анализ и доказательство единства.
Общий контекст главыАристотель в этой главе решает центральный вопрос своей онтологии: является ли сущность (οὐσία) вещи тождественной ее понятию (λόγος τῆς οὐσίας, определение, формула сущности). Это прямой вызов платоновской теории идей, где идея (эйдос) существует отдельно от вещи. Аристотель доказывает, что для первичной сущности (индивидуальной субстанции) такое тождество необходимо, в то время как для акциденталий (случайных свойств) – нет.
Последовательно-абзацный анализ[1] Тождественна ли какая-либо вещь своему понятию или нет, должно быть принято во внимание, поскольку это способствует исследованию индивидуальной субстанции. Ибо каждая вещь представляется не чем иным, как своей сущностью, а понятие есть сущность каждой вещи.
Комментарий (Лосев, Бугай): Аристотель сразу задает тон исследованию, связывая проблему тождества с анализом индивидуальной субстанции (τode τι – «вот это нечто»). Утверждение, что «каждая вещь есть своя сущность», – ключевой тезис. Это означает, что сущность не есть нечто внешнее по отношению к вещи (как у Платона), а является ее внутренним принципом и причиной бытия. «Понятие» (λόγος τῆς οὐσίας) здесь – не психологическое представление, а логическое определение, выражающее чтойность (τὸ τί ἦν εἶναι) вещи, то есть ее сущность. Таким образом, вопрос ставится так: тождественна ли сама вещь (как сущность) своему собственному определению?
[2] В случае с тем, что утверждается как факт, понятие и сущность кажутся различными, например, белый человек отличается от понятия белого человека.
Комментарий (Бугай): Здесь Аристотель вводит важнейшее различие между субстанцией (сущностью) и акциденцией (случайным свойством). «Белый человек» – это не первичная сущность, а сложное образование: субстрат (человек) плюс акцидентальное свойство (белизна). Его понятие также будет сложным и составным. Поэтому их тождество неочевидно и проблематично. Это отправная точка для критики.
[3-4] Если бы оба понятия были тождественны, то понятие человека и понятие белого человека также были бы тождественны… Поэтому нет необходимости в том, чтобы случайное было тождественно своему понятию…
Комментарий (Лосев): Аристотель применяет метод reductio ad absurdum (сведение к абсурду). Если бы мы признали тождество вещи и понятия для акцидентальных комплексов (вроде «белого человека»), это привело бы к смешению сущностных и не-сущностных предикатов. Понятие «человека» (сущность) и понятие «белого человека» (сущность + акциденция) были бы одним и тем же, что абсурдно. Критический вывод: Для акциденций (случайных свойств) и их сочетаний с субстанцией тождество с понятием не необходимо.
[5-7] Но необходимо ли в случае бытия-для-себя, чтобы понятие и бытие были тождественны? Предположим, например, что существуют известные субстанции, более ранние… которые некоторые называют идеями. Ведь если реальное благо отличается от понятия блага… то, кроме упомянутых, должны существовать и другие субстанции… Если же оба [понятие и сущность] отделить друг от друга, то не будет ни науки об одном, ни сущности о другом.
Комментарий (Бугай, Лосев): Аристотель переходит к главному – к сущностям самым по себе (καθ' αὑτά). Он использует гипотезу идей Платона, чтобы показать ее внутреннее противоречие.
Аргумент «третьего человека»: Если идея Блага (реальное благо) отлична от своего понятия (λόγος), то должно существовать нечто третье, что опосредует это отношение, и так до бесконечности. Это классическое возражение Аристотеля против Платона.
Гносеологический аргумент: Наука (ἐπιστήμη) возможна только тогда, когда наше понятие (знание) адекватно самой вещи. Если сущность (идея) и ее понятие радикально разделены, познание становится невозможным. Мы будем знать лишь понятия, но не сами сущности, и наоборот.
[8-11] Ибо наука о вещи имеет место, когда мы узнали ее понятие… Отсюда с необходимостью следует, что хорошее тождественно понятию хорошего, прекрасное – понятию прекрасного…
Комментарий (Лосев): Это кульминация аргументации. Аристотель делает сильный онтологический вывод из гносеологического требования. Если понятие бытия не есть само бытие, то оно ложно, и все знание рушится. Чтобы знание было истинным, а не пустым именованием, сущность вещи должна быть тождественной ее понятию. Это тождество справедливо не для акциденций, а для того, что существует «не в другом, а в себе и для себя и сущностным образом» (μὴ κατ' ἄλλο ἀλλὰ καθ' αὑτὰ καὶ ἁπλῶς). То есть для первичных сущностей.
[12] Этот результат достаточен, даже если нет идей, и, возможно, тем более, если идеи есть.
Комментарий (Бугай): Аристотель подчеркивает силу своего аргумента. Он работает независимо от принятия или отрицания теории идей. Более того, если идеи и существуют, то его аргумент их не опровергает, а, наоборот, предъявляет к ним жесткое требование: каждая идея должна быть тождественна своему собственному понятию, а не быть отделенной от него.
[13-16] В то же время ясно, что субстрат не может быть единой субстанцией, если идеи таковы… Согласно этим причинам, каждая вещь не просто случайно тождественна своему понятию… о случайном… нельзя с достоверностью сказать, что его понятие и его действительное бытие – одно и то же…
Комментарий (Лосев): Здесь Аристотель суммирует и проводит окончательное разграничение.
Для первичных сущностей (индивидуальных, например, вот этого человека Сократа): его сущность (чтойность – быть человеком) тождественна понятию «человека». Этот конкретный человек есть его сущность, выраженная в понятии.
Для акциденций и сложных сущих: Тождества нет. Аристотель уточняет: акциденция (напр., белизна) двусмысленна. Она может означать и само свойство (белизну как качество), и обладателя свойства (белого человека). Свойство в себе может быть тождественно своему понятию (понятие «белизны» выражает сущность белизны), но свойство как принадлежащее субстрату – нет.
[17-18] Вся несостоятельность разделения понятия и реального бытия стала бы очевидной… Но почему бы не считать нечто тождественным с его понятийным бытием… если понятие есть субстанция? Но не только понятие и реальное бытие тождественны, но даже их мысль – одно и то же… Если бы понятие и бытие различались, это продолжалось бы до бесконечности…
Комментарий (Бугай): Аристотель приводит два дополнительных мощных аргумента против разделения:
Аргумент от бесконечного регресса: Если вещь (А) отлична от своего понятия (П1), то для понятия П1, которое тоже является неким «сущим», должно существовать свое понятие (П2), и так до бесконечности. Это делает познание невозможным. Единственный способ остановить регресс – признать тождество вещи и ее понятия на уровне сущности.
Аргумент от единства мысли и бытия: Мысль о сущности (понятие) и сама сущность – одно и то же. Это не означает субъективный идеализм, а говорит о том, что ум (νοῦς), постигая сущность, становится ею в акте мышления (как подробнее будет сказано в кн. XII). Форма вещи в уме тождественна форме вещи в самой вещи.
[19-21] Итак, ясно, что в случае сущностного и внутренне существующего понятие и реальность – одно и то же. Таким образом, софистические возражения… против вопроса о том, являются ли Сократ и понятие Сократа одним и тем же, также разрешаются…
Комментарий (Лосев): Аристотель применяет свой вывод к разрешению софистической проблемы. Софисты смешивали уровни: они спрашивали, тождественен ли конкретный индивид Сократ (со всеми его случайными свойствами: бледный, сидящий и т.д.) понятию «Сократ». Правильный ответ, по Аристотелю, заключается в том, что Сократ как сущность (как человек, как живое существо определенного вида) тождествен понятию своей сущности («человек»). Но Сократ как конкретный чувственный комплекс – нет. Таким образом, вопрос снимается путем уточнения, о каком аспекте бытия Сократа идет речь.
Критическое резюме на основе комментаторовКритика Платона: Глава является образцом полемики Аристотеля с учителем. Он не отвергает «эйдос» (форму) как таковой, но отвергает его самостоятельное существование в виде идеи. Эйдос существует в самой вещи и тождествен ее внутренней сущностной формуле.
Различение сущности и акциденции: Фундаментальный вклад Аристотеля – четкое разделение сфер, где тождество с понятием имеет место (сущность), и где оно отсутствует (акциденция). Это различение снимает множество псевдопроблем.
Онтологизация логики: Аристотель показывает, что логические структуры (понятия, определения) не являются чисто мыслительными конструкциями; они отражают реальную структуру бытия самой сущности. Истинное определение открывает саму вещь.
Гносеологический оптимизм: Тезис о тождестве бытия и мысли лежит в основе аристотелевской уверенности в возможности истинного, адекватного познания мира. Познать вещь – значит постичь ее сущность, которая и выражена в понятии.
Проблема индивидуации: Комментаторы (особенно Лосев) отмечают, что хотя Аристотель и доказывает тождество для индивидуальной субстанции, остается вопрос: как индивидуальное (уникальное, невыразимое) тождественно всеобщему (понятию, которое по природе своей обще)? Аристотель намечает ответ через понятие формы, реализованной в материи, но проблема остается одной из центральных в средневековой и новой философии.
Таким образом, 6-я глава – это стержневой текст, в котором Аристотель утверждает единство логики, онтологии и эпистемологии через принцип тождества сущности вещи и ее понятия, одновременно проводя жесткую и плодотворную границу между миром сущностей и миром случайных свойств.
Обобщение: Тождество вещи и её сущности
Основной тезис: Для первичных сущностей (индивидуальных субстанций) сама вещь тождественна своей сущности (τὸ τί ἦν εἶναι – чтойности), а сущность тождественна своему понятию (λόγος τῆς οὐσίας – определению, формуле сущности). Для акциденций (случайных свойств) и сложных образований (вроде «белый человек») такое тождество отсутствует.
Ключевые выводы и аргументы Аристотеля:Постановка центральной проблемы: Вопрос о тождестве вещи и ее понятия прямо вытекает из исследования индивидуальной субстанции. Утверждение, что «каждая вещь есть своя сущность», является фундаментальным и отрицает платоновское отделение идеи (эйдоса) от вещи.
Критика платоновского дуализма: Аристотель использует классические аргументы против теории идей:
Аргумент «третьего человека»: Если идея Блага отлична от своего понятия, то требуется третье, их объясняющее, что ведет к дурной бесконечности.
Гносеологический аргумент: Если сущность (идея) и ее понятие разделены, то познание становится невозможным. Мы будем знать лишь понятия, но не сами сущности. Истинная наука (ἐπιστήμη) требует тождества объекта знания и его понятия в уме.
Различение сущности и акциденции: Это главный методологический инструмент главы.
Для акциденций («белый человек»): Тождества с понятием нет. Понятие «белого человека» – сложное и составное, оно не выражает единой сущности. Признание тождества здесь ведет к абсурду (смешению сущности «человека» и акцидентального комплекса «белый человек»).
Для первичных сущностей («вот этот человек»): Их сущность (быть человеком) тождественна понятию «человека». Конкретный индивид есть его сущность, выраженная в определении.
Онтологическое доказательство единства: Аристотель приводит дополнительные логические аргументы:
Аргумент от бесконечного регресса: Если вещь (А) отлична от своего понятия (П1), то для П1 должно существовать свое понятие (П2), и так до бесконечности. Остановить регресс можно, лишь признав изначальное тождество.
Аргумент от единства мысли и бытия: Мысль о сущности (понятие) и сама сущность – одно и то же в акте познания. Ум, постигая форму вещи, становится ею.
Ответ софистам: Софистические возражения (тождественен ли Сократ понятию «Сократ») снимаются путем разграничения аспектов: Сократ как сущность (как человек) тождествен понятию своей сущности («человек»). Сократ как конкретный чувственный комплекс (бледный, сидящий) – нет.
Критическая оценка (на основе комментариев):Сила и значение позиции Аристотеля:
Опровержение платонизма: Эффективная критика отдельно существующих идей. Аристотель «возвращает» эйдос в саму вещь в качестве имманентного принципа и формы.
Фундамент для научного познания: Тезис о тождестве сущности и понятия лежит в основе аристотелевского эпистемологического оптимизма. Он гарантирует, что наши определения и понятия могут адекватно отражать реальную структуру бытия.
Синтез логики и онтологии: Глава демонстрирует глубокое единство у Аристотеля логических структур (определение, понятие) и онтологических структур (сущность, форма). Логика является инструментом постижения бытия.
Четкое категориальное разграничение: Разделение на сущность и акциденцию является мощным аналитическим инструментом, позволяющим избежать множества логических и метафизических ошибок.
Проблемные места и критика:Проблема индивидуации: Это центральная проблема, отмеченная комментаторами (Лосев). Если сущность выражается во всеобщем понятии («человек»), то как оно может быть тождественно индивидуальной субстанции (уникальному Сократу)? Понятие «человек» одинаково и для Сократа, и для Платона. В чем тогда состоит их индивидуальная сущность? Аристотель намечает ответ через понятие материи как принципа индивидуации, но эта проблема остается открытой и становится ключевой для последующей философии.
Статус акциденций: Хотя Аристотель ясно показывает, что акциденции не тождественны своему понятию в том же смысле, что и сущности, их онтологический статус (способ бытия «в другом») требует дальнейшего прояснения.