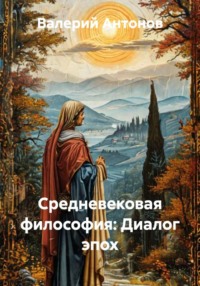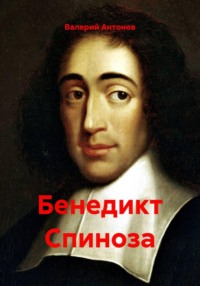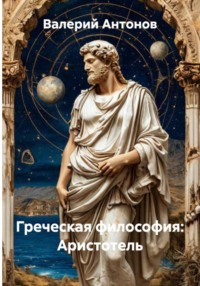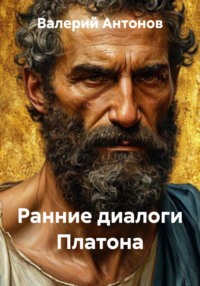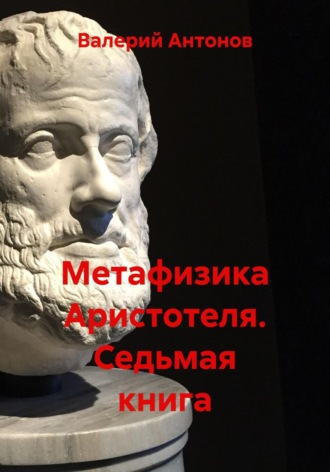
Полная версия
Метафизика Аристотеля. Седьмая книга
Критическое описание: Аристотель проводит важное различие между операцией с абстракциями в уме и реальным физическим процессом. Его аргумент силен против наивного понимания идей, но менее убедителен против зрелого платонизма, где идеи являются не абстракциями, а причинными структурами бытия.
[4] Если бы нужно было произвести форму, то пришлось бы производить ее из чего-то другого, субстрата: если, например, делают бронзовый шар, то это делается так, что из чего-то, а именно из руды, получается другое нечто, а именно шар.
Комментарий:
Аристотель начинает reductio ad absurdum (довод до абсурда) против платоновского понимания творения идей. Если бы форма (эйдос) сама по себе требовала производства, то для этого потребовался бы свой собственный субстрат и своя форма (эйдос эйдоса), и так до бесконечности.
Комментарий М. Фреде (M. Frede, зарубежный): Frede отмечает, что этот аргумент направлен против теории, которая рассматривает формы как продукты некоего божественного ремесла (демиурга) по модели человеческого. Аристотель показывает, что такая модель логически несостоятельна, так как ведет к дурной бесконечности.
Комментарий Д.В. Бугая: Бугай подчеркивает, что форма для Аристотеля – это не продукт, а принцип производства. Она есть то, что сообщается материи, а не то, что возникает из материи.
Критическое описание: Этот аргумент – один из самых сильных в арсенале Аристотеля против платонизма. Он показывает, что понятие "творение формы" логически противоречиво. Форма должна быть вечной и неизменной, чтобы служить объяснением изменения.
[5] Если бы теперь нужно было также сделать форму, то, очевидно, пришлось бы снова сделать ее тем же способом (а именно из формы и материи), и таким образом производство продолжалось бы до бесконечности.
Комментарий:
Это прямое продолжение и завершение reductio ad absurdum. Гипотеза о становлении формы ведет к бесконечному регрессу (форма₁ возникает из материи₁ и формы₂, форма₂ – из материи₂ и формы₃ и т.д.), что делает любое объяснение становления невозможным.
Комментарий У.Д. Росса: Ross называет это "блестящим аргументом". Он показывает, что форма не может быть составной сущностью, иначе потребовался бы бесконечный ряд все более общих форм для объяснения самой простой вещи. Это разрушает саму возможность знания.
Комментарий А.Ф. Лосева: Лосев соглашается с Аристотелем, видя в этом логическое завершение его системы. Форма – это простой, несоставной и потому неделимый и нерожденный принцип, делающий познание мира возможным. Бесконечный регресс был бы катастрофой для науки (ἐπιστήμη).
Критическое описание: Аргумент неопровержим в рамках аристотелевской парадигмы, где всякое становление требует субстрата. Однако он не затрагивает креационистские модели (например, христианскую), где Бог творит "из ничто" (ex nihilo), а не из предсуществующего субстрата.
[6] Таким образом, ясно, что форма, или как еще можно назвать внешнее разумное, не становится, и что нет никакого творения ее, и так же мало понятия: ибо форма и понятие – это то, что становится в другом, либо искусством, либо природой, либо способностью.
Комментарий:
Здесь Аристотель делает вывод из предыдущих аргументов. Форма (эйдос), которую он отождествляет с "понятием" (λόγος τῆς οὐσίας – logos tês ousias, сущностным определением), не возникает и не уничтожается. Она вечна. Возникает и уничтожается только composite – конкретная вещь, состоящая из формы и материи.
Комментарий Д.В. Бугая: Бугай обращает внимание на термин "становится в другом" (γίγνεται ἐν ἄλλῳ). Это ключевая формула: форма актуализируется не сама по себе, а в ином – в материи. Искусство, природа и способность – это движущие причины, которые осуществляют эту актуализацию.
Комментарий Дж. Хэмфри: Humphrey подчеркивает, что "понятие" здесь – это не психическое содержание нашего ума, а объективная сущностная структура вещи. Наше понятие лишь отражает эту структуру. Поэтому и оно не "становится" в смысле создания, а постигается.
Критическое описание: Аристотель проводит жесткую границу между миром вечных, умопостигаемых сущностей (форм) и миром преходящих, чувственных вещей. Это сближает его с Платоном. Но радикальное отличие в том, что у Аристотеля форма существует только в единичных вещах (кроме Бога), а не в отдельном мире.
[8] …руде эту особую форму, и тогда получается бронзовая сфера. Если бы понятие шара вообще имело становление, оно должно было бы быть чем-то из чего-то: ведь становление всегда должно быть делимым и частично этим, частично [9] тем, а именно частично материей и частично формой.
Комментарий:
Аристотель применяет свой общий анализ становления (все становление есть переход из чего-то во что-то) к гипотетическому случаю становления самой формы. Если бы форма становилась, ее пришлось бы анализировать на материю и форму, что абсурдно, так как форма по определению есть то, что сообщает определенность материи.
Комментарий М. Фреде: Frede указывает, что Аристотель здесь опирается на свое учение о четырех причинах. Любой процесс становления требует всех четырех причин. Для становления "формы шара" потребовалась бы своя материальная, формальная, движущая и целевая причины, что бессмысленно.
Комментарий А.Ф. Лосева: Лосев говорит, что форма – это "морфэ", принцип целостности и предела. Делить ее на составные части – значит уничтожить ее как таковую. Она есть нечто цельное и неделимое, "чтойность" вещи.
Критическое описание: Этот аргумент основан на определении формы как простого и неделимого. Однако в современной философии (например, в структурализме) сложные структуры и "формы" мыслятся как состоящие из отношений между элементами, то есть потенциально делимыми. Аристотель защищает свою позицию через definitions.
[10] Если, например, сфера – это фигура, равноудаленная от центра, то одна ее часть будет тем, во что производитель воображает то, что должно быть произведено, другая – тем, что воображается в нее, а целое – их продуктом, медной сферой.
Комментарий:
Аристотель дает пример анализа не формы, а составной сущности. "Фигура, равноудаленная от центра" – это форма (λόγος). "Медь" – это материя. Ремесленник в своем уме ("воображает") соединяет их, и результатом является продукт – медная сфера. Форма здесь – это не физическая часть, а организующий принцип.
Комментарий У.Д. Росса: Ross поясняет, что Аристотель не имеет в виду, что определение сферы состоит из частей. Он показывает, что в акте творения мы можем мысленно проанализировать два аспекта: материал, который берется, и форма, которой он должен обладать. Но сама форма (определение) едина.
Комментарий Д.В. Бугая: Бугай видит здесь описание ментального процесса ремесленника. Цель (форма) существует в его сознании до акта творения и направляет этот акт. Материя – это то, что подлежит оформлению.
Критическое описание: Аристотель удачно описывает процесс целеполагающей деятельности. Однако его анализ может быть подвергнут критике за интеллектуализацию творчества: не всегда творческий акт сводится к ясному "воображению" готовой формы. Часто форма рождается в самом процессе работы с материей.
[11] Итак, из сказанного следует, что то, что называется формой или сущностью, не становится, но что названное им единство становится, и что все ставшее содержит материю и что оно отчасти материя, а отчасти форма.
Комментарий:
Это итоговый вывод первой части главы. Аристотель четко разграничивает:
Форма (сущность) – не становится, вечна.
Конкретная вещь (синтез, "единство") – становится.
Любая возникшая вещь hylomorphic по своей природе.
Комментарий А.Ф. Лосева: Лосев считает этот вывод фундаментальным для всей аристотелевской метафизики. Бытие делится на уровень устойчивых сущностных форм (область бытия) и уровень их материальных воплощений (область становления). Сущность (ousia) как форма есть причина бытия вещи.
Комментарий М. Фреде: Frede добавляет, что это различие объясняет, почему мы можем иметь знание о мире: мы познаем не изменчивые вещи, а неизменные формы, которые в них реализованы.
Критическое описание: Это ядро аристотелизма. Проблема возникает с статусом индивидуальной формы (например, формы Сократа). Если форма вечна, то как объяснить уникальность индивидуального? Этот вопрос будет центральным для средневековых споров об универсалиях.
[12] Существует ли теперь сфера отдельно от сфер этого мира и дом отдельно от кирпичей? Или, если бы это было так, не существовало бы ничего подобного? Напротив, идея обозначает только такую вещь; она не есть определенная вещь, но из определенной вещи можно сделать и произвести такую вещь, и когда она произведена, то вещь есть такая вещь.
Комментарий:
Здесь начинается прямая критика платоновских идей. Аристотель задает риторический вопрос: существуют ли идеи отдельно от вещей? Его ответ: нет. Идея (эйдос) – это не отдельная сущность, а то, что именно делает данную вещь тем, что она есть. Она существует только как принцип организации материи.
Комментарий У.Д. Росса: Ross интерпретирует это как отрицание трансцендентности идей. Для Аристотеля эйдос имманентен вещам. Платоновская Идея – это лишь абстракция, которой незаконно приписывается самостоятельное существование.
Комментарий А.Ф. Лосева: Лосев, будучи знатоком Платона, смягчает критику. Он говорит, что Аристотель спорит не с самим Платоном, а с вульгарным платонизмом, превращающим идеи в удвоение мира. Для Аристотеля "идея обозначает только такую вещь", то есть является ее смысловой моделью, а не отдельным объектом.
Критическое описание: Критика Аристотеля – классический аргумент "третьего человека": если есть идея человека, чтобы объяснить сходство людей, то нужно объяснить сходство между человеком и идеей человека, введя новую идею, и так до бесконечности. Однако можно argued, что Платон избегал этой проблемы, помещая идеи в иной, нечувственный онтологический регистр.
[13] Целое, состоящее из материи и формы, например, Каллий или Сократ, подобно этому конкретному медному шару, а человек и животное – это такие вещи, как медный шар в целом.
Комментарий:
Аристотель проводит аналогию между артефактами и живыми существами. Конкретный человек (Сократ) – это составное единство материи (его плоть и кости) и формы (его душа, которая является сущностью и организационным принципом). "Человек" как вид – это аналогично "медному шару вообще", то есть форма, воплощенная в соответствующей материи.
Комментарий Д.В. Бугая: Бугай подчеркивает, что именно здесь аристотелевский гилеморфизм находит свое наивысшее применение. Душа есть форма тела, а тело – материя души. Это не два отдельных объекта, а два аспекта одного сущего.
Комментарий М. Фреде: Frede отмечает, что Аристотель переносит модель ремесла на природу. Природа действует как внутренний ремесленник, целесообразно формируя материю. "Человек рождает человека" – потому что форма человека изначально заложена в природе как принцип.
Критическое описание: Применение модели артефакта к живому существу является как силой, так и слабостью аристотелизма. Сила – в телеологическом объяснении. Слабость – в потенциальном редукционизме, когда уникальность жизни может быть сведена к механистическому соединению формы и материи.
[14] Отсюда следует, какова причинность идей, ибо именно таким образом некоторые представляют себе идеи: ведь если существуют некие сущности помимо отдельных вещей, то они бесполезны для становления и для отдельных вещей.
Комментарий:
Аристотель делает вывод о бесполезности (ἄχρηστον) трансцендентных идей Платона для объяснения становления. Если идеи существуют отдельно, то как они могут causally влиять на мир? Они оказываются бесплодными и ненужными для объяснения того, почему именно эта медь становится шаром. Достаточно имманентной формы в уме ремесленника или в природе родителя.
Комментарий У.Д. Росса: Ross соглашается с Аристотелем: платоновские идеи являются "холостыми" (idle), они не могут быть движущими причинами. Аристотель заменяет их имманентными формами и целевыми причинами, которые действительно объясняют изменения в мире.
Комментарий А.Ф. Лосева: Лосев частично защищает Платона, утверждая, что у того идеи являются не только образцами, но и порождающими моделями, силами (динамис). Однако он признает, что связь между миром идей и миром вещей у Платона действительно проблематична.
Критическое описание: Это, пожалуй, главный упрек Аристотеля Платону. Однако можно argued, что функция идей у Платона не столько каузально-физическая, сколько онтологическая и эпистемическая: они обеспечивают бытие и познаваемость вещей. Аристотель же ищет физические причины.
[15] Да и идеи тогда не будут субстанциями сами по себе. Ибо в случае некоторых вещей очевидно, что порождающее имеет ту же природу, что и порождаемое, не тождественно ему, не едино по числу, но едино по роду, как это бывает с природными вещами, например, человек порождает человека…
Комментарий:
Аристотель добавляет еще один аргумент: если бы сущностью вещи была трансцендентная идея, то отец (отдельная вещь) не мог бы породить сына (другую отдельную вещь), так как он не является идеей. Но мы видим, что порождение происходит именно потому, что отец и сын имеют одну и ту же имманентную форму (природу, вид). Форма передается через акт порождения.
Комментарий Д.В. Бугая: Бугай видит здесь основание аристотелевской биологии и теории наследования. Форма (душа) не приходит извне из мира идей, а передается непосредственно от родителя к потомку через семя, которое содержит форму в потенции.
Комментарий Дж. Хэмфри: Humphrey поясняет, что "едино по роду" означает тождество видовой формы. Индивидуальность обеспечивается материей. Сократ и Каллий numerically разные, но у них одна форма – "человек разумный".
Критическое описание: Этот аргумент очень силен в контексте объяснения биологического воспроизводства. Платоникам пришлось бы говорить, что душа приходит от демиурга или из мира идей, что плохо согласуется с очевидным фактом наследования черт родителей.
[16] …если не происходит ничего противного природе, как, например, лошадь порождает мула. Но и в этом случае происходит нечто подобное, ибо следующее поколение, общее для лошади и осла, не имеет имени, и поэтому они не будут существенно отличаться от мула.
Комментарий:
Аристотель рассматривает контрпример – рождение мула, которое кажется нарушением принципа "подобное рождает подобное". Но он парирует: мул – это не новый вид, а бесплодный гибрид. Его "форма" не является устойчивой и не может быть передана дальше. Отсутствие у него имени своего вида (мул – не вид, а помесь) свидетельствует о его неполноценном онтологическом статусе.
Комментарий У.Д. Росса: Ross отмечает, что Аристотель использует лингвистический аргумент: наличие имени указывает на сущность. Безымянность мула как вида показывает, что это не настоящая сущность, а нечто побочное.
Комментарий А.Ф. Лосева: Лосев говорит, что здесь Аристотель демонстрирует гибкость своей системы. Даже уродство и ошибки природы (τερατεία) не отменяют общего телеологического принципа, а лишь показывают, что материя иногда сопротивляется полному воплощению формы.
Критическое описание: Аргумент Аристотеля интересен, но несколько ad hoc. Современная биология, конечно, дала бы иное объяснение гибридам и бесплодию. Однако его основная мысль – о передаче формы через размножение – остается фундаментальной для его телеологии.
[17] (самое большее, что можно требовать, – это архетипы для природных вещей, поскольку они предпочтительно являются индивидуальными субстанциями), но достаточно, если рассматривать материю таким образом, что порождающий агент является также производящим агентом и причиной вхождения формы в материю.
Комментарий:
Аристотель делает окончательный вывод. Даже если бы и были какие-то "архетипы" (образцы), то они должны были бы быть не общими идеями, а индивидуальными формами (например, идея отдельно Сократа, отдельно Каллия). Но и в этом нет нужды. Достаточно признать, что порождающий индивид (отец) является причиной того, что форма воплощается в новой материи (в семени, а затем в теле ребенка).
Комментарий М. Фреде: Frede считает, что это очень важное место, где Аристотель намекает на возможность индивидуальной формы, что станет центральным пунктом у его средневековых комментаторов (например, у Фомы Аквинского).
Комментарий Д.В. Бугая: Бугай акцентирует, что Аристотель сводит объяснение к имманентным причинам. Движущая причина (отец), формальная причина (видовая форма человека) и целевая причина (взрослый человек как цель развития зародыша) совпадают в самом акте природного порождения.
Критическое описание: Аристотель предлагает элегантную и экономную объяснительную модель, не умножая сущностей сверх необходимости (бритва Оккама до Оккама). Однако вопрос об индивидуальной форме остается открытым: что делает Сократа именно Сократом, а не просто человеком?
[18] Продукт, а именно определенная форма, обитающая в этой плоти и этих костях, – это Каллий и Сократ: оба они различны в силу материи, ибо она у каждого своя, но они едины в форме, ибо форма неделима и остается одной и той же.
Комментарий:
Финальный итог всей главы. Индивидуальная субстанция (первая сущность) – это конкретная форма, воплощенная в конкретной материи. Различие между индивидами одного вида – исключительно материальное. Их форма (видовая сущность, "чтойность") тождественна, неделима и едина.
Комментарий А.Ф. Лосева: Лосев подводит черту: материя – принцип индивидуации (principium individuationis). Это классическая формула, принятая в средневековой и новой философии. Форма обеспечивает общее, познаваемое, сущностное. Материя – частное, изменчивое, индивидуальное.
Комментарий У.Д. Росса: Ross заключает, что таким образом Аристотель находит золотую середину между крайним платонизмом (только общее реально) и крайним номинализмом (только индивиды реальны). Реальны индивиды, но их реальность и познаваемость обеспечиваются общей формой.
Критическое описание: Это решение порождает знаменитую проблему универсалий. Если форма едина и тождественна в разных индивидах, то она является универсалией. Но как универсалия может быть сущностью (которой по definition присуща индивидуальность)? Этот вопрос будет мучить комментаторов Аристотеля на протяжении веков.
Обобщение главы 8: Критика платоновских Идей: становление формы и тождество по виду.
1. Ключевая цель главы:Аристотель проводит систематическую критику теории идей Платона, показывая её онтологическую избыточность и неспособность объяснить процесс становления (возникновения и уничтожения вещей). В противовес трансцендентным Идеям он предлагает имманентную гилеморфическую модель (hyle – материя, morphe – форма).
2. Основные тезисы Аристотеля:Форма (эйдос) не возникает и не уничтожается. Она вечна и является принципом, а не продуктом становления. Ремесленник или природа не творят форму, а лишь воплощают уже существующую форму в подходящей материи (пример с бронзовой сферой).
Любое становление требует материального субстрата. Всё, что возникает, возникает из чего-то (материи, находящейся в состоянии лишенности нужной формы). Гипотеза же о становлении самой формы ведёт к логической ошибке – дурной бесконечности (regressus ad infinitum), так как для её создания потребовались бы своя материя и своя форма, и так далее.
Реальными являются конкретные единичные вещи (синолы), представляющие собой неразрывное единство материи и формы (Сократ, этот медный шар). Форма не существует отдельно от вещей, кроме как в уме познающего.
Тождество по виду (например, между Сократом и Каллием) объясняется тождеством их видовой формы. Различие между индивидами одного вида обусловлено исключительно их материей (материя как принцип индивидуации – principium individuationis).
Платоновские Идеи бесполезны для объяснения причинности. Они не могут быть движущей или целевой причиной становления, так как существуют отдельно от мира. Реальное становление объясняется имманентными причинами: движущей (например, отец), формальной (видовая форма, которую отец передает) и целевой (зрелое состояние потомка), которые в акте природного порождения часто совпадают.
3. Критика Платона:Критика "третьего человека": Если есть Идея Человека, объясняющая сходство отдельных людей, то должно быть и нечто третье, объясняющее сходство между людьми и Идеей, и так до бесконечности.
Критика с точки зрения практики познания: Идеи, как отдельные сущности, не участвуют в физическом мире и потому бесполезны для научного познания причин изменений в нем.
Критика с точки зрения биологии: Теория Идей не может объяснить очевидный факт, что "человек рождает человека", то есть что подобное порождает подобное через передачу имманентной формы, а не через причастность трансцендентному образцу.
4. Положительная альтернатива Аристотеля:Аристотель заменяет мир Идей на имманентный формальный принцип, который:
Является сущностью (ousia) вещи, её "чтойностью".
Вечен и неизменен как объект познания (эпистемический аспект).
Реализуется в материи в процессе целесообразной деятельности (природной или искусственной).
Объясняет и познаваемость мира (чешь постигаем устойчивые формы), и его изменчивость (через воплощение форм в материи).
5. Итог: Аристотель не отвергает вовсе понятие "идеи" или "формы".Он радикально пересматривает его онтологический статус: форма не существует в отдельном мире, а является организующим, сущностным началом внутри самого чувственного мира. Это позволяет ему сохранить сильные стороны платонизма (объективность знания, устойчивость сущностей), избежав его слабостей (удвоение мира, разрыв между миром идей и миром вещей, отсутствие объяснения причинности). Таким образом, глава закладывает фундамент аристотелевской метафизики, основанной на понятиях имманентной формы и материи.
Глава 9. Причины спонтанного и направленного становления: материя, форма и движущее начало.
Общий контекст главы.Глава 9 является кульминацией исследования сущности (οὐσία) и становления (γένεσις) в Книге 7. Аристотель здесь решает парадокс: как нечто новое возникает из чего-то иного, но при этом становится тождественным себе по форме? Он применяет свою теорию четырёх причин (материальной, формальной, действующей и целевой) к процессу создания вещей как искусством (τέχνη), так и природой (φύσις).
Последовательно-абзачный анализ[1] Постановка проблемы: искусство vs. природа
Текст Аристотеля: «Может возникнуть вопрос, почему одна вещь становится благодаря искусству, а также сама по себе, например, здоровье, а другая – нет, например, дом. Причина в следующем.»
Комментарий и критика:
Аристотель начинает с парадокса: здоровье может быть восстановлено как искусством врача, так и естественным путем организма, а дом сам по себе не строится. Вопрос в том, почему некоторые продукты искусства могут возникать и «естественно», а другие – нет.
А.Ф. Лосев в своих комментариях подчеркивает, что здесь Аристотель проводит границу не между искусством и природой, а внутри самого искусства, исходя из способности материи к самодвижению. Здоровье – это состояние живого тела, чья материя (организм) обладает внутренним принципом движения и восстановления. Материя же дома (камни, бревна) такой способности лишена.
Критическое осмысление: Проблема сформулирована brilliantly, но современному читателю может быть неочевидно, что «здоровье, возникающее само по себе» – это метафора для природных восстановительных процессов организма, которые Аристотель считает целесообразными, а значит, аналогичными искусству.
[2-4] Роль материи в процессе становления
Текст Аристотеля: «Материя, которая… отчасти способна двигаться сквозь себя, отчасти неспособна к этому… Поэтому одно не может быть без субъекта, обладающего искусством, другое же может быть… ибо его приводит в движение то, что не обладает искусством…»
Комментарий и критика:
Ключевой критерий – наличие в материи внутреннего начала (ἀρχή) движения. Комментатор Дэвид Босток (David Bostock) в своей работе "Aristotle's Metaphysics Books Z and H" уточняет: Аристотель различает материю, которая:
Не может двигаться сама (как камни для дома). Для её оформления всегда нужен внешний агент, обладатель искусства (технэ).
Может двигаться сама, но не любым образом (как тело больного может выздороветь, но не может, например, научиться танцевать без обучения). Здесь возможен и искусственный, и естественный путь.
Может двигаться сама определённым образом (огонь, который по своей природе движется вверх; семя, которое по своей природе развивается в организм).
Т.Ю. Бородай в работе «Понятие материи и его трансформация в античной философии» отмечает, что Аристотель онтологизирует возможность: материя – это не просто пассивный субстрат, а потенция (δύναμις) к определённым видам изменений. Поэтому «естественное» становление здоровья возможно, потому что материя (тело) потенциально уже содержит в себе форму здоровья и имеет внутреннюю тенденцию к её актуализации.