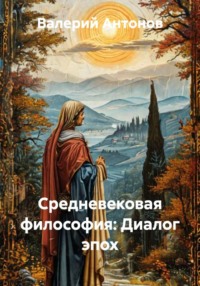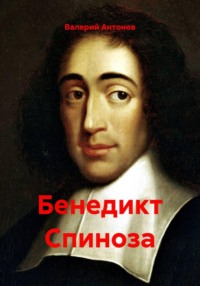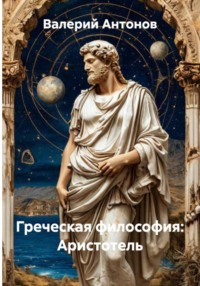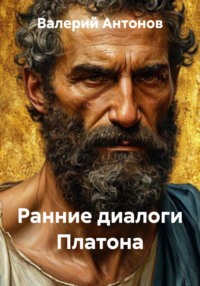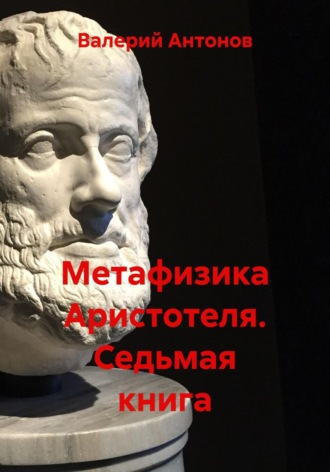
Полная версия
Метафизика Аристотеля. Седьмая книга

Валерий Антонов
Метафизика Аристотеля. Седьмая книга
Аннотация к книге Z (VII) «Метафизики» Аристотеля: «О сущности» (ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ)
Книга Z (VII) является смысловым и композиционным центром всего трактата «Метафизика». В ней Аристотель формулирует сердцевину своей собственной онтологии, сводя вопрос о бытии как таковом (τὸ ὄν) к вопросу о сущности (οὐσία). Это глубокое, сложное и диалектическое исследование, построенное как последовательный критический разбор различных кандидатов на роль первичной сущности, culminating в положительном учении о форме (εἶδος) как об истинной причине и основе всякого бытия.
Ключевые проблемы и цели книги:
· Определение того, что является первичной сущностью – фундаментом всей реальности.
· Критика платоновской теории Идей за «удвоение мира» и неспособность объяснить причинность в чувственном мире.
· Поиск имманентного принципа, который объяснял бы единство, устойчивость и познаваемость изменчивых вещей.
Структура и краткое содержание по главам:
Часть I. Введение и постановка проблемы (Главы 1-2)
· Гл. 1: Утверждается, что бытие понимается в множестве смыслов, но первичным из них является сущность (субстанция). Все остальные категории (качество, количество и т.д.) – лишь атрибуты сущности. Задается главный вопрос: «Что есть сущность?».
· Гл. 2: Апоретический обзор существующих мнений (физикалисты, платоники, пифагорейцы). Показывается тупиковость этих подходов и необходимость нового пути.
Часть II. Анализ кандидатов в сущности и развитие собственной теории (Главы 3-12, 17)
· Гл. 3: Анализ материи (ὕλη) как подлежащего (ὑποκείμενον). Делается вывод, что материя (чистая потенциальность) не может быть первичной сущностью, так как она неопределенна и не является «вот этим нечто» (τὸde τι).
· Гл. 4-6, 10-12: Анализ сути бытия (τὸ τί ἦν εἶναι) и определения (λόγος). Устанавливается, что сущность вещи – это ее форма, выражаемая в определении. Доказывается тождество вещи и ее сущности (для первичных сущностей). Исследуется структура определения через род и видовое отличие.
· Гл. 7-9: Отступление в физику для анализа становления. Любое возникновение требует материи, формы и движущей причины. Подчеркивается, что в природных вещах форма является имманентной целью.
· Гл. 17 (Кульминация): Применяется новый подход: поиск сущности через вопрос «почему?». Форма провозглашается конечной причиной бытия вещи, тем принципом, который организует материю в единое целое. Пример: причиной того, что кусок меди есть статуя, является форма статуи, присутствующая в ней.
Часть III. Критика ложных кандидатов: универсалии и идеи (Главы 13-16)
· Гл. 13: Главный аргумент: сущность по природе индивидуальна (τὸde τι), а универсалия (общее) по природе присуща многому, следовательно, универсалия не может быть сущностью.
· Гл. 14-15: Критика платоновских Идей как универсалий, существующих отдельно от вещей. Показывается, что они не помогают ни в объяснении становления, ни в познании (вещи нельзя определить, так как они преходящи; идеи нельзя определить из-за парадоксов).
· Гл. 16: Критика взгляда, что части вещи являются ее первичной сущностью. Утверждается примат целого (организованной формы) над частью.
Итоговый вывод и значение книги:Аристотель в книге Z совершает коренной поворот от трансцендентной онтологии Платона к имманентной. Первичной сущностью чувственного мира является форма (εἶδος/μορφή) – не абстрактная идея, а внутренний, structuring-принцип самой вещи, который:
1. Делает вещь тем, что она есть (ее чтойность).
2. Организует материю в единое и целостное «вот это нечто».
3. Является причиной и целью бытия вещи.
4. Делает вещь познаваемой и выразимой в определении.
Таким образом, книга Z – это гениальная попытка найти умопостигаемые основания изменчивого мира в нем самом, заложив фундамент для всего дальнейшего развития европейской философии и науки.
Глава 1. О первичности субстанции: что есть сущее как таковое?
[1] Бытие имеет несколько значений, как мы уже объясняли выше в разделе о различных значениях: а именно, оно обозначает отчасти то, что и это, отчасти качественное или количественное, или нечто иное, предицируемое таким образом.
Аристотель начинает с отсылки к учению о многозначности сущего (изложенному в Книге Δ (V), 7 и Γ (IV), 2). Он напоминает, что «бытие» (τὸ ὄν) – это не унивокальный термин с одним значением, а скорее «просапон» (πρὸς ἕν), то есть множество значений, отнесенных к единому центру – субстанции (ουσία). Это не просто перечисление, а иерархическая структура.
Критическое описание: Ключевой момент здесь – установление иерархии. Комментаторы, такие как В. Д. Росс (W. D. Ross) в своей работе "Aristotle's Metaphysics: A Revised Text with Introduction and Commentary", подчеркивают, что Аристотель не просто констатирует факт многозначности, а готовит почву для главного тезиса: среди всех категорий одна является первичной. Отечественный исследователь А. В. Кубицкий в своих комментариях указывает, что это методологическое введение, которое позволяет Аристотелю отсечь все производные значения сущего (качество, количество и т.д.) и сконцентрироваться на основном – сущем как субстанции. Критический взгляд мог бы задаться вопросом, исчерпывается ли вся реальность этой схемой категорий, но сила аристотелевского подхода как раз в его аналитической и структурирующей мощи.
[2] Из этих различных значений сущего первым, очевидно, является «что»,
«Что» (τὸ τί ἐστι) – это стандартное для Аристотеля обозначение сущности, ответ на вопрос "что есть вещь?". Здесь он прямо заявляет о примате этой категории.
Утверждение «очевидно» (δῆλον) является риторическим и программным. Как замечает Томас де Конанк (Thomas de Koninck) в работе "Aristotle on Substance", это не столько очевидный факт, сколько фундаментальная интуиция аристотелевской онтологии, которую вся последующая аргументация Книги Ζ призвана обосновать. Это тезис, который требует доказательства, и Аристотель немедленно переходит к нему.
[3] которое обозначает единую субстанцию. Ведь если мы хотим сказать, какого качества вещь, мы называем ее хорошей или плохой, но не три локтя в длину или человеком. Если же мы хотим указать, что это такое, мы называем ее не белой, не теплой и не длиной в три локтя, а человеком или богом.
Здесь Аристотель использует лингвистический и эпистемологический аргумент для различения сущности и акциденций. Мы идентифицируем вещь через ее сущность ("человек"), а не через ее случайные свойства ("белый").
Майкл Фреде (Michael Frede) в эссе "Aristotle's Notion of Substance" обращает внимание на то, что этот аргумент основан на практике вопрошания и ответа. Вопрос "Что это?" фундаментален и не может быть сведен к вопросу "Какого оно качества?". Отечественный комментатор С. А. Жебелёв также видел в этом проявление характерного для Аристотеля подхода: анализ языка является надежным проводником к анализу бытия. Однако критик мог бы возразить, что в некоторых контекстах (например, "Что это за белое?" – "Это молоко") акциденция может быть ключом к идентификации, но Аристотель парировал бы, что конечным ответом все равно будет указание на субстанцию ("молоко").
[4] Остальное называется существом, потому что это количество, или качество, или свойство, или что-то еще в этом роде.
Это прямое следствие из учения о πρὸς ἕν. Все другие категории называются "сущим" лишь во второстепенном, производном смысле – потому что они являются свойствами первичного сущего, т.е. субстанции.
Дэвид Босток (David Bostock) в своей книге "Aristotle's Metaphysics: Books Z and H" уточняет, что здесь есть тонкое различие между "быть" (например, быть белым) и "называться сущим" (белое называется сущим, потому что оно атрибут сущего-в-первую-очередь). Это различие crucial для понимания всей аристотелевской онтологии. Акциденции существуют только как модусы субстанции.
[5] Поэтому можно также поставить вопрос о том, является ли ходьба, здоровье, сидение существом или не-существом; точно так же можно поставить тот же вопрос и в отношении всего остального подобного рода: ведь ничто из этого не существует само по себе и столь же мало может быть отделено от отдельных вещей, но скорее, если вообще возможно, ходьба, сидение и здоровье относятся к существу.
Аристотель применяет свой критерий к сложным случаям – действиям и состояниям. Является ли "ходьба" самостоятельной сущностью? Его ответ: нет. Это акциденция, которая требует носителя – того, кто ходит (субстанции).
Этот пассаж часто рассматривается как полемика с платоновским учением об идеях, где такие понятия, как "здоровье" или "сидение", могли бы рассматриваться как самостоятельные сущности. Вернер Йегер (Werner Jaeger) в "Aristotle: Fundamentals of the History of His Development" видит здесь яркий пример аристотелевского эмпиризма, противостоящего платоновскому трансцендентализму. Критический вопрос: всегда ли действие неотделимо от субъекта? Например, "ходьба" как социальный феномен может быть анализирована независимо от конкретного идущего. Но Аристотель говорит о онтологическом, а не о концептуальном отделении.
[6] Эти последние предстают скорее как сущее, потому что у них есть определенный субстрат, а именно вещь и индивид, который возникает в данной предикации: о хорошем или сидящем нельзя сказать без такого субстрата.
Вводится ключевое понятие "субстрата" (ὑποκείμενον) – лежащего в основе. Акциденции "существуют" лишь постольку, поскольку у них есть этот субстрат, который их "поддерживает".
Майкл Лoux (Michael J. Loux) в "Primary Ousia: An Essay on Aristotle's Metaphysics Z and H" предупреждает, что здесь нужно быть осторожным. Тот субстрат, о котором говорится здесь ("вещь и индивид"), – это конкретная сущность (отдельный человек, лошадь). Однако в дальнейших главах (напр., Z.3) Аристотель будет исследовать, что само является ultimate субстратом для всех предикаций, включая и саму сущность (материя или форма?). Это рождает известную апорию внутри самой теории.
[7] Итак, ясно, что только в силу единой вещи существует каждый из этих предикатов: первое бытие, то, что не является бытием в определенном отношении, но бытием как таковым, есть, таким образом, единая субстанция.
Это вывод из предыдущих аргументов. Бытие акциденций производно и зависимо. Абсолютное, независящее бытие – это бытие субстанции.
Джозеф Оуэнс (Joseph Owens) в своей фундаментальной работе "The Doctrine of Being in the Aristotelian 'Metaphysics'" акцентирует, что Аристотель здесь совершает революционный поворот от платоновского понимания "бытия как такового" (αὐτὸ τὸ ὄν) как трансцендентной идеи к имманентной "единой субстанции" (οὐσία) – конкретной сущности в чувственном мире. Это переход от "онтологии присутствия" (Парменид, Платон) к "онтологии субстанции".
[8] Хотя понятие первого имеет различные значения, единая субстанция является первой во всех отношениях, как в плане понятия, так и в плане познания и времени.
Аристотель уточняет свой тезис о "первичности", различая три аспекта:1. По понятию (λόγῳ): Определение акциденции (напр., "белое") необходимо включает в себя определение субстанции (напр., "то, что имеет цвет").
2. По познанию (γνώσει): Мы знаем вещь только когда знаем, что она есть.
3. По времени (χρόνῳ): Конкретная субстанция (этот человек) существует во времени прежде своих акциденций (быть образованным, поседеть и т.д.).
Сара Уотерлоу (Sarah Waterlow) в "Nature, Change, and Agency in Aristotle's Physics" подвергает сомнению третий пункт ("по времени"). Всегда ли субстанция предшествует своим акциденциям? Например, младенец уже обладает всеми своими акциденциями (цветом кожи, весом и т.д.) с момента возникновения. Аристотель, вероятно, имеет в виду, что субстанция может существовать без конкретной акциденции (человек может потерять загар), но акциденция не может существовать без субстанции.
[9] Ибо ни один из других предикатов не имеет существования для себя, только он один. И индивидуальная субстанция также является первой в плане понятия, ибо понятие индивидуального бытия должно содержаться в понятии каждой вещи.
Повторение и усиление предыдущего тезиса. Абсолютная онтологическая независимость – главный признак первичной сущности.
Этот пункт является центральным для всего проекта Метафизики. Пьер Обенк (Pierre Aubenque) в книге "Le problème de l'être chez Aristote" переводит это как вопрос о "сущем-основании". Субстанция – это то, на чем все держится, последний предел всякого спрашивания. Критика может быть направлена на кажущуюся тавтологичность: сущность первична, потому что она первична. Однако сила аргументации Аристотеля – в его герменевтической феноменологии: таково устройство нашего языка, нашего познания и, следовательно, самого бытия, каким оно нам является.
[10] Мы также считаем, что знаем каждую вещь прежде всего тогда, когда узнали, что она есть человек или огонь, а не тогда, когда узнали качество, или количество, или где, ибо последнее мы знаем только тогда, когда узнали, что такое количественное или качественное.
Эпистемологический аргумент, подтверждающий онтологический тезис. Наше познание устроено иерархически и mirrors структуру бытия.
Этот аргумент кажется интуитивно верным. Как отмечает А. Ф. Лосев в своей истории античной эстетики, аристотелевская гносеология является "таксономической": мы сначала идентифицируем род и вид сущего, а лишь затем изучаем его свойства. Однако современная наука часто действует иначе: мы можем изучать свойства (массу, заряд) неизвестной нам частицы, еще не зная, "что она такое" в аристотелевском смысле. Это показывает, что связь между онтологией и эпистемологией, возможно, не столь прямолинейна.
[11] Старый вопрос, который теперь, как всегда, рассматривается и неоднократно выдвигается, о том, что такое сущее, точнее, наш вопрос о том, что такое индивидуальная субстанция. Одни говорят, что это бытие есть единичная вещь, другие – что более чем единичная; одни считают его ограниченным, другие – неограниченным. Поэтому и нам, в первую очередь и почти единолично, предстоит исследовать, что же представляет собой то, что существует.
Аристотель подводит итог введению и формулирует центральный вопрос не только Книги Ζ, но и всей первой философии. Вопрос "что есть сущее?" сводится к вопросу "что есть сущность?" (τίς ἡ οὐσία;).
Здесь Аристотель помещает себя в контекст историко-философской дискуссии. Упомянутые позиции – отсылки к досократикам (напр., апейрон Анаксимандра), Платону (идеи как "более чем единичные" сущности) и другим. В. П. Зубов в "Аристотелевой Метафизике" подчеркивает, что Аристотель не просто продолжает старую традицию, а радикально переформулирует ее проблему. Финальная фраза – это декларация программы исследований, которая займет последующие главы, где он будет анализировать сущность через материю, форму и синтез того и другого. Критик мог бы сказать, что, сведя вопрос о бытии к вопросу о сущности, Аристотель сузил поле онтологии, проигнорировав, например, вопрос о бытии как акте (energeia), который станет центральным в более поздних книгах (Θ и Λ). Однако именно это фокусирование на сущности и сделало Книгу Ζ intellectual masterpiece, определившим развитие западной метафизики.
Обобщение главы 1 книги 7.
Основная цель главы – доказать, что центральным и первичным смыслом бытия (τὸ ὄν) является субстанция (ουσία), а вопрос «что есть сущее как таковое?» должен быть сведён к вопросу «что есть субстанция?». Это программное введение задаёт структуру и иерархию всей последующей онтологии Аристотеля.
Ключевые аргументы и тезисы:1. Иерархия значений бытия: категории и их центр.
Аристотель начинает с напоминания о многозначности бытия (учение из книг Δ и Γ), но сразу вводит ключевой принцип: значения бытия не равноправны. Они относятся к единому центру – субстанции (πρὸς ἕν).
Все другие категории (качество, количество, место и т.д.) являются производными, «сущими» лишь во второстепенном смысле, так как обозначают не самостоятельные сущности, а атрибуты или свойства чего-то другого – субстанции.
2. Лингвистический и эпистемологический аргумент о первичности «что».
Категория «что» (τὸ τί ἐστι) – первична. Это демонстрируется через практику вопрошания и ответа:
Чтобы идентифицировать вещь, мы называем её сущность («человек», «бог»), а не её акциденции («белый», «три локтя»).
Вопрос «Что это?» является фундаментальным и не сводимым к вопросам о качестве, количестве и т.д.
Познание вещи начинается с узнавания её сущности. Мы знаем вещь только тогда, когда знаем, что она есть, а не её свойства.
3. Онтологический аргумент: независимость vs. зависимость.
Субстанция (конкретный индивид – «этот человек», «эта лошадь») существует самостоятельно и независимо (сама по себе). Она является субстратом (ὑποκείμενον), носителем, на котором «держится» всё остальное.
Акциденции (ходьба, здоровье, белизна) не существуют сами по себе. Их бытие – это бытие-в-другом или бытие-как-свойство. Они не могут быть «отделены» от субстанции, которой принадлежат.
4. Критика платонизма (имплицитная).
Рассуждение о том, что «ходьба» или «сидение» не являются самостоятельными сущностями, – это прямая полемика с платоновской теорией идей. Аристотель отвергает возможность существования идей-сущностей для акциденций и действий. Для него сущность имманентна чувственному миру и представляет собой конкретного индивида.
5. Три аспекта первичности субстанции.
Аристотель уточняет, в каком смысле субстанция «первична»:
По понятию (λόγῳ): Определение любой акциденции необходимо включает в себя отсылку к субстанции (например, «белое» – это «то, что имеет цвет»).
По познанию (γνώσει): Мы познаём акциденции только через предварительное познание сущности, которой они принадлежат.
По времени (χρόνῳ): Конкретная субстанция (например, человек) существует до того, как приобретает или теряет свои случайные свойства (например, стать образованным или поседеть). (Этот пункт, как отмечают комментаторы, является наиболее уязвимым для критики, так как акциденции часто возникают одновременно с субстанцией).
Заключительный вывод и постановка проблемы:
Глава завершается формулировкой главного вопроса всей книги Z: вопрос «что есть сущее?» сводится к вопросу «что есть субстанция?» (τίς ἡ οὐσία;).
Аристотель помещает свой inquiry в исторический контекст, указывая, что предыдущие философы давали разные ответы (единое vs. множество, ограниченное vs. неограниченное), и берёт на себя задачу разрешить этот многовековой спор.
Критический итог: Сила аристотелевского подхода заключается в создании стройной иерархической онтологии, основанной на анализе языка, познания и структуры реальности. Он совершает поворот от платоновской «онтологии присутствия» (трансцендентные идеи) к «онтологии субстанции» (имманентные, конкретные сущности как основа бытия).
Однако эта глава лишь намечает программу исследований. Как верно отмечают комментаторы (Лoux, Босток), заявленное здесь понимание субстанции как конкретного индивида («вещи и индивида») в последующих главах (особенно Z.3) будет подвергнуто серьёзному испытанию, когда Аристотель начнёт искать ultimate субстрат, что приведёт его к различению материи, формы и синтеза того и другого и в конечном счёте – к утверждению формы (είδος) как первичной субстанции. Таким образом, глава 1 – это не окончательный ответ, а мощный стартовый импульс для всего метафизического исследования.
Глава 2. Исследование природы индивидуальной субстанции: от чувственных тел к умопостигаемым принципам.
Общий контекст главы 2Аристотель в «Метафизике» (особенно в книге 7, которая считается сердцем всего труда) исследует, что такое сущность (οὐσία, ousia). Глава 2 является программной: в ней Аристотель намечает поле проблем и существующие мнения, которые он будет детально разбирать в последующих главах. Его цель – найти первичную и безусловную сущность, которая не сказывается о другом и существует сама по себе.
[1] Отдельная субстанция наиболее очевидно приписывается телам…Аристотель начинает с общепринятого (эндо́ксон, ἔνδοξον) мнения. Для обыденного сознания и даже для натурфилософов (досократиков) «отдельными сущностями» (ἄτομαι οὐσίαι) являются конкретные, чувственно воспринимаемые физические объекты: живые существа, растения, элементы (огонь, вода) и небесные тела.
Критический комментарий:
W. D. Ross (английский комментатор): Ross указывает, что Аристотель здесь не утверждает, что это правильное мнение, а лишь констатирует, что это наиболее очевидная и распространенная отправная точка. Аристотель уважает «явления» (φαινόμενα), и чувственный мир – первое, что является нам. Однако Ross подчеркивает, что вся последующая аргументация книги 7 будет направлена на то, чтобы показать, что чувственные тела – не первичные сущности, так как они состоят из материи и формы, а материя не может быть сущностью.
Ю. А. Ахылов (отечественный исследователь): В своих работах отмечает, что перечисление Аристотелем тел, растений, животных и небесных сфер – это не просто список, а отражение иерархии «отдельно существующего» в космосе. Небесные тела, будучи вечными и неизменными (по мнению Аристотеля), являются более совершенными кандидатами в сущности, чем perishable земные объекты. Однако это все еще кандидаты, а не окончательный ответ.
[2] Однако являются ли эти вещи единственными индивидуальными субстанциями… должно быть исследовано.Аристотель сразу же ставит под сомнение очевидность первого пункта. Он формулирует центральный вопрос всей книги: являются ли чувственные тела единственными сущностями, или есть другие (нематериальные), или, возможно, и они сами не являются первичными сущностями?
Критический комментарий:
Joseph Owens (канадский историк философии): В своем фундаментальном труде «The Doctrine of Being in the Aristotelian 'Metaphysics'» Owens подчеркивает, что этот вопрос раскрывает апоретический (ἀπορέω, испытывать затруднение) метод Аристотеля. Философия начинается с удивления и постановки проблемы (апории). Здесь представлена фундаментальная апория метафизики: что есть сущее как таковое? Является ли сущее исключительно материальным?
Э. В. Ильенков (отечественный философ): Хотя Ильенков напрямую не комментирует этот отрывок, его диалектический подход к наследию Аристотеля позволяет интерпретировать этот вопрос как столкновение двух линий в философии: линии Демокрита (сущность – это атомы, телесное) и линии Платона (сущность – идея, бестелесное). Аристотель пытается найти третий путь, снять эту дихотомию.
[3] Некоторым философам границы тела… кажутся индивидуальными субстанциями в большей степени…Аристотель переходит к альтернативной точке зрения, которая, парадоксальным образом, считает сущностями не сами тела, а их математические атрибуты и пределы: поверхности, линии, точки, единицы. Это отсылка к пифагорейской и платонической традициям.
Критический комментарий:
David Bostock (английский комментатор): В своей книге «Aristotle's Metaphysics: Books Z and H» Bostock объясняет, что логика здесь в том, что математические объекты более точны, вечны и неизменны, чем perishable физические тела. Если сущность должна быть чем-то устойчивым и самотождественным, то математические объекты подходят лучше. Однако Аристотель (как будет видно далее) отвергает это, так как эти «пределы» не могут существовать отдельно от тела, границами которого они являются.
В. П. Гайденко (отечественный историк философии): В работе «Эволюция понятия науки» Гайденко подробно разбирает этот конфликт. Она показывает, что для Платона и пифагорейцев математические объекты были промежуточной реальностью между миром идей и миром вещей, обладающей большей онтологической стабильностью, чем последний. Аристотель же настаивает на том, что абстракция математика не может быть отдельной сущностью.
[4] Кроме того, одни считают, что кроме разумного… Платон поместил обе эти…Здесь Аристотель сужает фокус и переходит непосредственно к академической критике, прежде всего к учению Платона. Он кратко излагает его систему: существуют 1) Идеи (εἴδη) – нематериальные, вечные сущности; 2) Математические объекты – промежуточные сущности; 3) Чувственные тела. Таким образом, Платон признает multiple (множество) типов сущностей.
Критический комментарий:
Werner Jaeger (немецкий филолог): В своей генетической теории развития метафизики Аристотеля Jaeger видел в этой главе следы раннего, более платонического периода мышления Аристотеля. Однако даже здесь Аристотель выступает как критик: его не удовлетворяет умножение сущностей без ясного критерия, что же является первичной сущностью.