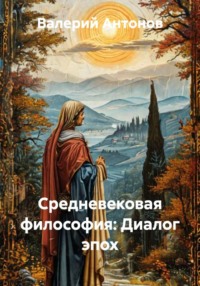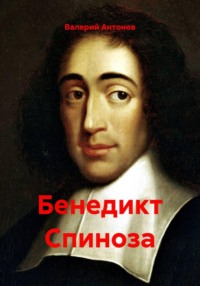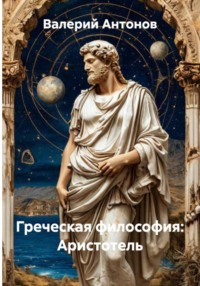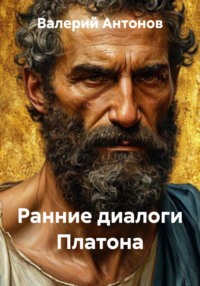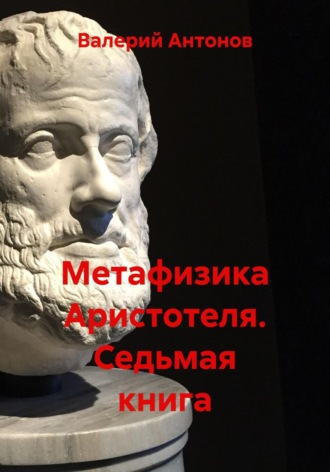
Полная версия
Метафизика Аристотеля. Седьмая книга
Комментарий и критика:
Здесь дается ядро теории: «суть бытия» (чтойность) вещи – это то, чем она является «сама по себе» (καθ' αὑτό), в отличие от того, что присуще ей «по совпадению» (κατὰ συμβεβηκός). Аристотель приводит примеры, чтобы отсечь все случайное.
Комментарий Д.В. Бугая: Бугай разъясняет, что «быть самим по себе» (καθ' αὑτό) у Аристотеля имеет несколько значений. Здесь используется ключевое: бытие, принадлежащее вещи в силу ее собственной природы, а не в силу привходящих обстоятельств. Ваша суть – быть «разумным живым существом», а не «образованным» или «белым», ибо это может измениться, не уничтожив вас.
Комментарий М. Фреде (зарубежный): Frede акцентирует правило, которое Аристотель устанавливает для определения: в правильном определении definiendum (то, что определяется) не должно входить в definiens (определяющую часть). Определение «белая поверхность» порочно, потому что «поверхность» уже является определяемым субъектом. Это правило исключает тавтологию и ensures, что определение раскрывает сущность, а не акциденцию.
Критическое описание: Аристотель формулирует строгий критерий для выделения сути бытия из всего множества предикатов вещи. Это логический инструмент для решения проблемы, поставленной в предыдущей главе: как отличить форму (сущность) от всего остального. Ответ: сущность выражается в определении, которое говорит о вещи то, что ей присуще «само по себе» и необходимо.
Абзацы [9-11]Текст Аристотеля: «Таким образом, если бытие белой поверхности тождественно бытию гладкой поверхности, то быть белым и быть гладким – одно и то же… Теперь, поскольку существуют также композиции по другим категориям… следует выяснить, существует ли концептуальное определение для каждой из этих вещей, и есть ли у них также чистое понятие, например, понятие белого человека.»
Комментарий и критика:
Аристотель применяет свой критерий к сложным случаям – акцидентальным единствам (например, «белый человек»). Если бы сущность «белой поверхности» была тождественна сущности «гладкой поверхности», то белизна и гладкость были бы тождественны, что абсурдно. Следовательно, у акцидентальных единств нет собственной сути бытия.
Комментарий А.Ф. Лосева: Лосев видит здесь важнейшее разграничение между субстанциальной и акцидентальной формой. Суть бытия есть только у сущностей (субстанций). У сложных акцидентальных образований («музыкальный Сократ») нет собственной чтойности, они не являются самостоятельными «этостями». Их единство случайно и не порождает новой сущности.
Комментарий П. О. Глушакова (отечественный): Глушаков уточняет, что проблема акцидентальных единств – это пробный камень для теории. Аристотель показывает, что его метафизика способна провести четкую границу между подлинным (субстанциальным) и неподлинным (акцидентальным) единством, что было сложной проблемой для предшествующей философии (например, для платонизма, где любое понятие могло претендовать на статус идеи).
Абзацы [11-12]Текст Аристотеля: «Что такое быть платьем? Это тоже не вещь сама по себе. [12] Если только не-бытие-для-себя не заявлено двойным образом, частично при добавлении, частично при противоположности.»
Комментарий и критика:
Аристотель продолжает анализ акцидентальных единств на новом примере – «платье» (ἱμάτιον), которое в данном контексте метафорически означает не одежду, а некое сложное понятие, подобное «белому человеку» (возможно, «одетый человек» или нечто подобное). Он утверждает, что у такого понятия нет собственной сути бытия, и вводит сложное различение.
Комментарий Д.В. Бугая: Бугай поясняет, что фраза о «двойном способе» – одна из самых трудных для интерпретации в тексте. Речь идет о двух способах, которыми нечто может «не быть самим по себе»:
Путем добавления (κατὰ πρόσθεσιν): Когда к субъекту добавляется предикат, который не является его сущностью (напр., «белый» к «человеку»). Это создает акцидентальное единство.
Путем противопоставления (κατὰ ἀντίφασιν): Возможно, имеется в виду отрицательное высказывание (например, «не-человек»), которое тем более не может иметь собственной сущности, так как определяется через отрицание другой сущности.
Комментарий В. Вундта (зарубежный, интерпретация Лосева): Лосев, опираясь на немецких комментаторов, suggests что здесь Аристотель намекает на различие между простым отрицанием и сложным, акцидентальным образованием. «Платье» не есть сущность ни так, как ею не является «не-лошадь» (отрицание), ни так, как ею не является «образованный человек» (добавление).
Критическое описание: Аристотель углубляет свою критику, показывая, что проблема акцидентальных единств имеет разные аспекты, но все они сводятся к одному: отсутствию самостоятельного, неделимого бытия.
Абзацы [13-16]Текст Аристотеля: «Одно не утверждается само по себе, если оно, а именно то, что подлежит определению, добавляется к другому… Белый человек – это действительно белый человек, но [15] он не является белым как таковым или понятием белизны… Чистое понятие должно существовать как это, как индивидуальная субстанция, но если нечто является только предикатом другого, то оно не является этим; белый человек, например, [16] не является этим…»
Комментарий и критика:
Здесь Аристотель формулирует решающий критерий, отделяющий сущность от не-сущности. Он проводит различие между тем, что есть само по себе (καθ' αὑτό) и тем, что сказывается о другом (καθ' ἑτέρου).
Комментарий А.Ф. Лосева: Лосев видит здесь кульминацию всей главы. Аристотель устанавливает онтологический критерий сущности: быть «вот этим» (τὸ τόδε τι) – чем-то отдельным и самостоятельным. «Белый человек» не есть «вот это», потому что его бытие производно и зависит от бытия человека, который является субстратом для белизны. Сущность не может быть предикатом; она всегда есть субъект, носитель предикатов.
Комментарий М. Фреде (зарубежный): Frede подчеркивает, что это прямое следствие анализа подлежащего в гл. 3. Истинная сущность – это то, что является первым подлежащем, ultimate subject of predication. «Белый человек» не является первым подлежащим, так как он сам сказывается о человеке (или состоит из человека и акциденции).
Критическое описание: Аристотель делает ясный вывод: только то, что является самостоятельным «этим» (отдельной сущностью), может иметь свою собственную суть бытия. Акцидентальные единства лишены этого статуса.
Абзацы [17-18]Текст Аристотеля: «Таким образом, существует только чистое «что» того, чье понятие есть определение… но если понятие относится к чему-то существенному… Таким образом, только виды имеют истинно понятийное существование… Для другого действительно существует описательное выражение… но для него не существует определения или понятийного бытия.»
Комментарий и критика:
Это ключевой вывод всей главы. Аристотель утверждает, что определение (ὁρισμός) возможно только для сути бытия (τὸ τί ἦν εἶναι), а она, в свою очередь, существует только у сущностей. Но не у всех сущностей одинаково: наипервейшими носителями сути бытия являются виды (εἴδη).
Комментарий Д.В. Бугая: Бугай поясняет, почему именно вид, а не индивид или род. Род (например, «животное») слишком общ и не может дать конкретного определения. Человек (например, Сократ) состоит из неопределенной материи, которая не может быть частью логоса. Только вид (человек) представляет собой совершенное единство формы и выражает чистую, универсальную сущность всех своих представителей.
Комментарий Дж. Оуэнса (зарубежный): Owens отмечает, что здесь Аристотель максимально сближается с Платоном, признавая, что истинно умопостигаемы и определяемы именно универсальные формы (виды). Однако радикальное отличие в том, что эти формы у Аристотеля не существуют отдельно от материи, а являются внутренними принципами чувственных вещей.
Критическое описание: Это центральный догмат аристотелевской метафизики: сущность, выражаемая в определении, тождественна форме, а форма тождественна виду. Познание сущности – это познание вида.
Абзацы [19-20]Текст Аристотеля: «Если только определение, [19] как и то, что, не высказывается в нескольких смыслах… Как бытие принадлежит всем, но не одинаково, а [20] одному первоначально, а другому производно, так и то, что принадлежит безусловно только индивидуальной субстанции, а условно и остальным.»
Комментарий и критика:
Аристотель применяет свою знаменитую теорию просапон (πρὸς ἓν) – отнесенности к одному – к понятиям «определение» и «суть бытия». Подобно тому как «бытие» сказывается по-разному о разных категориях (первично о субстанции, производно о качестве, количестве и т.д.), так же обстоит дело и с «чтó есть».
Комментарий А.Ф. Лосева: Лосев видит в этом выводе гениальное разрешение апории об универсалиях. Вопрос «Что есть?» можно задать о чем угодно («Что есть этот человек?» – «Сущность»; «Что есть этот цвет?» – «Качество»). Но собственный и первичный смысл «чтó есть» принадлежит только сущности. О других категориях мы говорим, что они «есть то-то», лишь по аналогии, потому что они принадлежат сущности.
Комментарий Г. Рейля (зарубежный): Reale подчеркивает, что эта теория позволяет Аристотелю сохранить единство значения ключевых терминов метафизики, не впадая в платоновский дуализм. Есть один фокус – первичная сущность – по отношению к которому выстраивается вся структура реальности и познания.
Абзацы [20-21] (продолжение)Текст Аристотеля: «Ибо мы можем также спросить, что такое качественное, так что качественное тоже есть что, только не безусловно, а примерно так же, как некоторые логически правильно говорят о несуществующем, что оно есть, только не безусловно, а как несуществующее. Теперь верно, что в отношении каждого мы должны также смотреть на то, как мы должны говорить о нем, [21] но еще больше на то, как он ведет себя на самом деле.»
Комментарий и критика:
Аристотель еще раз проясняет свою мысль об аналогии. Мы можем спросить «что это?» о качестве, но ответ («белое») будет означать «что» лишь во вторичном, производном смысле, подобно тому как мы можем сказать о не-сущем, что оно «есть» (в смысле «является не-сущим»), но его бытие – это бытие лишенности, а не позитивное бытие сущности.
Комментарий А.Ф. Лосева: Лосев усматривает здесь важнейший онтологический принцип: приоритет бытия над языком. Нельзя судить о природе вещи лишь по тому, как мы о ней говорим (например, используя слово «что»). Напротив, наш язык должен следовать за реальным положением дел («как он ведет себя на самом деле»). Структура языка (возможность задать вопрос «что?») отражает структуру бытия, но не тождественна ей.
Комментарий Э. Ансакомба (зарубежный): Anscombe (в своей знаменитой работе о логике Аристотеля) подчеркивает, что это различие – краеугольный камень аристотелевской критики платоников, которые, по его мнению, попадают в ловушку языка, принимая грамматическую форму за онтологическую реальность (например, если есть слово «справедливость», значит, есть и такая отдельная сущность).
Критическое описание: Аристотель предупреждает против наивного буквализма в метафизике. Философ должен анализировать не слова сами по себе, а стоящую за ними реальность.
Абзац [22]Текст Аристотеля: «Итак, поскольку то, о чем мы только что говорили, будет понятно, мы можем сказать, что, подобно [22] чему, чисто понятийное бытие, во-первых, безусловно обусловлено индивидуальной субстанцией, но, во-вторых, также и остальным, а именно таким образом, что это остальное не существует как чисто понятийное бытие, но что качественное или количественное принадлежит его сущности.»
Комментарий и критика:
Здесь подводится итог учению об аналогии. Суть бытия («чисто понятийное бытие») в собственном и первичном смысле (πρώτως – протос) принадлежит только индивидуальной субстанции. Для других категорий (качества, количества и т.д.) «чтó есть» существует лишь во вторичном смысле (δευτέρως – дейтерос).
Комментарий Д.В. Бугая: Бугай поясняет, что, например, суть бытия качества (скажем, белизны) – это не быть самостоятельной вещью, а быть определенным качеством некоторой субстанции. Ее бытие и ее определение производны от бытия субстанции, которой она принадлежит. Ее «чтóсть» – это «быть таким-то качеством».
Комментарий Дж. Оуэнса (зарубежный): Owens отмечает, что это утверждение систематизирует всю аристотелевскую онтологию, устанавливая строгую иерархию: сущность (οὐσία) есть центр, а все остальные категории – ее модусы или атрибуты.
Критическое описание: Это итог всего предшествующего анализа. Устанавливается аксиома: онтологический примат сущности над акциденциями влечет за собой логический и понятийный примат ее сути бытия.
Абзацы [23-24]Текст Аристотеля: «Этот последний вид бытия мы должны либо назвать бытием только на словах… правильнее, однако, считать это производное бытие не омонимичным и не тождественным с действительным бытием, а таким, как медицинское… Медицинское тело, например, медицинское произведение и медицинский аппарат не являются ни просто омонимами, ни действительно одним, но они относятся к одному…»
Комментарий и критика:
Аристотель уточняет тип этой связи. Связь между первичным и производным смыслом «чтó есть» – это не омонимия (случайное совпадение имени, как «ключ» от двери и «ключ» родник) и не синонимия (полное тождество значения, как у «быка» животного и его изображения). Это отнесенность к одному (πρὸς ἓν).
Комментарий А.Ф. Лосева: Лосев считает этот момент фундаментальным. Аристотель находит «золотую середину» между релятивизмом (все значения слова случайны) и платоновским гипостазированием (каждому слову соответствует одна идея). Медицинский инструмент, медицинская книга и медицинский работник – все они называются «медицинскими» не случайно и не одинаково, а потому что их значение отсылает к одному общему фокусу – искусству врачевания.
Комментарий Г. Рейля (зарубежный): Reale подчеркивает, что точно так же «чтó есть» цвета, количества и т.д. отсылает к единому фокусу – сущности. Их бытие-как-«чтó» производно от первичного бытия-как-«чтó» субстанции.
Критическое описание: Аристотель вводит мощный философский инструмент – «проса пон» – который позволяет ему объяснить единство и системность реальности, не отрицая ее многообразия.
Абзацы [25-28]Текст Аристотеля: «…всякое слово, обозначающее то же самое, что и понятие, теперь также является определением, но это происходит только тогда, когда слово является синонимом определенного понятия… Единое, однако, выражается как сущее: сущее обозначает [28] отчасти это, отчасти количественное, отчасти качественное. Следовательно, есть также понятие и определение белого человека, но в ином смысле белого и единой субстанции.»
Комментарий и критика:В заключение Аристотель возвращается к начальной проблеме – определению. Не всякое словосочетание, выражающее некое понятие, является определением сущности. Определение в строгом смысле требует синонимии, т.е. полного совпадения сути бытия между определяемым и определяющим.
Комментарий В.П. Леги: Лега указывает, что это окончательный приговор акцидентальным единствам. У «белого человека» есть некое описательное понятие (λόγος), но это не определение (ὁρισμός), так как понятие «белого человека» не синонимично понятию «человека» – оно добавляет несущественный признак.
Комментарий М. Фреде (зарубежный): Frede резюмирует: глава пришла к своему логическому завершению. Истинное определение возможно только для видов сущности. Для всего остального возможны лишь описания, значение которых производно и отнесено к сущности. Единство сущего, выраженное в analogia entis, гарантирует, что эти описания не бессмысленны, но их статус fundamentally отличен.
Критическое описание: Глава 4 завершает построение строгой теории сущности и ее определения. Аристотель установил, что:
Суть бытия – это то, что присуще вещи «само по себе».
Она выражается в определении.
Определение в собственном смысле существует только для сущностей.
Среди сущностей наипервейшим носителем сути бытия является вид (эйдос).
Для акцидентальных единств нет собственной сути бытия, а их понятия имеют смысл лишь через отнесенность к первичной сущности.
Это основа для дальнейшего анализа, который будет углубляться в природу самой формы и ее соотношение с материей и составной вещью.
Обобщение главы 4: Сущность как «чтойность»
Глава 4 представляет собой позитивный концептуальный прорыв в исследовании сущности. Если предыдущая глава была негативной (критика материи как сущности), то здесь Аристотель переходит к анализу следующего кандидата – «сути бытия» (τὸ τί ἦν εἶναι) или «чтойности». Его цель – выяснить, что представляет собой сущность, выраженная в понятии и определении.
Основной тезис главы: Истинная сущность вещи – это её «чтойность», выражаемая в определении (ὁρισμός). Однако определение в строгом смысле возможно только для субстанций (первично – для их видов, εἴδη), но не для акцидентальных единств, чьё бытие производно и сводимо к бытию субстанции.
Ключевые выводы по структурным элементам главы:Методологический переход к «более известному по природе». Аристотель совершает переход от анализа подлежащего (онтология) к анализу понятия (логика). Он движется от чувственно данных вещей («известное нам») к их умопостигаемым принципам и причинам («известное по природе»), каковым и является чтойность (Лосев, Зеллер). Это апостериорный метод, противопоставленный априорному методу Платона (Лега).
Критерий чтойности: «само по себе» vs «по совпадению». Центральный инструмент анализа – различение того, что принадлежит вещи «само по себе» (καθ' αὑτό) и что присуще ей «по совпадению» (κατὰ συμβεβηκός). Суть бытия – это то, что составляет природу вещи необходимо и без чего она не может быть собой (Бугай). Это исключает из определения все случайные и преходящие признаки.
Критика акцидентальных единств. Аристотель доказывает, что у сложных образований типа «белый человек» нет собственной чтойности. Их единство случайно, а не субстанциально. Они не являются самостоятельным «вот этим» (τὸ τόδε τι) и их понятие не синонимично понятию субстанции (Лосев, Фреде). Это пробный камень, показывающий силу его метафизики в различении подлинного и неподлинного бытия (Глушаков).
Утверждение вида (эйдоса) как носителя чтойности. Главный вывод главы: наипервейшим носителем сути бытия является вид (εἶδος). Род слишком общ, а индивид включает неопределённую материю, не схватываемую в понятии. Только вид представляет собой完美ное единство формы и выражает универсальную сущность всех своих индивидов (Бугай, Оуэнс). Таким образом, сущность, форма и вид оказываются тесно связаны.
Теория аналогии (πρὸς ἓν) и онтологический примат субстанции. Аристотель применяет свою теорию «отнесённости к одному» к понятиям «бытие» и «чтó есть». Подобно тому как бытие первично присуще субстанции, а прочим категориям – производно, так и «чтó есть» в собственном смысле принадлежит только субстанции. «Чтó есть» качества или количества – это его бытие как атрибута субстанции (Лосев, Рейль). Это устанавливает строгую иерархию в онтологии: сущность – центр, акциденции – её модусы.
Приоритет бытия над языком. Важный методологический принцип: нельзя судить о природе вещи лишь по тому, как мы о ней говорим (например, задавая вопрос «что это?»). Напротив, язык должен следовать за реальным положением дел («как он ведет себя на самом деле»). Это предупреждение против платоновской ошибки гипостазирования, когда языковому выражению приписывается отдельное онтологическое существование (Лосев, Анскомб).
Итоговое обобщение:Глава 4 закладывает логико-понятийный фундамент всей последующей метафизики Аристотеля. Он устанавливает, что:
Сущность есть то, что выражается в определении.
Определение раскрывает чтойность вещи – то, что она есть «сама по себе».
Чтойность в собственном смысле присуща только субстанциям, а именно – их видам.
Бытие и понятийность акциденций производны и отнесены к бытию субстанции.
Этот анализ позволяет Аристотелю снять дихотомию между единичным (материя) и общим (идея): вид (эйдос) не существует отдельно, как у Платона, но является общей сущностью, имманентно присущей множеству индивидов и выражаемой в их определении. Таким образом, глава 4 является мостом от критики материи к утверждению формы как истинной сущности.
Глава 5. Проблема определения сложных сущностей: допустимо ли «определение через добавление»?
Общий контекст главы.В 7-й книге («Зете») Аристотель исследует сущность (οὐσία). В главе 5 он сталкивается с фундаментальной проблемой: что может быть объектом истинного определения (λόγος, ὁρισμός)? Определение должно раскрывать сущность вещи. Здесь Аристотель argues, что сложные понятия (как «курносый») создают апории для теории определения, и приходит к выводу, что определение в собственном смысле слова возможно только для простых сущностей.
Критический разбор по абзацам[1] Здесь возникает трудность. Если не принимать в качестве определения понятие, созданное путем добавления нескольких характеристик, то возникает вопрос, в каком случае происходит определение чего-то не простого, а связанного. Ведь такое понятие может быть определено только путем добавления дополнительных характеристик.
Комментарий и критика (на основе Лосева, Бугая и зарубежных комментаторов):
Аристотель намечает центральную дилемму. Истинное определение, по его мнению, должно быть простым и указывать на единую сущность (τί ἐστι – что есть вещь). Но в языке и мышлении мы постоянно имеем дело со сложными, составными понятиями («курносый», «бледный человек»). Возникает вопрос: можно ли такие понятия определять, не сводя их к простым? Если нет, то мы лишаемся определения для огромного пласта реальности. Если да, то мы рискуем допустить «определение» через простое перечисление признаков, что для Аристотеля неприемлемо, так как такое определение не будет выражать единую сущность, а будет лишь акцидентальным соединением.
А.Ф. Лосев подчеркивает, что эта апория вытекает из самого аристотелевского понимания сущности как чего-то индивидуального и неделимого. Сложное образование уже не является первичной сущностью.
Зарубежные комментаторы (например, W.D. Ross) отмечают, что Аристотель здесь готовится провести жесткое разграничение между определением-сущностью (для простых субстанций) и описанием-через-сложение (для всего остального).
[2] Так, например, существуют нос и пустота, а пустотой называется то, что состоит из обоих, поскольку одно находится в другом; и действительно, пустота и пустота – это не случайные, а фундаментальные определения носа;
Комментарий и критика:
Аристотель выбирает пример «σιμός» (курносый, вздернутый, приплюснутый нос). Он разлагает это понятие на две части: 1) сам нос (субстанция) и 2) свойство «курносости» (вогнутость, пустота). Важный момент: он утверждает, что это соединение не случайное (не как «человек белый»), а сущностное («фунментальное»). Курносость по его мнению есть определенный вид вогнутости, а именно – вогнутость носа. Это ключевой пункт для последующей критики.
Комментаторы (как отечественные, так и зарубежные) видят здесь проблему. Является ли «курносость» действительно сущностным, а не акцидентальным свойством? Можно ли считать ее отдельным видом вогнутости? Критики Аристотеля (например, Порфирий) later argued, что «курносый» – это все же акцидентальное свойство носа, а не его видовая дифференция. Аристотель же намеренно выбирает сложный пример, чтобы проверить границы своей теории.
[3] не так, как белизна принадлежит Каллиасу или человеку, поскольку Каллиас – белый, а человек – случайно, но как мужественность принадлежит животному и то же самое – количественному, то есть в порядке фундаментального определения.
Комментарий и критика:
Здесь Аристотель противопоставляет два типа предикации:
Случайная (акцидентальная): «Каллиас – белый». Белизна не является сущностным свойством Каллиаса-человека.
Сущностная (в порядке фундаментального определения): «Животное – мужское» (если рассматривать «мужское» как дифференцию внутри вида «животное»). Или «число – нечетное». Нечетность – не случайное свойство числа, а свойство, вытекающее из его сущности (делимости на два).
Бугай Д.Д. в своих работах обращает внимание на то, что Аристотель пытается найти промежуточный класс предикатов, которые не являются ни чистыми субстанциями, ни чистыми акцидентами. Это предикаты, которые хотя и не существуют отдельно, но определяют способ существования субстанции (например, быть мужским или женским для животного).
[4] Такое фундаментальное определение – это определение, в котором содержится понятие или слово, которым оно определяется, и которое не может быть понято без этого понятия; например, белизну нельзя определить без понятия мужчины, а женственность нельзя определить без понятия животного.