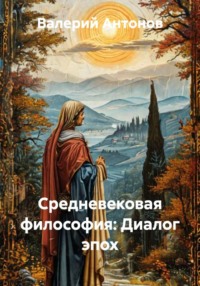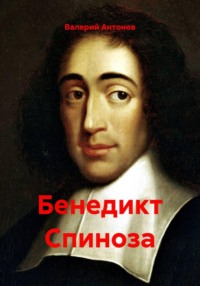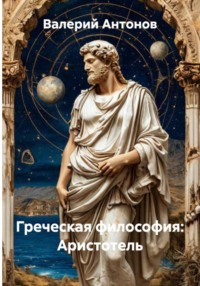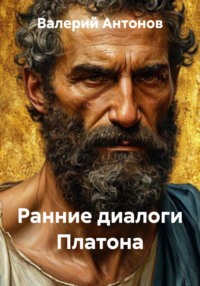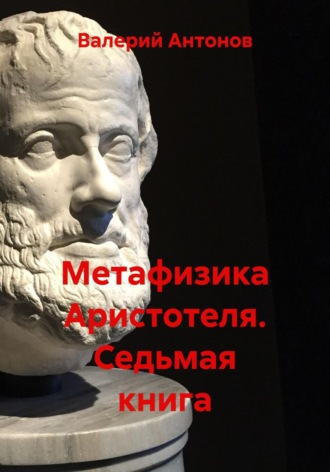
Полная версия
Метафизика Аристотеля. Седьмая книга
А. В. Лебедев (отечественный антиковед): Лебедев отмечает, что Аристотель точно схватывает главную проблему платонизма: «раздвоение мира» на умопостигаемый и чувственный. Для Аристотеля это излишне усложняет онтологию. Его ключевой вопрос к Платону: как именно идеи, существующие отдельно, могут быть сущностями этих вещей? Эта критика развернута в последующих книгах.
Вывод по абзацу: Аристотель представляет учение своего учителя как наиболее разработанную, но проблематичную альтернативу наивному реализму.
[5] Спевсипп предположил еще больше субстанций…Аристотель упоминает Спевсиппа, преемника Платона в Академии, который пошел еще дальше, постулируя отдельные и несводимые друг к другу принципы (сущности) для разных уровней бытия: Единое для чисел, нечто иное для величин, еще одно для души и т.д.
Критический комментарий:
Leonardo Tarán (американский филолог, специалист по Спевсиппу): Tarán в своих исследованиях показывает, что Аристотель здесь, вероятно, несколько упрощает и карикатуризирует взгляды Спевсиппа в полемических целях. Однако суть передана верно: Спевсипп отрицал платоновскую идею Единого Блага как высшего принципа и заменял ее множеством независимых начал. Для Аристотеля это – худший вариант платонизма, так как он полностью разрушает единство онтологии и делает невозможным единое науку о сущем (метафизику).
Т. Ю. Бородай (отечественный исследователь): В своих работах Бородай указывает, что критика Спевсиппа для Аристотеля crucial (решающе важна), так как она демонстрирует тупик, к которому ведет отказ от поиска единой первопричины и первичной сущности. Множественность неизменных субстанций ведет к эпистемологическому хаосу.
[6] Некоторые говорят, что идеи и числа имеют одну и ту же природу…Это отсылка к другой группе внутри Академии, возможно, к Ксенократу, который стремился упростить систему Платона, отождествив идеи с числами и выводя из них все остальные роды сущего (геометрические объекты и физический мир).
Критический комментарий:
John Dillon (ирландский историк философии, специалист по Древней Академии): Dillon поясняет, что это попытка построить единую, строго дедуктивную онтологическую систему, где все сущее выводится из первопринципов по аналогии с математикой. Однако для Аристотеля эта попытка также порочна, поскольку она пытается свести качественное многообразие мира к количественным (числовым) отношениям. Как он будет argue (спорить) позже, сущность – это не число.
С. В. Месяц (отечественный исследователь): В своих переводах и комментариях Месяц отмечает, что Аристотель consistently (последовательно) критикует пифагорейско-платоническую редукцию бытия к number (числу). Его главный аргумент: такая редукция не объясняет сущность как причину бытия и становления конкретной вещи. Как число «два» может быть сущностью этого вот дерева?
[7] Что из всего этого верно или неверно… это мы сейчас и выясним.Аристотель подводит итог всем поставленным вопросам и announces (провозглашает) программу всего последующего исследования. Он перечисляет ключевые проблемы: критерий сущности, существование отдельно от чувственного, отношение между сущностями.
Критический комментарий:
Michael Frede (немецко-американский историк философии): Frede подчеркивает, что этот пассаж – brilliant (блестящий) пример аристотелевского метода. Он не навязывает свою систему сходу, а сначала проводит диарезу (διαίρεσις) – различение всех существующих мнений, выявляя их трудности (апории). Только после этого можно приступить к их разрешению. Фраза «сначала кратко проанализируем понятие» указывает на то, что анализ начнется с логико-лингвистического исследования значения «сущности» (категории сущности в «Категориях»), что и происходит в главе 3.
В. В. Бибихин (отечественный философ и переводчик): Бибихин в своих лекциях обращал внимание на последний вопрос: «существует ли индивидуальная субстанция сама по себе… или же ее нет отдельно от чувственно воспринимаемого». Это центральная дилемма. Ответ Аристотеля будет диалектическим: да, форма (вид, εἶδος) является сущностью и может быть помыслена отдельно от материи (и в этом смысле «отдельна»), но в реальном мире она не существует отдельно от материи, кроме случая с Нусом (Умом), божественной сущностью.
Обобщение главы 2: Исследование природы индивидуальной субстанции.
Глава 2 книги 7 «Метафизики» Аристотеля выполняет программную и апоретическую функцию. В ней не дается ответа на вопрос «что такое сущность?», но meticulously (тщательно) очерчивается поле исследования, формулируются ключевые проблемы (апории) и подвергаются критическому разбору существующие философские позиции. Это отправная точка, с которой начнется собственный диалектический поиск Аристотеля.
Основной тезис главы: Первичная сущность не является ни чем-то очевидным и чувственным, ни чисто умопостигаемым и математическим, ни множеством разрозненных принципов. Ее поиск требует преодоления этой дихотомии.
Ключевые выводы по структурным элементам главы:Уважение к «явлениям» (φαινόμενα) и отправная точка. Аристотель начинает с общепринятого мнения (эндо́ксон), что сущности – это чувственно воспринимаемые тела (животные, растения, элементы). Однако, как отмечают комментаторы (Ross, Ахылов), это лишь исходная точка анализа, а не его итог. Чувственные тела – кандидаты на роль сущности, но они сложны (состоят из материи и формы) и преходящи, что ставит под сомнение их первичность.
Центральная апория метафизики. Аристотель сразу же ставит главный вопрос (Owens, Ильенков): являются ли эти тела единственными сущностями, или существуют иные, нематериальные? Этим вопросом он фиксирует фундаментальную дилемму всей античной философии: линия Демокрита (материальное) против линии Платона (нематериальное). Аристотель намечает свой путь – поиск «третьего пути», который снимет это противоречие.
Критика математизирующего подхода (Пифагор, Платон). Рассматривается альтернативная позиция, что истинные сущности – это математические объекты (поверхности, линии, числа) как более вечные и точные (Bostock). Аристотель и его комментаторы (Гайденко) отвергают это: математические объекты – лишь абстракции, свойства тел, не способные к самостоятельному существованию и не объясняющие причин бытия вещей.
Критика платонического «удвоения мира» и его крайних форм. Аристотель детально разбирает учение Платона об Идеях и математических объектах как отдельных сущностях, видя в нем главного оппонента. Критика заключается в:
Неоправданном умножении сущностей (Лебедев): мир удваивается на умопостигаемый и чувственный, что излишне усложняет онтологию.
Отрыве сущности от вещи: Как отдельно существующая Идея может быть сущностью конкретной вещи? Этот вопрос остаётся без ответа.
Доведении платонизма до абсурда: Учения Спевсиппа (множество независимых начал) и Ксенократа (отождествление идей с числами) показывают тупиковость этого пути. Они ведут к эпистемологическому хаосу (Бородай) и невозможности построить единую науку о сущем, а также к необъяснимой редукции качественного мира к количественным числовым отношениям (Dillon, Месяц).
Провозглашение метода. Финальный пассаж главы – это не заключение, а объявление программы исследований (Frede). Аристотель применяет диалектический метод: сначала собрать и проанализировать существующие мнения (диареза), выявить их трудности (апории), и только затем двигаться к их разрешению через анализ ключевых понятий (в первую очередь, через логико-лингвистическое исследование понятия «сущность» в следующей главе).
Итоговое обобщение:Глава 2 представляет собой карту проблемного поля метафизики. Аристотель показывает, что ни наивный реализм (только тела), ни крайний идеализм (отдельные идеи или числа), ни плюрализм (множество несводимых начал) не могут адекватно объяснить природу первичной сущности. Все эти подходы либо не видят за телом его умопостигаемых принципов, либо отрывают эти принципы от телесной реальности. Задача Аристотеля – найти такой принцип (форму, суть бытия), который был бы истинной причиной и сущностью чувственной вещи, не существуя отдельно от нее (за исключением высшей, божественной сущности), тем самым преодолев разрыв между чувственным и умопостигаемым.
Глава 3. Анализ понятия «субстанция» через категорию субъекта: материя, форма и сложная сущность.
Абзац [1]Текст Аристотеля: «Единая субстанция имеет если не несколько, то, по крайней мере, предпочтительно четыре значения: ибо понятие, общее и род кажутся субстанцией каждой вещи, а четвертое – это субъект. Субъект – это то, от чего предицируется другое, не будучи само предицировано от другого. Поэтому мы должны сначала установить понятие субъекта: ведь субъект (в собственном смысле этого слова) представляется предпочтительно единой субстанцией».
Комментарий и критика:
Аристотель начинает с перечисления четырех кандидатов на роль сущности (οὐσία): суть бытия (λόγος τῆς οὐσίας, переведенное как «понятие»), общее (τὸ καθόλου), род (τὸ γένος) и подлежащее (τὸ ὑποκείμενον). Он сразу же фокусируется на последнем – ὑποκείμενον (субъект, субстрат, подлежащее), определяя его как то, что служит основой для predication (сказывания о нем чего-либо), но само не сказывается о другом.
Комментарий А.Ф. Лосева: Лосев подчеркивает, что Аристотель здесь проводит фундаментальное различие между логическим и онтологическим подходами. «Подлежащее» – это прежде всего онтологическая основа, «первая материя» бытия, то, что несет на себе все свойства и определения. Однако Лосев предупреждает, что простое отождествление сущности с подлежащим является наивным и ведет к материализму, что и будет раскритиковано далее.
Комментарий Д.В. Бугая: Бугай акцентирует, что выбор подлежащего в качестве приоритетного кандидата – это следование здравому смыслу и досократической традиции (искавшей первоначало – ὕδωρ, ἀήρ и т.д.). Это отправная точка диалектического движения мысли, которая должна быть пройдена и преодолена для достижения более точного определения.
Критическое описание: Аристотель начинает с наиболее очевидного и «физического» определения сущности как субстрата. Однако это определение имплицитно содержит проблему: если сущность – это просто то, что остается после снятия всех свойств, то мы приходим к чистой, неопределенной материи, которая не может быть сущностью отдельной вещи. Это начало апории, которую философ будет разрешать.
Абзацы [2-5]Текст Аристотеля: «Субъект или субстрат называется материей в одном смысле, формой – в другом, а продуктом этих двух – в третьем. Под материей я понимаю, например, руду, под формой – внешний вид, под продуктом того и другого или целого – законченную живописную колонну. Если, следовательно, форма возникла раньше материи и существует в более высокой степени, то по той же причине она будет раньше и того, что стало из обоих».
Комментарий и критика:
Аристотель уточняет, что «подлежащее» неоднозначно. Он вводит ключевые понятия своей метафизики: материя (ὕλη), форма (μορφή, εἶδος) и синтез обоих (συνόλον) – конкретная вещь.
Комментарий (общий для многих интерпретаторов, включая российских): Пример с колонной (или статуей, как в других переводах) является классическим. Медь – материя, очертание (σχῆμα) – форма, а готовая колонна – составная сущность. Важнейшее утверждение – о приоритете формы. Форма не просто «возникает раньше» в процессе изготовления, но онтологически и актуально первичнее. Именно форма делает материю чем-то, определяет ее.
Комментарий В.П. Леги (отечественный исследователь): Лега отмечает, что Аристотель здесь намечает путь к решению: сущностью не может быть просто материя, но и не просто форма в платоновском смысле (как отдельная идея), а форма, воплощенная в материи, или, точнее, форма как принцип организации материи в конкретную вещь.
Критическое описание: Это ключевой момент методологии Аристотеля. Он не просто отвергает предыдущее определение, а показывает его сложность. Подлежащее как сущность оказывается тройственным. Это снимает наивность первоначального подхода и готовит почву для анализа.
Абзацы [6-10]Текст Аристотеля: «Теперь мы указали, что такое индивидуальная субстанция: то, что предицируется не от субъекта, а от всего остального… Но мы не должны останавливаться на этом определении, поскольку оно недостаточно… ибо при таком определении материя становится единой субстанцией… Если мы теперь отнимем длину, ширину и высоту, то обнаруживаем, что не остается ничего, кроме, самое большее, того, что ими ограничено, так что с этой точки зрения материя предстает как единая субстанция».
Комментарий и критика:
Аристотель проводит мысленный эксперимент: если последовательно удалять все свойства (предикаты) вещи – не только качества, но и количественные определения (размеры), – то в конечном счете остается лишь неопределенный субстрат, чистая материя.
Комментарий Лосева: Лосев видит здесь brilliant диалектический ход. Аристотель демонстрирует, что логика отождествления сущности с подлежащим неминуемо ведет к апории: последним подлежащим оказывается «никакая» материя, лишенная всякой определенности, «не-сущее» (μὴ ὄν), которое, однако, является основой всего сущего. Это «чистая потенциальность».
Комментарий Д.Б. Харта (зарубежный, в интерпретации Бугая): Харт сравнивает этот аристотелевский субстрат с современным понятием «вещи в себе»: мы можем мыслить его только как предел абстракции, но познать его самого по себе, лишенного всех форм, невозможно. Он есть лишь условие возможности множественности и изменчивости вещей.
Критическое описание: Аристотель показывает тупиковость материализма. Если сущность – это только материя, то сущность любой вещи (статуи, человека, дома) одна и та же – аморфный, неопределенный субстрат. Это противоречит нашему интуитивному пониманию сущности как того, что делает вещь именно этой вещью.
Абзацы [11-13]Текст Аристотеля: «Я называю материей то, что само по себе не является ни чем-то, ни количественным, ни чем-либо еще из того, через что мы определяем бытие… последняя, таким образом, сама по себе не есть ни нечто, ни количественное, ни что-либо иное. Столь же мало можно считать отрицание всех этих предикатов такой конечной субстанцией, ибо эти отрицания существуют лишь случайным образом. В соответствии с этим, следовательно, материя предстает как индивидуальная субстанция. Но это невозможно».
Комментарий и критика:
Дается строгое определение материи: то, что актуально не является ни одной из категорий, но потенциально может стать любой из них. Материя – это не отрицание предикатов (не-красное, не-тяжелое), а их основание-возможность.
Комментарий Бугая: Бугай подчеркивает, что Аристотель здесь проводит границу между своей концепцией материи и платоновским «не-сущим» из «Софиста». Материя у Аристотеля – не абсолютное небытие, а иное по отношению к форме, возможность бытия.
Комментарий Дж. Оуэнса (зарубежный): Owens отмечает, что статус материи – чисто умопостигаемый. Мы никогда не встречаем ее в опыте, мы приходим к ней через абстракцию (метод «логического отнятия»). Ее бытие – это бытие в возможности (δυνάμει).
Критическое описание: Аристотель заключает: вывод о том, что материя – это сущность, является логическим следствием изначального определения, но он неприемлем онтологически. Это reductio ad absurdum (доведение до абсурда) наивной точки зрения.
Абзацы [14-16]Текст Аристотеля: «Но это невозможно: ведь для единичной субстанции существенно, что она существует как самостоятельное это, и по этой причине форма и то, что состоит из материи и формы, вероятно, хотели бы быть в большей степени единичной субстанцией, чем материя. Однако мы должны оставить здесь единую вещь, состоящую как из материи, так и из формы, поскольку она занимает более позднее положение и ее смысл ясен. В определенной степени материя также является умопостигаемым понятием. Третье понятие, с другой стороны, должно быть проанализировано, поскольку оно является самым сложным. Теперь мы согласны с тем, что среди разумных субстанций есть отдельные субстанции: среди них мы должны сначала найти наше понятие».
Комментарий и критика:Здесь – разрешение апории и указание на дальнейший путь. Критерий истинной сущности – быть «отдельным этим» (τὸ τὶ ὄν, лат. hoc aliquid). Материя неотличима и неотделима, она не «это», а «то, из чего». Следовательно, сущностью в первую очередь является форма (эйдос), а во вторую – составная вещь.
Комментарий Лосева: Лосев утверждает, что это кульминация главы. Аристотель приходит к выводу, что форма есть принцип индивидуации и определенности. Именно форма делает материю конкретной, отдельной вещью. Составная сущность (целое) вторична, так как зависит от формы для своего единства.
Комментарий М. Фреде (зарубежный): Frede указывает, что Аристотель не просто отвергает материю, а устанавливает иерархию: 1. Форма (наипервейшая сущность), 2. Составная вещь, 3. Материя. Материя называется сущностью лишь в слабом, производном смысле, как субстрат.
Критическое описание:Глава выполняет роль негативного диалектического шага. Аристотель очищает поле от неадекватных определений (сущность как материя) и указывает на двух главных претендентов: форму и суть бытия вещи (λόγος τῆς οὐσίας), анализ которого составит содержание последующих глав. Решение отдать приоритет форме
Обобщение главы 3: Анализ понятия «субстанция» через категорию субъекта.
Глава 3 представляет собой диалектическое движение мысли, которое начинается с общепринятого и очевидного определения сущности и, через его имманентную критику и доведение до логического предела, приходит к его отрицанию и указанию на истинного кандидата. Это наглядная демонстрация аристотелевского метода разрешения апорий.
Основной тезис главы: Хотя сущность как подлежащее (ὑποκείμενον) является логичной отправной точкой, отождествление сущности с материальным субстратом ведет в тупик. Истинной сущностью, отвечающей критерию «быть отдельным этим» (τὸ τὶ ὄν), является не материя, а форма (εἶδος, μορφή), которая и придает материи определенность и индивидуальность.
Ключевые выводы по структурным элементам главы:Выбор отправной точки и постановка апории. Аристотель начинает с анализа сущности как «подлежащего» – того, о чем все сказывается, но что не сказывается ни о чем другом (Лосев, Бугай). Это уважение к здравому смыслу и физической интуиции (традиция досократиков). Однако в этом определении уже заложена проблема, которую предстоит вскрыть.
Уточнение понятия «подлежащее»: введение триады. Аристотель сразу усложняет картину, показывая, что «подлежащее» понимается в трех смыслах:
Материя (ὕλη) – то, из чего вещь состоит (медь).
Форма (εἶδος) – то, что вещь есть, ее структура и суть (форма статуи).
Синтез (συνόλον) – конкретная вещь как единство материи и формы (готовая статуя).
Уже здесь заявляется приоритет формы как онтологически первичного начала (Лега).
Мысленный эксперимент и редукция к абсурду. Центральный логический ход главы – последовательное «снятие» всех предикатов (свойств, количеств, качеств) с вещи. Этот анализ показывает, что если настаивать на идентификации сущности с подлежащим, то в остатке мы получаем чистую материю – неопределенный, лишенный всяких свойств субстрат (Лосев).
Этот субстрат невозможно познать (Харт), он есть «чистая потенциальность» (δυνάμει) и сам по себе не является ничем определенным (Оуэнс).
Таким образом, исходное определение приводит к абсурдному выводу: сущностью любой вещи является одна и та же аморфная материя, что противоречит самому понятию сущности как того, что делает вещь именно этой вещью.
Окончательный вердикт материи. Аристотель делает категоричный вывод: материя не может быть первичной сущностью. Она не удовлетворяет ключевому критерию – быть «отдельным этим» (τὸ τὶ ὄν). Материя неотличима, неиндивидуальна и актуально не существует сама по себе.
Разрешение апории и указание на путь вперед. Критика материи не означает возврата к началу. Диалектический процесс разрешается утверждением новой иерархии кандидатов в сущности (Фреде):
1. Форма (εἶδος) – наипервейшая сущность, активный принцип, определяющий и организующий материю, делающий вещь тем, что она есть.
2. Синтез формы и материи (συνόλον) – конкретная вещь, которая является сущностью лишь вторично, так как своим единством и определенностью обязана форме.
3. Материя (ὕλη) – называется сущностью лишь в слабом, производном смысле, как необходимый субстрат.
Итоговое обобщение:Глава 3 выполняет роль негативного пролога ко всему последующему исследованию. Ее цель – устранить неадекватное, но соблазнительное определение сущности как материи. Путем логической редукции Аристотель демонстрирует, что сущность не может быть пассивным субстратом, но должна быть активным принципом определенности и индивидуации. Этим принципом является форма.
Вывод главы не окончателен, но стратегически важен: он очищает поле для позитивного анализа. Указав на форму как на главного претендента, Аристотель теперь должен исследовать ее природу. Это ведет к анализу следующего кандидата из начального списка – «сути бытия» (λόγος τῆς οὐσίας), которой и посвящены последующие главы. Таким образом, глава 3 – это ключевой поворот от физического субстрата к метафизическому принципу.
Глава 4. Сущность как «чтойность»: поиск определения и принципы концептуального бытия.
Абзац [1]Текст Аристотеля: «Поскольку в самом начале мы различали разные значения единой субстанции, и одно из них, по-видимому, было термином, мы должны рассмотреть последнее. Ибо полезно перейти к тому, что более известно.»
Комментарий и критика:
Аристотель возвращается к перечню кандидатов в сущности из начала гл. 3 и объявляет, что теперь будет исследовать «чтойность» или «суть бытия» (τὸ τί ἦν εἶναι) – тот самый «термин» (λόγος), который является концептуальным выражением сущности.
Комментарий А.Ф. Лосева: Как отмечает Лосев, Аристотель в этом месте совершает важный переход: от онтологического рассмотрения подлежащего (гипокейменона) – к логико-диалектическому анализу его определения. «Суть бытия» трактуется не как просто слово, а как смысловая структура, раскрывающая самую глубокую определенность вещи. Следовательно, знаменитый аристотелевский принцип «перехода от более известного нам к более известному по природе» означает здесь движение от вещи, данной в чувствах, к её умопостигаемому логосу, то есть к определению.
Комментарий Э. Зеллера (зарубежный): Zeller видит здесь применение аристотелевского метода восхождения от более известного для нас (τὰ ἡμῖν γνωριμώτερα) – конкретных вещей – к более известному по природе (τὰ φύσει γνωριμώτερα) – к их принципам и причинам, каковой и является суть бытия.
Критическое описание: Аристотель четко определяет следующий шаг своего исследования. Если глава 3 была негативной (критика субстрата как сущности), то глава 4 – позитивная: что же такое сущность, если выразить ее в понятии?
Абзацы [2-4]Текст Аристотеля: «Всякое познание происходит таким образом, что человек продвигается через то, что само по себе менее познаваемо, к тому, что само по себе более познаваемо… Но то, что узнаваемо и далее известно индивидуальному субъекту, часто мало узнаваемо само по себе и имеет мало или совсем ничего от существующего. Тем не менее, мы должны попытаться узнать то, что узнаваемо само по себе, из того, что мало узнаваемо само по себе, но из субъекта, исходя, как я уже сказал, из первого.»
Комментарий и критика:
Это методологическое отступление, где Аристотель поясняет свой эпистемологический принцип. Познание движется от частных, чувственных данных к общим, умопостигаемым принципам.
Комментарий В.П. Леги: Лега указывает, что здесь Аристотель противопоставляет свое понимание познания платоновскому. Для Платона познание – это припоминание уже готовых идей из мира иного. Для Аристотеля – это восхождение от опыта к сущности. Мы начинаем с вещей, которые «мало познаваемы по природе» (ибо изменчивы и случайны), чтобы прийти к тому, что «познаваемо по природе» (неизменной сущности).
Комментарий Дж. Барнса (зарубежный): Barnes обращает внимание на тонкое место: Аристотель говорит, что известное нам «имеет мало или совсем ничего от существующего» (μικρὸν ἢ οὐθὲν ὑπάρχει τοῦ ὄντος). Это не значит, что вещи не существуют, а значит, что в своем эмпирическом, случайном виде они не выражают своей истинной, существенной природы в полной мере. Их бытие затемнено акциденциями.
Критическое описание: Аристотель обосновывает свой метод. Он не занимается чистым умозрением, а исходит из данных опыта, чтобы подняться до уровня метафизики. Это апостериорный метод, в отличие от априорного метода Платона.
Абзацы [5-8]Текст Аристотеля: «Согласно своей субстанциальной сущности или понятию, каждая вещь есть то, чем она является сама по себе… Поэтому то, чем вы являетесь в соответствии с вашим бытием в себе, есть чистое понятие или субстанциальная сущность вашей личности… это концептуальное определение чего-либо, которое указывает на его сущность без того, чтобы определяемое понятие было включено в определение.»