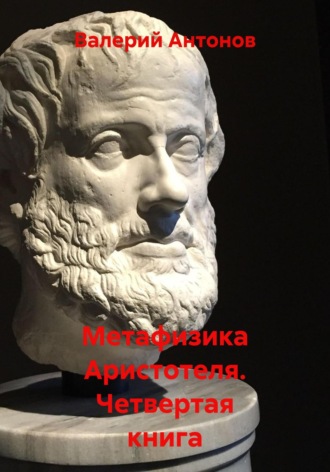
Полная версия
Метафизика Аристотеля. Четвертая книга
Перевод: "То, что диалектика и софистика занимаются тем же предметом, что и философия, доказывает, что эти вопросы, собственно, принадлежат философии. Ибо софистика есть лишь кажущаяся, а диалектика – всеобщая (поскольку сущее как сущее есть всеобщее) мудрость. Обе движутся в области философии, но философия отличается от диалектики большей силой познания, от софистики – выбором образа жизни. Диалектика только пробует то, что философия знает; софистика имеет лишь видимость мудрости, а не саму вещь."
Комментарий: Швеглер точно улавливает различие по «силе познания» (Kraft der Erkenntniss) между философией и диалектикой. Он также подчеркивает, что общность предмета («все») является именно общностью сущего как такового.
Вернер Йегер (Werner Jaeger), «Aristoteles: Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung»:
"Aristotle here delimits his own metaphysics sharply from the Platonic dialectic on the one hand and from sophistry on the other. The former has the same formal object, being as such, but it remains in the sphere of the problematic and does not attain to apodictic science. The latter uses the same methods, but for a purpose foreign to science, that of appearance and victory in dispute."
Перевод: "Аристотель здесь четко отграничивает свою собственную метафизику, с одной стороны, от платоновской диалектики, а с другой – от софистики. Первая имеет тот же формальный объект, сущее как таковое, но остается в сфере проблематического и не достигает аподиктической [доказательной] науки. Вторая использует те же методы, но для цели, чуждой науке, – для создания видимости и победы в споре."
Комментарий: Йегер, рассматривающий «Метафизику» в developmental key, видит в этом пассаже полемику Аристотеля с его платоновским прошлым. Диалектика для него – это прежде всего платоновский метод, который Аристотель признает релевантным, но недостаточным.
Алексей Фёдорович Лосев:
Лосев акцентирует, что Аристотель здесь дает не просто описание, а онтологическую иерархию познавательных практик. Философия – это обладание истиной (ἐπιστήμη). Диалектика – это «испытание» (πειραστική), метод проб и ошибок, движущийся в сфере мнения (δόξα) и не могущий дать окончательного доказательства. Софистика – это не знание, а лишь способность к созданию иллюзии знания (δύναμις παρασκευαστική), подчиненная не истине, иной жизненной цели (προαίρεσις βίου) – например, славе или обогащению. Таким образом, различие проводится не по предмету, а по модусу его освоения и по конечной цели.
Дмитрий Владимирович Бугай:
Бугай обращает внимание на тонкость аристотелевской критики: он не изгоняет диалектику полностью, а отводит ей подчиненную, пропедевтическую роль. Диалектика полезна для «испытания» первых начал, которые недоказуемы прямым образом. Она помогает прояснить апории и подготовить почву для философского усмотрения (νοῦς). Софистика же не имеет никакой познавательной ценности, так как ее цель – не истина, а победа в споре любой ценой, что извращает саму природу logos'а.
Оригинальный текст на древнегреческом и филологический комментарий
σημεῖον δ’ [24] καὶ τὸ τοὺς διαλεκτικοὺς καὶ σοφιστὰς ὁμοίως τοῖς φιλοσόφοις αὐτὸ περιβεβλῆσθαι σχῆμα· ἡ μὲν γὰρ σοφιστικὴ φαινομένη σοφία ἐστὶ μόνον, οἱ δὲ διαλεκτικοὶ διαλέγονται περὶ ἁπάντων, καὶ κοινὸν ἁπάντων τὸ ὄν ἐστιν,
[24] – σημεῖον δ’ καὶ τὸ… – «Признаком же [этого] является и то, что…». Аристотель переходит к новому доказательству своего тезиса о предмете философии, указывая на то, что даже ее имитаторы вынуждены заниматься тем же кругом вопросов.
αὐτὸ περιβεβλῆσθαι σχῆμα – «облекаются в ту же самую внешность/форму». Идиома, означающая «принимают тот же вид, создают видимость».
κοινὸν ἁπάντων τὸ ὄν ἐστιν – «сущее есть общее для всего». Это ключевая мысль: поскольку все, о чем можно рассуждать, есть нечто сущее, то общим предметом для всех споров оказываются свойства самого сущего. Диалектик, рассуждая о чем угодно, волей-неволей затрагивает предмет философии.
περὶ γὰρ ταῦτα διαλέγονται, καὶ δῆλον ὡς διὰ ταῦτα περὶ αὐτὰ ἡ διατριβὴ αὐτοῖς ἐστιν. [25] ἀλλ’ αὕτη μὲν περὶ ταὐτὰ τῇ φιλοσοφίᾳ ἐστίν, διίσταται δὲ τῆς μὲν διαλεκτικῆς τῇ δυνάμει, τῆς δὲ σοφιστικῆς τῇ τοῦ βίου προαιρέσει.
[25] – ἀλλ’ αὕτη μὲν περὶ ταὐτὰ τῇ φιλοσοφίᾳ ἐστίν – «Но она [софистика] движется в круге тех же [предметов], что и философия». Местоимение αὕτη относится к софистике, упомянутой последней. Обе – и софистика, и диалектика – имеют тот же предмет.
τῇ δυνάμει – «по способности/силе/потенции». Речь идет о различной познавательной мощи. Философия – это реализованная способность к знанию (ἑξις), обладание истиной. Диалектика – это лишь потенция (δύναμις) к исследованию, не обретающая окончательной формы.
τῇ τοῦ βίου προαιρέσει – «выбором жизненной цели/направления жизни». Προαίρεσις – фундаментальное аристотелевское этическое понятие, обозначающее сознательный и обдуманный выбор, определяющий характер деятельности. Это различие лежит уже не в гносеологической, а в этической плоскости.
ἡ μὲν γὰρ διαλεκτικὴ πειραστικὴ ἐστὶ περὶ ὧν ἡ φιλοσοφία γνωριστική, ἡ δὲ σοφιστικὴ φαινομένη μόνον, οὖσα δ’ οὔ.
πειραστικὴ… γνωριστική – «является испытующей… [в то время как философия] является познающей». Πειραστική (от πειράω – пробовать, испытывать) – это искусство проверки и постановки вопросов. Γνωριστική (от γνῶσις – знание) – это способность к положительному, достоверному познанию.
φαινομένη μόνον, οὖσα δ’ οὔ – классическая аристотелевская формула для обозначения кажимости, лишенной онтологической основы: «[софистика есть] лишь кажущаяся [мудрость], но по сути не являющаяся ею».
Все противоположности сводятся к Единому и Многому (Сущему и Не-сущему).
Кроме того, из противоположностей [26] один ряд – это лишение, и все сводится к существующему и несуществующему, к единому и многому: так, например, покой оказывается на стороне единого, движение – на стороне многого. Почти все согласны с тем, что существующее и реальное состоит из противоположностей: Ибо все утверждают, что противоположности – это принципы, одни прямые и непрямые, другие теплые и холодные, третьи ограниченные и неограниченные, четвертые дружба и вражда.
Принципы всех философов подпадают под Единое и Многое.
Все эти [28] противоположности, вместе с другими, сводятся к единому и многому, в связи с чем можно предположить и то сведение, которое мы сделали в другом месте. Принципы других философов, безусловно, подпадают под эти два родовых понятия.
Отредактированный и исправленный текст Аристотеля (Метаф. IV, 2)
[Все противоположности сводятся к Единому и Многому (Сущему и Не-сущему).]Далее, из всех противоположностей [26] один член каждой пары есть лишение [другого], и все они могут быть сведены к сущему и не-сущему, к единому и многому. Возьмем, к примеру, покой: он относится к [стороне] единого, а движение – к [стороне] многого.
[Почти все согласны с тем, что существующее и реальное состоит из противоположностей:]
Почти все мыслители сходятся во мнении, что сущее и субстанция [τὰ ὄντα καὶ ἡ οὐσία] состоят из противоположностей. Во всяком случае, все провозглашают началами противоположности: одни – чет и нечет, другие – горячее и холодное, третьи – предел и беспредельное, четвертые – Любовь [Дружбу] и Вражду.
[Принципы всех философов подпадают под Единое и Многое.]И все эти [28] [противоположности], как и прочие, сводятся к единому и многому (это сведение мы уже предполагали в других наших рассуждениях). Таким образом, становится ясно, что начала, выдвигаемые другими философами, также подпадают под указанные нами родовые понятия [единого и многого].
Комментарии.
Альберт Швеглер (Albert Schwegler), «Die Metaphysik des Aristoteles»:
"Ferner: da von den Gegensätzen die eine Seite ein Mangel (στέρησις) ist, so lassen sich alle auf Sein und Nichtsein, Eines und Vieles zurückführen… So ist z.B. die Ruhe dem Einen, die Bewegung dem Vielen zuzuzählen. So behaupten denn auch fast Alle, dass das Seiende und die Substanz aus Gegensätzen bestehe… Und so lassen sich denn auch alle diese Gegensätze, wie wir es an einem andern Orte ausgeführt haben, auf das Eine und Viele zurückführen, so dass die Principien aller früheren Philosophen unter diese Gattungsbegriffe fallen."
Перевод: "Далее: поскольку из противоположностей одна сторона есть лишение (στέρησις), то все они могут быть сведены к бытию и не-бытию, единому и многому… Так, например, покой следует относить к единому, движение – к многому. Так что почти все и утверждают, что сущее и субстанция состоят из противоположностей… И таким образом, все эти противоположности, как мы показали это в другом месте, сводятся к единому и многому, так что начала всех прежних философов подпадают под эти родовые понятия."
Комментарий: Швеглер точно схватывает логику Аристотеля: сведение к единому и многому возможно именно потому, что одна из противоположностей всегда трактуется как лишение (στέρησις) другой. Не-сущее – лишение сущего, многое – лишение единого, холод – лишение тепла и т.д.
Герман Бониц (Hermann Bonitz), «Aristotelische Studien» и комментарии:
"Aristoteles sucht nachzuweisen, dass die von den Vorgängern aufgestellten Prinzipienpaare sich sämtlich unter die höchsten Gegensätze des Einen und Vielen subsumieren lassen. Dies ist für ihn die Rechtfertigung dafür, dass seine Wissenschaft vom Seienden als Seienden sich vornehmlich mit diesen allgemeinsten Bestimmungen zu beschäftigen hat."
Перевод: "Аристотель стремится доказать, что все пары начал, установленные его предшественниками, могут быть подведены под высшие противоположности единого и многого. Это для него является оправданием того, что его наука о сущем как сущем должна заниматься прежде всего этими самыми общими определениями."
Комментарий: Бониц, автор фундаментального Index Aristotelicus, видит в этом пассаже не исторический экскурс, а системное обоснование. Аристотель показывает, что, исследуя единое и многое, он не изобретает новую тему, а лишь выявляет то общее, что имплицитно содержалось во всех предыдущих философских системах.
Алексей Фёдорович Лосев:
Лосев подчеркивает, что Аристотель здесь совершает гениальный синтез всей досократовской и платоновской философии. Учение о противоположностях как началах – общее место для досократиков. Но Аристотель находит для них единый знаменатель – категории Единого и Многого, которые суть самые первые и необходимые модусы самого Сущего. Таким образом, он демонстрирует, что первая философия, будучи наукой о сущем как таковом, является не одной из многих наук, а метанаукой, обобщающей и фундирующей все прочие поиски первоначал.
Дмитрий Владимирович Бугай:
Бугай обращает внимание на онтологический статус «лишения» (στέρησις). Это не чистое ничто, а именно лишенность определенной формы (εἶδος). Холод – это не отсутствие вообще, а отсутствие тепла, то есть определенный модус бытия, понятный только через его противоположность. Поэтому сведение к «не-сущему» не уничтожает эти начала, а, наоборот, включает их в сферу онтологического исследования. Единое и Многое – это не просто числа, а самые общие характеристики самого бытия, его структуры и динамики.
Оригинальный текст на древнегреческом и филологический комментарий
ἔτι δὲ τῶν ἀντιθέσεων [26] ἡ ἑτέρα στερήσει, καὶ πᾶσαι ἀνάγονται εἰς τὸ ὂν καὶ μὴ ὂν καὶ εἰς τὸ ἓν καὶ πλῆθος, οἷον στάσις μὲν τοῦ ἑνὸς κίνησις δὲ τοῦ πλήθους.
[26] – ἡ ἑτέρα στερήσει – «одна [из двух противоположностей] есть лишение». Концепция στέρησις (лишение) – ключевая для Аристотеля. Это не абсолютное не-бытие, а отсутствие определенной формы (εἶδος) у подлежащего (ὑποκείμενον), способного ее иметь. Это позволяет ему включить «не-сущее» в рамки научного исследования.
στάσις μὲν τοῦ ἑνὸς κίνησις δὲ τοῦ πλήθους – «покой, с одной стороны, [относится] к единому, движение же – к множеству». Это пример сведения конкретных противоположностей к самым общим. Покой понимается как единство и тождественность себе, движение – как множественность состояний.
σχεδὸν δὲ πάντες ὁμολογοῦσιν ἐξ ἐναντίων εἶναι τὰ ὄντα καὶ τὴν οὐσίαν· πάντες γοῦν τὰς ἀρχὰς ἐναντίας λέγουσιν, οἱ μὲν ἀρτία καὶ περιττὰ οἱ δὲ θερμὸν καὶ ψυχρὸν οἱ δὲ πέρας καὶ ἄπειρον οἱ δὲ φιλίαν καὶ νεῖκος.
πάντες γοῦν τὰς ἀρχὰς ἐναντίας λέγουσιν – «во всяком случае, все называют начала противоположными». Аристотель приводит конкретные примеры:
ἀρτία καὶ περιττὰ (чет и нечет) – пифагорейцы.
θερμὸν καὶ ψυχρὸν (горячее и холодное) – натурфилософы, например, Парменид или Эмпедокл (хотя у последнего это скорее производные от Любви и Вражды).
πέρας καὶ ἄπειρον (предел и беспредельное) – пифагорейцы и Платон.
φιλίαν καὶ νεῖκος (Любовь/Дружбу и Вражду) – Эмпедокл.
καὶ τὰ ἄλλα πάντα ἀνάγεται [28] εἰς τὸ ἓν καὶ πλῆθος ὡς εἰς γένη, [καὶ this anacolution is typical] καθάπερ ὑποτεθέντος ἡμῖν καὶ ἐν ἑτέροις, ὥστε συμβαίνειν ἂν δόξειεν ἓν γένος εἶναι τὸ ἓν καὶ πλῆθος τῶν ἄλλων ἀρχῶν.
[28] – τὰ ἄλλα πάντα ἀνάγεται εἰς τὸ ἓν καὶ πλῆθος ὡς εἰς γένη – «и все прочие [противоположности] сводятся к единому и многому как к родам». Аристотель утверждает, что Единое и Многое являются высшими γένη (родами) для всех прочих противоположностей.
καθάπερ ὑποτεθέντος ἡμῖν καὶ ἐν ἑτέροις – «как это было предположено нами и в других [работах]». Указание на то, что это сведение – не ad hoc конструкция для данной книги, а общий метод Аристотеля. Вероятная отсылка к «Физике» (I, 5-6) или утраченным работам.
ὥστε συμβαίνειν ἂν δόξειεν ἓν γένος εἶναι τὸ ἓν καὶ πλῆθος τῶν ἄλλων ἀρχῶν – «так что получается, как можно предположить, что единое и многое суть один род для прочих начал». Итоговый вывод: все многообразие начал, предложенных предшественниками, может быть систематизировано и подведено под два высших родовых принципа – Единое и Многое, которые, в свою очередь, являются основными свойствами Сущего как такового. Это и есть предмет первой философии.
[Итог: одна наука изучает Сущее как Сущее и все его свойства]Из сказанного также ясно, что исследование сущего, поскольку оно сущее, составляет предмет одной [29] науки. Ведь все существующее либо само является противоположностью, либо состоит из противоположностей, а началами всех противоположностей служат единое и многое. И оба эти начала относятся к ведению одной науки – независимо от того, имеют ли они лишь одно значение или же несколько, хотя [30] более вероятно последнее.
[Отношение к другим наукам: они используют эти понятия, но не исследуют их.]Впрочем, даже если единое и сущее имеют несколько значений, все прочие значения так или иначе отсылают к одному, первичному значению; то же самое и с противоположностями. Следовательно, если даже сущее и единое не являются всеобщими и тождественными [31] во всех случаях и не существуют как некие отдельные сущности (а вероятнее всего, так оно и есть), то они все же подлежат ведению одной науки – в силу того, что все их значения связаны с единым первичным смыслом, будь то прямо или опосредованно. По этой же причине не входит в задачу какой-либо частной науки – например, геометрии – исследовать, что такое противоположность, совершенство, сущее, единое, тождественное или [32] иное; частные науки лишь предполагают эти понятия и используют их.
Комментарии.
Альберт Швеглер (Albert Schwegler), «Die Metaphysik des Aristoteles»:
"So ergiebt sich also, dass die Untersuchung des Seienden als Seienden Einer Wissenschaft zukommt… Denn wenn auch das Eine und Seiende mehrfache Bedeutung hat, so beziehen sich doch die anderen Bedeutungen auf einen ersten Grundbegriff… Daher ist es auch nicht Sache einer besonderen Wissenschaft, z.B. der Geometrie, zu untersuchen, was das Entgegengesetzte, das Vollendete, das Seiende, das Eine, das Gleiche, das Verschiedene ist, sondern sie bedient sich dieser Begriffe nur als vorausgesetzter."
Перевод: "Таким образом, получается, что исследование сущего как сущего относится к одной науке… Ибо если даже единое и сущее имеют многоразличное значение, то прочие значения все же отсылают к одному первоначальному понятию… Поэтому не является задачей какой-либо особенной науки, например, геометрии, исследовать, что есть противоположное, совершенное, сущее, единое, тождественное, различное, но она пользуется этими понятиями лишь как предположенными."
Комментарий: Швеглер подчеркивает итоговый вывод о единстве науки онтологии. Он также точно передает ключевую мысль о том, что частные науки используют (bedient sich) трансцендентальные понятия как готовый инструментарий, не вдаваясь в их сущность.
Джозеф Оуэнс (Joseph Owens), «The Doctrine of Being in the Aristotelian 'Metaphysics'»:
"Aristotle concludes that the science of being qua being is one science because it deals with the primary instance of being and of unity, to which all other instances are referred. The other sciences, dealing with particular beings, merely use these notions without investigating them. This establishes the primacy and universality of first philosophy."
Перевод: "Аристотель приходит к выводу, что наука о сущем как сущем является одной наукой, поскольку она имеет дело с первичным instance [случаем, экземпляром] сущего и единства, к которому отсылаются все другие случаи. Другие науки, имеющие дело с частными сущими, лишь используют эти понятия, не исследуя их. Это утверждает первичность и универсальность первой философии."
Комментарий: Оуэнс вводит важное понятие «primary instance» (первичный случай). Это означает, что значения «сущего» и «единого» не равноправны – они выстроены в иерархию вокруг стержневого значения («сущности» как причины бытия), что и позволяет объединить их изучение в рамках одной науки.
Алексей Фёдорович Лосев:
Лосев видит в этом пассаже окончательное оформление аристотелевской концепции первой философии как трансцендентальной науки. Она трансцендентальна не в кантовском смысле (как условие возможности опыта), а в схоластическом: ее понятия (transcendentia) «пересекают» (transcendere) границы всех категорий и родов сущего, будучи применимы к чему угодно. Геометрия изучает «равное» как свойство фигур, но только философия изучает «тождественное» как таковое. Частные науки – это «региональные онтологии», тогда первая философия – универсальная онтология, основание для всех них.
Дмитрий Владимирович Бугай:
Бугай акцентирует методологический аспект. Аристотель проводит четкую демаркационную линию между науками. Частная наука имеет право постулировать свои начала (например, геометрия – понятие точки) и использовать общеонтологические понятия как неразложимые атомысмысла. Но если возникает вопрос о природе и обоснованности самих этих общеонтологических понятий, он выносится за скобки данной науки и становится проблемой мета-уровня – предметом первой философии. Это предотвращает бесконечный регресс в обосновании знаний.
Оригинальный текст на древнегреческом и филологический комментарий
ὅτι μὲν οὖν ἑνὸς ἐπιστήμης τὸ ὂν ᾗ ὂν θεωρῆσαι, [29] καὶ τῶν τούτῳ ὑπαρχόντων ᾗ ὄν, δῆλον· πάντα γὰρ ἢ ἐναντία ἢ ἐξ ἐναντίων, αἱ δὲ τῶν ἐναντίων ἀρχαὶ τὸ ἓν καὶ πλῆθός ἐστιν. αὗται δ’ ἑνὸς [ἐπιστήμης] ἀμφοτέρας ὑπάρξουσιν, εἴτε μιᾷ λέγονται εἴτε πλεioναχῶς, [30] ὅπερ τυγχάνει ὄν·
[29] – ἑνὸς ἐπιστήμης τὸ ὂν ᾗ ὂν θεωрῆσαι – итоговый вывод всей главы: «[что] рассматривать сущее поскольку оно сущее – [дело] одной науки».
αἱ δὲ τῶν ἐναντίων ἀρχαὶ τὸ ἓν καὶ πλῆθός ἐστιν – «а начала противоположностей суть единое и многое». Это итог предыдущего рассуждения, служащий основанием для вывода.
εἴτε μιᾷ λέγονται εἴτε πλεioναχῶς, [30] ὅπερ τυγχάνει ὄν – «сказываются ли они [единое и многое] в одном значении или во многих, – что скорее и оказывается [имеющим место]». Аристотель признает, что «единое» и «сущее» – это омонимы (имеют множество значений), но, как он сейчас покажет, это не мешает им быть предметом одной науки.
κἂν εἰ μὴ ἓν ἢ ὂν καθόλου ἢ ταὐτὸν ἐν ἅπασιν, ἀλλ’ [31] οἷς μὲν εὐθὺς οἷς δὲ ἀνάγεται πρὸς ἕν, διὸ καὶ οὐθενὸς ἄλλου τῶν μορίων ἐπιστήμης ἔργον ἐστὶ σκέψασθαι τί τὸ ἀντικείμενον ἢ τὸ τέλειον ἢ τὸ ὂν ἢ τὸ ἓν ἢ ταὐτὸν ἢ θάτερον, [32] ἀλλ’ ἢ ὑποθέμενον χρῆσθαι.
[31] – οἷς μὲν εὐθὺς οἷς δὲ ἀνάγεται πρὸς ἕν – «одни [значения] – непосредственно, другие – сводятся к одному». Это знаменитая теория «проса-эна» (πρὸς ἕν) – отсылки к одному, центральному смыслу. Все значения «сущего» и «единого» связаны не случайно, а через отношение к одной первичной сущности (πρώτη οὐσία). Например, «сущее» в смысле «качество» есть сущее потому, что принадлежит сущности, которая есть сущее в первичном смысле.
οὐθενὸς ἄλλου τῶν μορίων ἐπιστήμης – «ни одной другой [частной] науки из [их] числа». Τὰ μόρια – «части», здесь: частные, специальные науки.
ἀλλ’ ἢ ὑποθέμενον χρῆσθαι – «но [она] лишь пользуется [ими], предположив [их как данность]». Глагол ὑποθέμενον (от ὑποτίθημι – подкладывать, предполагать) здесь ключевой. Частные науки принимают эти понятия в качестве гипотез, постулатов, не исследуя их природу. Изучение же самих этих «гипотез» – задача первой философии. Это прямое указание на ее фундаментальный, архимедов характер по отношению ко всему зданию научного знания.
Заключительное определение предмета первой философииПоэтому очевидно, что дело науки – исследовать сущее как сущее и свойства, принадлежащие ему как таковому, и что эта же наука должна рассматривать не только реальное, но и свойства, принадлежащие реальному, и, кроме того, понятия более раннего и более позднего, также рода и вида, целого и части и тому подобное.
Глава 3. Об аксиомах и предмете первой философии.
1. Принадлежность исследования аксиом к философии.[1] Ἔπειτα δὲ σκεπτέον πότερον τῶν οὐσιῶν ἡ θεωρία καὶ τῶν ἀξιωμάτων ἐστὶ μία ἢ πλείους. [2] Νῦν μὲν οὖν δῆλον ὅτι μιᾶς ἐστὶ θεωρῆσαι, καὶ ταύτης τοῦ φιλοσόφου· περὶ γὰρ ἁπάντων ὑπάρχουσιν αἱ ἀξιώματα, οὐχ ὡς ἐπὶ [3] τινὸς γένους ἰδίου ὄντος ἀλλὰ κοινῶς.
Далее следует исследовать, относится ли рассмотрение начал (аксиом) и сущностей к одной [науке] или к разным. [2] Теперь же ясно, что рассмотрение их принадлежит одной [науке], и именно [науке] философа: ибо начала (аксиомы) присущи всему [сущему], не как [принадлежащие] некоему [3] отдельному роду [сущего], но общим образом.
Альберт Швеглер (Albert Schwegler), «Die Metaphysik des Aristoteles» (1847–1848):
«Es folgt nun die Untersuchung, ob die Betrachtung der Substanzen und der Axiome einer und derselben Wissenschaft angehöre oder verschiedenen. Jetzt ist klar, dass sie einer Wissenschaft zukommt, und zwar der des Philosophen; denn die Axiome kommen allen Dingen zu, nicht als ob sie einem besonderen Genus angehörten, sondern allgemein.»
Перевод: «Далее следует исследование, принадлежит ли рассмотрение субстанций и аксиом одной и той же науке или разным. Теперь ясно, что оно принадлежит одной науке, а именно науке философа; ибо аксиомы относятся ко всем вещам, не так, как если бы они принадлежали к особому роду, но всеобще.»
Комментарий: Швеглер точно передает мысль Аристотеля о всеобщем характере аксиом (вроде закона непротиворечия), которые не ограничены рамками какой-либо частной науки (как, например, геометрия), а применимы ко всему сущему как таковому. Именно поэтому их изучение – прерогатива первой философии, исследующей сущее qua сущее.
Владислав Татаркевич (Władysław Tatarkiewicz), «История философии» (и др. работы):
«Aksjomaty, takie jak zasada sprzeczności, obowiązują we wszystkich dziedzinach rzeczywistości, a zatem nauka o nich nie może należeć do żadnej nauki szczegółowej, lecz musi być częścią filozofii pierwszej.»
Перевод: «Аксиомы, такие как принцип противоречия, действуют во всех сферах реальности, следовательно, наука о них не может принадлежать ни одной частной науке, но должна быть частью первой философии.»
Комментарий: Татаркевич подчеркивает онтологический, а не просто логический статус аристотелевских аксиом. Они являются законами самого бытия, а не только мышления, что и оправдывает их место в метафизике.
Алексей Фёдорович Лосев («Критика платонизма у Аристотеля», «История античной эстетики»):
«Аристотель… настаивает на том, что учение об аксиомах… есть учение о самом же бытии, поскольку оно мыслится в своих первоосновах… Философ, по Аристотелю, есть тот, кто познает все сущее как сущее, а для этого необходимо владеть и самыми общими принципами, без которых немыслимо никакое сущее.»
Комментарий: Лосев акцентирует онтологическую фундированность логических законов у Аристотеля. Аксиомы – это не произвольные предпосылки, а отражение самой структуры бытия, которое постигается философом.
[1] σκεπτέον πότερον… – Начинается постановка центральной проблемы главы: является ли наука о сущностях (οὐσίαι) и наука о началах/аксиомах (ἀξιώματα) одной и той же. Под «аксиомами» здесь прежде всего подразумевается закон противоречия и закон исключенного третьего, обсуждаемые далее. (См.: Aristoteles. Metaphysica. Hrsg. von W. Christ. Leipzig, 1886. P. 100; Ross W. D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. Vol. I. Oxford, 1924. P. 257).











