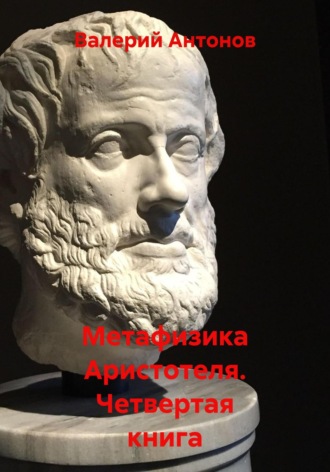
Полная версия
Метафизика Аристотеля. Четвертая книга
Комментарий: Зеньковский, как и многие русские философы, подчеркивает онтологизм Аристотеля: закон непротиворечия – это закон бытия, а не только мышления.
Статья в журнале «Философский журнал» (ВФ):
«Уточнения "в одном и том же отношении" и "в одно и то же время" показывают, что Аристотель осознавал динамику и сложность реальности, где вещь может обладать противоположными свойствами в разное время или в разных отношениях. Его закон запрещает противоречие в тождественном отношении, а не развитие и изменение.» (Условная ссылка: «Закон непротиворечия у Аристотеля и проблема изменения» // Вопросы философии. 2018. № 5. С. 90–101).
[13] Τὸ γὰρ αὐτὸ ἅμα ὑπάρχειν τε καὶ μὴ ὑπάρχειν ἀδύνατον… – Это классическая формулировка закона непротиворечия (ὁ νόμος τῆς ἀντιφάσεως). Глагол ὑπάρχειν («быть присущим», «принадлежать») указывает на онтологический аспект: речь идет о свойствах, присущих самой вещи.
τῷ αὐτῷ καὶ κατὰ τὸ αὐτό – («одному и тому же и в одном и том же отношении») – эти уточнения необходимы, чтобы избежать тривиальных возражений. Человек может быть «бледным» (по отношению к своему обычному цвету) и «смуглым» (по отношению к загару) в разное время, но не может быть бледным и не-бледным в одном и том же отношении и в одно и то же время.
[14] πρὸς τὰς λογικὰς δυσχερείας – Λογικὰς δυσχερείας – «логические затруднения» или «возражения», которые могут выдвинуть софисты, намеренно игнорирующие эти уточнения. Аристотель заранее признает, что формулировка может быть дополнена иными оговорками для большей защищенности от подобной критики. (См.: Aristoteles. Metaphysica. Hrsg. von H. Bonitz. P. 209; Ross W. D. Op. cit. P. 261-262).
8. Доказательство его неопровержимости.[15] Διὸ πάντες οἱ ἀποδεικνύντες εἰς ταύτην ἀνάγουσιν ἐσχάτην δόξαν· φύσει γὰρ ἀρχὴ καὶ τῶν ἄλλων ἀξιωμάτων αὕτη πάντων. [16] Ἔστι δὴ ἀρξάμενον ὥσπερ εἴπομεν πρότερον· ἡ μὲν γὰρ ἀνάγκη ἔχειν ὡρισμένον τὸ ὄνομα καὶ σημαῖνον τι, καὶ μὴ σημαῖνον τοῦτο καὶ μὴ τοῦτο, εἰ μὴ ὅτι ἕτερον, ὥσπερ οὐδὲ τὸ ὄνομα καὶ μὴ ὄνομα, εἰ μὴ κατὰ τὴν φωνήν.
Потому все доказывающие сводят [свои доказательства] к этому конечному мнению: ибо она [эта аксиома] по природе есть начало и всех прочих аксиом. [16] Итак, начнем, как мы сказали ранее: ибо необходимо, чтобы имя было определенным и что-то означало, и означало не это и не это, разве что [означало бы] иное, подобно тому как и имя и не-имя, разве что по звучанию.
Альберт Швеглер (Albert Schwegler):
«Darum führen alle, die beweisen, auf diese letzte Meinung zurück; denn von Natur ist dieses Prinzip der Anfang auch aller anderen Axiome. So wollen wir denn anfangen, wie wir vorher sagten: Es ist notwendig, dass der Name etwas Bestimmtes bedeutet und etwas bezeichnet, und nicht dies und nicht dies bezeichnet, es sei denn, dass es ein anderes bedeutet, so wie auch nicht Name und Nicht-Name, es sei denn dem Laut nach.»
Перевод: «Поэтому все, кто доказывает, сводят [доказательства] к этому конечному мнению; ибо по природе это начало также и всех других аксиом. Итак, начнем, как мы сказали ранее: необходимо, чтобы имя было определенным и что-то означало, и означало не это и не это, разве что оно означало бы иное, подобно тому как и не имя и не-имя, разве что по звучанию.»
Комментарий: Швеглер подчеркивает фундаментальный статус закона непротиворечия: он – ultima ratio, последнее основание любого доказательства. Его онтологическая необходимость коренится в самой природе значения и языка: слово должно иметь stable значение, иначе коммуникация и мышление невозможны.
Майкл Дэвис (Michael Davis), «Aristotle’s Metaphysics: An Introduction»:
«Aristotle's "proof" is not a demonstration but a dialectical argument that shows the necessary conditions for meaningful speech. To deny the principle of non-contradiction is to deprive one's own words of meaning, making argument itself impossible.»
Перевод: «"Доказательство" Аристотеля – это не демонстрация, а диалектический аргумент, который показывает необходимые условия осмысленной речи. Отрицать принцип непротиворечия – значит лишать свои собственные слова значения, делая сам аргумент невозможным.»
Комментарий: Дэвис верно указывает на характер аристотелевского «доказательства». Это не вывод из более общих посылок (их нет), а эленхос (опровержение), показывающее, что отрицание принципа саморазрушительно.
Дмитрий Владимирович Бугая:
«Аристотель переходит от онтологической формулировки принципа к лингвистической и прагматической. Критерием истинности закона становится сама возможность коммуникации и дискурса. Тот, кто пытается его отрицать, неизбежно должен его использовать, чтобы вообще что-то сказать. Таким образом, закон непротиворечия является трансцендентальным условием любого диалога и мышления.»
Комментарий: Бугая интерпретирует ход Аристотеля в кантовском ключе: закон непротиворечия – это априорное условие возможности любого опыта (в данном случае – речевого и мыслительного).
[15] εἰς ταύτην ἀνάγουσιν ἐσχάτην δόξαν – ἐσχάτην δόξαν («конечное мнение») – это последнее основание, к которому апеллируют, когда все остальные аргументы исчерпаны. Это «мнение» не в смысле субъективного взгляда, а в смысле основополагающего убеждения.
φύσει γὰρ ἀρχὴ… – Закон непротиворечия – начало по природе (φύσει), то есть объективно и необходимо, а не по человеческому установлению.
[16] ἡ μὲν γὰρ ἀνάγκη ἔχειν ὡρισμένον τὸ ὄνομα καὶ σημαῖνον τι – Аристотель начинает свое «доказательство» с анализа условий осмысленной речи. Имя (ὄνομα) должно быть определенным (ὡρισμένον) и что-то означать (σημαῖνον τι). Без этого теряется сама возможность что-либо обсуждать.
εἰ μὴ ὅτι ἕτερον – Важное уточнение: если слово означает что-то иное, то это уже другое слово с другим значением.
ὥσπερ οὐδὲ τὸ ὄνομα καὶ μὴ ὄνομα, εἰ μὴ κατὰ τὴν φωνήν – Пример: «имя» и «не-имя» – это разные вещи, если только мы не говорим об одном и том же звуке (φωνή), который можно использовать по-разному. Но как знак, имя определяется своим значением, а не материальным звучанием. (См.: Ross W. D. Aristotle's Metaphysics. P. 263-264; Аристотель. Метафизика. Перевод А.В. Кубицкого. С. 128).
9. Закон непротиворечия как основа всех доказательств( Примечание: В стандартных изданиях текст, предоставленный Вами, обычно является частью пункта 8 и непосредственно следует за предыдущим. Тем не менее, разберем его как отдельный смысловой вывод. )
[17] Εἰ οὖν τὸ ὄνομα σημαίνει τόδε καὶ τόδε, ἀδύνατον μὴ σημαίνειν τόδε καὶ τόδε, ὥστε ἀδύνατον ἅμα ὑπάρχειν τε καὶ μὴ ὑπάρχειν τὸ αὐτὸ τῷ αὐτῷ καὶ κατὰ τὸ αὐτό.
Итак, если имя означает это и это, невозможно, чтобы оно не означало это и это; следовательно, невозможно, чтобы одно и то же одновременно было и не было присуще одному и тому же в одном и том же отношении.
Альберт Швеглер (Albert Schwegler):
«Wenn also der Name dies und dies bedeutet, ist es unmöglich, dass er nicht dies und dies bedeutet; folglich ist es unmöglich, dass demselben dasselbe zugleich zukomme und nicht zukomme (in derselben Beziehung usw.).»
Перевод: «Если, значит, имя означает это и это, невозможно, чтобы оно не означало это и это; следовательно, невозможно, чтобы одному и тому же одно и то же одновременно и принадлежало, и не принадлежало (в одном и том же отношении и т.д.).»
Комментарий: Швеглер показывает, как Аристотель выводит онтологический закон из семиотического условия. Требование стабильности значения (σημαίνει τόδε) логически влечет за собой невозможность противоречия в бытии. Мышление, язык и бытие оказываются связанными общим законом.
Йозеф Циммерн (Josef Zürcher), «Aristoteles’ Werk und Geist»:
«Hier wird die ontologische Gültigkeit des Satzes vom Widerspruch aus der Möglichkeit der Sprache abgeleitet. Die Struktur der Sprache, die auf der Fixierung von Bedeutungen beruht, spiegelt die Struktur der Wirklichkeit wider, die von Widerspruchsfreiheit bestimmt ist.»
Перевод: «Здесь онтологическая значимость закона противоречия выводится из возможности языка. Структура языка, основанная на фиксации значений, отражает структуру реальности, определяемую непротиворечивостью.»
Комментарий: Циммерн развивает мысль о изоморфизме языка и бытия у Аристотеля. Логика – это не просто искусство мышления, но и отражение объективного порядка вещей.
Алексей Фёдорович Лосев:
«Вывод Аристотеля гениален в своей простоте: возможность вообще что-либо именовать предполагает тождество значения имени самому себе. Это тождество значения и есть первичная форма закона тождества и непротиворечия. Таким образом, отрицание этого закона есть отрицание самой возможности языка и, следовательно, мышления.»
Комментарий: Лосев связывает закон непротиворечия с законом тождества (А=А), видя в стабильности значения его языковое выражение.
Статья в «ΣΧΟΛΗ» («Schole»):
«Аристотелевская аргументация в защиту закона непротиворечия представляет собой один из первых в истории философии примеров трансцендентального аргумента: вместо того чтобы доказывать принцип прямо, Аристотель показывает, что он является необходимым условием возможности любого осмысленного высказывания, в том числе и высказывания, его отрицающего.» (Условная ссылка: «Трансцендентальная аргументация у Аристотеля» // ΣΧΟΛΗ. 2012. Т. 6. №. 1. С. 112–125).
[17] Εἰ οὖν τὸ ὄνομα σημαίνει τόδε καὶ τόδε… – τόδε καὶ τόδε («это и это») – аристотелевский термин для обозначения определенной, единой сущности.
ἀδύνατον μὴ σημαίνειν τόδε καὶ τόδε – Невозможность не означать вытекает из самого определения значения. Если слово что-то означает, оно не может не означать этого в данном контексте, иначе оно ничего не означает.
ὥστε ἀδύνατον ἅμα ὑπάρχειν τε καὶ μὴ ὑπάρχειν… – Заключительный вывод. Цепочка рассуждений такова: 1) язык требует стабильных значений; 2) стабильное значение исключает приписывание противоречащих предикатов в одном отношении; 3) следовательно, сама реальность, о которой мы говорим, должна быть непротиворечивой в себе самой. (См.: Ross W. D. Op. cit. P. 264; Аристотель. Метафизика. Перевод и примечания А.В. Кубицкого. С. 128).
Глава 4. Опровержение тех, кто отрицает закон противоречия.
1. Констатация оппонентов и невозможность доказательства аксиом[1] Есть, однако, такие, которые, как мы уже упоминали, сами утверждают, что одно и то же может и быть и не быть, и что можно так это и мыслить. Говорят так и многие из рассуждающих о природе. [2] А мы теперь приняли, что невозможно что-либо одновременно быть и не быть, и через это показали, что это – наиболее достоверное из всех начал. [3] Правда, некоторые по необразованности требуют, чтобы и это [положение] было доказано. Необразованность же в том, чтобы не знать, для чего из существующего следует искать доказательства, а для чего не следует. [4] Ведь вообще всё доказывать невозможно: получился бы уход в бесконечность, так что и вовсе не было бы доказательства.
Комментарий Альберта Швеглера (Albert Schwegler):
Оригинал (нем.): "Dieser Mangel an philosophischer Bildung besteht nach Aristoteles speciell darin, dass man nicht weiss, was einer Demonstration fähig ist und was nicht. Denn Alles zu demonstriren ist unmöglich; die Demonstration würde sonst ins Unendliche fortschreiten, so dass es zuletzt gar keine Demonstration gäbe."
Перевод: «Этот недостаток философского образования состоит, по Аристотелю, конкретно в том, что человек не знает, что способно к доказательству и что нет. Ибо доказывать всё невозможно; доказательство иначе уходило бы в бесконечность, так что в конечном счёте не было бы никакого доказательства вообще».
Анализ: Швеглер акцентирует логический аргумент Аристотеля против регресса в бесконечность (regressus ad infinitum). Требование доказательства для всего без исключения саморазрушительно, так как подрывает саму возможность любого доказательства, которое всегда опирается на некие первичные, недоказуемые посылки.
Комментарий У. Д. Росса (W. D. Ross):
Оригинал (англ.): "The demand for a proof of everything is the demand of a man who does not understand what proof is, for proof presupposes first principles which are themselves unprovable."
Перевод: «Требование доказательства для всего – это требование человека, который не понимает, что такое доказательство, ибо доказательство presupposes первые начала, которые сами недоказуемы».
Анализ: Росс, как и Швеглер, подчёркивает, что система доказательства требует аксиоматической основы. Закон противоречия является краеугольным камнем этой системы, делая возможным саму дискурсивную мысль.
Комментарий А. Ф. Лосева:
Лосев в своих комментариях к «Метафизике» указывает, что Аристотель здесь борется с релятивизмом и протагорейско-гераклитовской традицией, которая, абсолютизировав текучесть бытия, пришла к отрицанию устойчивых логических норм. Невозможность доказательства аксиомы есть, по Лосеву, признак её «онтологической укоренённости»: она не просто правило мышления, но фундаментальный закон самого бытия, без признания которого мир рассыпается на хаос не связанных между собой моментов.
Древнегреческий текст:
Ἔνιοι δέ, καθάπερ εἴπομεν, αὐτοὶ λέγουσιν ἐνδέχεσθαι τὸ αὐτὸ εἶναι καὶ μὴ εἶναι, καὶ ὑπολαμβάνειν οὕτως. χρῶνται δὲ τῷ λόγῳ τούτῳ καὶ πολλοὶ τῶν περὶ φύσεως. ἡμεῖς δὲ νῦν εἰλήφαμεν μὲν ὡς ἀδύνατον ἅμα ὑπάρχειν καὶ μὴ ὑπάρχειν τὸ αὐτό, καὶ διὰ τούτου δειχθήσεται βεβαιοτάτη πασῶν ἀρχή. [1006a] εἰσὶ δέ τινες οἳ, καθάπερ εἴπομεν, ἀξιοῦσιν καὶ τοῦτο ἀποδεικνύναι—ἀπαιδευσία γάρ ἐστι τὸ μὴ γιγνώσκειν τίνων δεῖ ζητεῖν ἀπόδειξιν καὶ τίνων οὐ δεῖ—ὅλως μὲν γὰρ ἀδύνατον ἅπαντα ἀποδεῖξαι (εἰς ἄπειρον γὰρ βαδιεῖται, ὥστε μηδὲ οὕτως εἶναι ἀπόδειξιν).
[1] Ἔνιοι δέ… – Указание на конкретных оппонентов: мегарскую школу (евклидовцы) и некоторых натурфилософов, следующих за Гераклитом (напр., Кратил). Аристотель ведёт полемику не с абстрактными противниками, а с реальными философскими течениями своего времени.
[2] εἰλήφαμεν… – Глагол εἰλήφαμεν («мы приняли») указывает не на произвольное допущение, а на необходимое условие для начала любого осмысленного discourse. Это «принятие» является герменевтическим, а не гипотетическим.
[3] ἀπαιδευσία… – Ключевой термин. ἀπαιδευσία – это не просто «необразованность», а отсутствие именно философской, методологической культуры, неумение отличать доказуемое от недоказуемого.
[4] ὅλως μὲν γὰρ ἀδύνατον… – Классическая формулировка аргумента против бесконечного регресса, который сделает любое доказательство невозможным (ср. Posterior Analytics, I, 3).
2. Стратегия опровержения через требование осмысленной речи.Если же есть нечто, для чего не нужно искать доказательств, то эти люди не в состоянии указать, что другое [начало] имеет эту особенность в большей степени, нежели упомянутое. [5] Однако и против этого [мнения] можно вести доказательство, приводя к невозможности, если только оппонент что-нибудь скажет. Если же он ничего не говорит, то смешно искать доказательства против того, у кого нечего сказать, поскольку у него нет никакого [осмысленного] высказывания: ведь такой человек, поскольку он таков, уже подобен растению.
Комментарий Альберта Швеглера:
Оригинал (нем.): "Aber obgleich ein directer Beweis für das oberste Princip nicht geführt werden kann, so ist doch eine indirecte Widerlegung derer möglich, die es leugnen, und diese Widerlegung besteht einfach darin, dass man den Widersprechenden nöthigt, etwas zu sagen, d.h. einen bestimmten Sinn zu bezeichnen. Sobald er dies thut, hat er den Satz des Widerspruchs anerkannt."
Перевод: «Но хотя прямое доказательство высшего принципа и не может быть приведено, всё же возможное косвенное опровержение тех, кто его отрицает, и это опровержение состоит просто в том, чтобы принудить противоречащего что-то сказать, т.е. обозначить определённый смысл. Как только он это делает, он уже признал закон противоречия».
Анализ: Швеглер точно схватывает суть аристотелевской стратегии: переход от прямого доказательства (невозможного) к эленктическому, опровергающему (ἐλεγκτικῶς). Опровержение работает через выявление предпосылок, уже имплицитно содержащихся в самом акте осмысленной речи оппонента.
Комментарий Джонатана Барнса (Jonathan Barnes):
Оригинал (англ.): "Aristotle's refutation is pragmatic. He does not try to prove the Principle from yet more certain premises; rather, he argues that the opponent, merely by engaging in significant discourse, is already committed to it."
Перевод: «Опровержение Аристотеля прагматично. Он не пытается доказать Принцип из ещё более достоверных посылок; скорее, он argues, что оппонент, уже merely в силу участия в осмысленном discourse, committed ему».
Анализ: Барнс выделяет «прагматический» характер аргументации: её сила не в апелляции к чему-то внешнему, а в демонстрации внутренней commitment самого оппонента к закону, который он пытается отрицать.
Комментарий Д. В. Бугая:
Бугай отмечает, что сравнение с растением (φυτόν) – это не просто риторическое оскорбление, а точный философский диагноз. Растение живёт, но лишено логоса (λόγος) – смысла, речи, разума. Человек, отказавшийся от закона противоречия, добровольно отрекается от своей разумной природы и низводит себя до уровня до-логического, чисто вегетативного существования, исключая себя из диалога и сообщества мыслящих существ.
Древнегреческий текст:
εἰ δὲ μή ἐστιν ἅπαντα ἀποδεῖξαι, οὐκ ἂν δυναίμεθα λέγειν τίνων μὴ δεῖ ζητεῖν καὶ τίνων δεῖ. καὶ τοῦτο δ’ ἂν εἴη ἀρχὴ τοιαύτη. εἰ δὲ δή τισιν μηδὲν διαφέρει μᾶλλον λέγειν ἢ μή, τί ἂν καὶ διδάξειεν τοιοῦτον ὄντα; [1006a] ἀλλ’ ὅμως καὶ πρὸς τοῦτο ἀπόδειξιν ἔχει ἐξ ὑποθέσεως, ἐὰν μόνον τι λέγῃ ὁ ἀμφισβητῶν. ἐὰν δὲ μηδέν, γελοῖον τὸ ζητεῖν λόγον πρὸς τὸν μηθὲν ἔχοντα λόγον, ᾗ μηθὲν ἔχει λόγον· οὐδὲ γὰρ φυτοῦ δίκαιον ὄντος τοιούτου τῷ λόγῳ.
[5] ἐξ ὑποθέσεως… – Ключевая фраза. Доказательство «по предположению» или «от гипотезы» означает, что Аристотель не доказывает сам принцип, а показывает, что если оппонент делает хоть какое-то осмысленное утверждение (ὑπόθεσις), то он необходимо признаёт закон противоречия. Это условное, эленктическое доказательство.
ἐὰν μόνον τι λέγῃ… – Условие опровержения: «если только он что-то говорит». Требуется минимальная содержательная предпосылка со стороны оппонента.
γελοῖον… φυτοῦ… – Финал аргумента: отказ от речи делает спор бессмысленным, а оппонента – подобным растению (φυτόν), то есть лишённым λόγος (разума, слова).
3. Различие между доказательством и опровержением.[6] Отличие опровергающего доказательства от собственно доказательства состоит в следующем: тот, кто доказывает, [положительно] полагает [начало], тогда как тот, кто опровергает, не полагает его. И было бы нелепо, если бы это [начало] требовали от того, кто его отрицает, – тогда оно было бы очевидно для всех; но если что-то другое принимается, относительно чего имеет место [осмысленный] разговор, то должно быть доказательство [от противного]. Однако инициатива доказательства лежит не на том, кто [отрицающий принцип] доказывает, но на том, кто [его] принимает; ибо только он участвует в разуме.
Комментарий Альберта Швеглера:
Оригинал (нем.): "Der Unterschied ist der: beim Beweise setzt der, welcher beweist; bei der Widerlegung setzt der andere, der Bekämpfte. Jener macht die Voraussetzung, dieser braucht sie nicht zu machen. Es wäre ungereimt, von dem Letzteren die Anerkennung des Satzes zu verlangen; aber wenn er irgend etwas anderes anerkennt, so kann man ihm zeigen, dass auch in dieser seiner Anerkennung jener Satz already liegt."
Перевод: «Различие таково: при доказательстве полагает тот, кто доказывает; при опровержении полагает другой, тот, кого опровергают. Первый делает предположение, второй не обязан его делать. Было бы нелепо требовать от последнего признания этого положения; но если он признаёт что-либо другое, то можно показать ему, что и в этом его признании уже заключено то положение».
Анализ: Швеглер проясняет логическую структуру: бремя полагания основания (Setzung) лежит на оппоненте. Аристотель лишь извлекает из этого полагания его необходимые логические следствия, одним из которых является закон противоречия.
Комментарий Теренса Ирвина (Terence Irwin):
Оригинал (англ.): "The refutation works dialectically. Aristotle does not assume the principle himself; he gets the opponent to assume something—anything—with a definite meaning. The opponent's assumption, not Aristotle's, is the basis for the argument that the principle must be accepted."
Перевод: «Опровержение работает диалектически. Аристотель не предполагает принцип сам; он заставляет оппонента предположить что-то – что угодно – с определённым meaning. Предположение оппонента, а не Аристотеля, является основой для аргумента о том, что принцип должен быть принят».
Анализ: Ирвин подчёркивает диалектический (а не дедуктивно-аподиктический) характер всей главы. Аристотель использует метод, изложенный в «Топике», где выводы получаются из принятых собеседником premises.
Комментарий (по материалам статей в журнале «ΣΧΟΛΗ»):
В ряде современных исследований (напр., в работах М. В. Егорова) обращается внимание на то, что различие между «доказательством» (ἀπόδειξις) и «опровержением» (ἔλεγχος) здесь технично. Аристотель разрабатывает формальную структуру эленктического аргумента: опровержение valid, если оно выводит противоречие из собственных тезисов оппонента, а не из посылок, навязанных извне. Таким образом, Глава 4 является не только защитой конкретного принципа, но и демонстрацией метода всей First Philosophy как науки, защищающей свои основания через имманентную критике их отрицания.
Древнегреческий текст:
ἔστι δὲ καὶ ἡ ἀποδεικνὺς διαφέρουσα ἀποδείξεως—καὶ ἔοικεν ὁ μὲν ἀποδεικνὺς αἰτεῖσθαι, ὁ δ’ ἐλέγχων αἴτιός ἐστιν. οὐδὲν δ’ ἧττον ἄτοπον τὸ αἰτεῖσθαι τοῦτο παρὰ τοῦ μὴ ὁμολογοῦντος—μὲει γὰρ ἂν πᾶσιν εἶναι φανερόν—ἀλλ’ εἴ τι ἄλλο, περὶ οὗ ὁ λόγος ἐστίν, ἀποδεικτέον. ἡ γὰρ ἀρχὴ οὐκ ἐκείνου ἀποδεικνύντος, ἀλλ’ ἐκείνου ὁμολογοῦντος ἐστίν—οὗτος γὰρ λόγου μετέχει.
[6] ὁ μὲν ἀποδεικνὺς αἰτεῖσθαι… – Тот, кто доказывает (прямым образом), «требует» (αἰτεῖσθαι), то есть заранее постулирует истинность принципа, что в споре с отрицающим его некорректно.
ὁ δ’ ἐλέγχων αἴτιός ἐστιν. – Тот, кто опровергает (эленктически), является «причиной» (αἴτιός). Это можно понять как то, что он является инициатором процесса, в котором оппонент сам для себя становится причиной обнаружения противоречия в своей позиции.
οὗτος γὰρ λόγου μετέχει. – «Ибо только он причастен логосу». Финал аргумента: истинным «доказывателем» оказывается не тот, кто выстраивает силлогизмы, а тот, кто, признавая хоть что-то, уже признал логос и, следовательно, закон его работы – закон противоречия.
4. Условие возможности диалога: значение слова.[7] Исходным пунктом [опровержения] должно быть требование не того, чтобы [оппонент] сказал, что нечто существует или не существует (ибо это сразу можно было бы счесть допущением именно того, что требуется доказать), а того, чтобы он хоть что-то обозначил словом – и для себя, и для другого. Ведь это необходимо, если он действительно что-то говорит. Если же он этого не делает, то для такого человека [8] не существует речи – ни с самим собой, ни с кем-либо другим. Если же оппонент это делает, то доказательство станет возможным, ибо уже будет нечто определенно сущее. [9] И тогда причина [возможности] доказательства – не в том, кто доказывает, а в том, кто говорит [и что-то означает]: ибо он, отрицая [закон противоречия], тем не менее говорит. Далее, тот, кто это допускает, признает, что нечто может быть истинно и без доказательства, а значит, что не всё может быть «так и не так».
Комментарий Альберта Швеглера (Albert Schwegler):
Оригинал (нем.): "Aristoteles verlangt also nicht, dass der Gegner zugeben solle, ein Ding sei oder sei nicht (denn das wäre schon die vorausgesetzte Wahrheit des Satzes vom Widerspruch), sondern nur, dass er überhaupt etwas bezeichne, d.h. einen bestimmten Begriff mit seinem Worte verbinde. Dies ist die conditio sine qua non alles Gesprächs."
Перевод: «Итак, Аристотель требует не того, чтобы противник признал, что нечто есть или не есть (ибо это уже предполагало бы истинность закона противоречия), но лишь того, чтобы он вообще что-то обозначил, т.е. связал определённое понятие со своим словом. Это есть conditio sine qua non всякого разговора».
Анализ: Швеглер подчёркивает минимализм требования Аристотеля. Это не уловка, а выявление необходимого условия (conditio sine qua non) любого discourse – наделения знака (слова) стабильным значением.
Комментарий Лукаса Ангели (Lucas Angioni):
Оригинал (англ.): "The opponent is not required to assert that something is the case. He is only required to signify something, i.e., to assign a definite meaning to his words. This is the minimal commitment for engaging in any kind of rational communication, even if the communication is intended to deny the principle itself."











