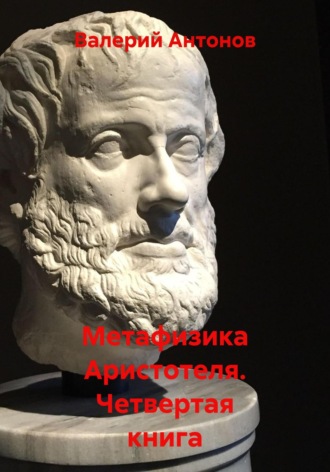
Полная версия
Метафизика Аристотеля. Четвертая книга

Валерий Антонов
Метафизика Аристотеля. Четвертая книга
Аннотация к изложению IV книги «Метафизики» Аристотеля.
Изложение четвертой книги «Метафизики» представляет собой значительную научную и интерпретационную задачу, обусловленную сложной композиционной структурой самого оригинала. Как отмечают исследователи (А. Швеглер), книга механически объединяет два внешне слабо связанных трактата, что создает трудность для целостного восприятия. Однако преодоление этой структурной двойственности открывает доступ к ключевым основам всей аристотелевской философской системы.
Первая и главная часть книги посвящена фундаментальному обоснованию самой возможности «первой философии» – науки о сущем как таковом (τὸ ὂν ἢ ὂν). Аристотель разрешает центральную апорию: как может существовать единая наука о сущем, если это понятие многозначно (λέγεται πολλαχῶς)? Ответ заключается в гениальном открытии πρὸς ἓν отношения (отнесенности к одному): все значения «сущего» отсылают к единому центру и первоначалу – сущности (οὐσία). Таким образом, метафизика обретает уникальный предмет и статус высшей обобщающей науки, в отличие от частных наук, изучающих лишь отдельные части сущего.
Вторая часть книги, которая на первый взгляд кажется самостоятельным логическим трактатом, на самом деле служит онтологическим фундаментом первой. Защита закона непротиворечия – это не просто формально-логическое упражнение, а апология самого принципа возможности достоверного знания о сущем. Утверждая, что «нельзя одновременно утверждать и отрицать одно и то же», Аристотель защищает непротиворечивую структуру реальности, без которой немыслимо никакое научное исследование, включая науку о сущем.
Таким образом, несмотря на композиционные сложности и кажущуюся разнородность, IV книга «Метафизики» представляет собой системное единство. В ней онтологическое определение предмета метафизики (сущее как сущее) получает свое необходимое логическое основание в виде закона непротиворечия. Преодоление трудностей изложения этой книги вознаграждается пониманием краеугольного камня не только аристотелизма, но и всей западной метафизической традиции.
Глава 1. Предмет науки о бытии как таковом
1. Определение первой философии[1] Есть некая наука, которая рассматривает сущее как таковое (τὸ ὂν ᾗ ὄν), а также то, что ему присуще само по себе.
Комментарий:
Альберт Швеглер (Albert Schwegler): «Es giebt eine Wissenschaft, welche das Seiende als Seiendes betrachtet, und was ihm an sich zukommt. – Есть наука, которая рассматривает сущее как сущее и то, что ему присуще по себе. Эта наука есть не что иное, как философия в её высшем и собственном смысле, метафизика, которая имеет дело не с отдельными родами сущего, а с общими определениями и условиями всякого бытия» (Schwegler A. Die Metaphysik des Aristoteles. Tübingen, 1847. Bd. III. S. 105).
Швеглер подчеркивает всеобъемлющий и фундаментальный характер первой философии, противопоставляя её частным наукам.
Вернер Йегер (Werner Jaeger): «Die Formulierung "das Seiende als Seiendes" ist die genaue Definition der ersten Philosophie… Sie ist die Wissenschaft von den ersten Prinzipien und Ursachen, die überall vorausgesetzt sind. – Формулировка "сущее как сущее" является точным определением первой философии… Это наука о первых принципах и причинах, которые везде предполагаются» (Jaeger W. Aristoteles: Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung. Berlin, 1923. S. 207).
Йегер акцентирует, что эта наука изучает не некий особый род бытия, а самые общие принципы, применимые ко всему, что существует.
А.Ф. Лосев: «Аристотель… устанавливает специальную философскую дисциплину, которая рассматривает бытие в его целостности, бытие как таковое, бытие, поскольку оно есть бытие, и все необходимые свойства бытия, поскольку оно есть бытие… Это и есть та самая "метафизика", которая… является учением о первых причинах, о первых родах сущего и о неподвижном перводвигателе» (Лосев А.Ф. Комментарии к «Метафизике» Аристотеля // Аристотель. Сочинения в 4-х т. Т. 1. М., 1975. С. 36).
Лосев прямо отождествляет аристотелевское учение о сущем как сущем с метафизикой как таковой, указывая на её основные темы.
Д.В. Бугай: «Первую философию Аристотель определяет как науку о сущем как таковом, то есть о сущем, поскольку оно сущее… Это исследование высших причин и начал, которые обусловливают все сущее в аспекте его существования» (Бугай Д.В. Аристотель и традиционная логика: Анализ силлогистических теорий. М., 2011. С. 54).
Бугай делает акцент на каузальном (причинном) аспекте исследования сущего как такового.
ὅτι μὲν οὖν ἐστὶ ἐπιστήμη τις ἣ θεωρεῖ τὸ ὂν ᾗ ὂν καὶ τὰ τούτῳ ὑπάρχοντα καθ' αὑτό [1003a21-23]
[1003a21-23]: ᾗ ὂν – ключевая формула. Предлог ᾗ с родительным падежом означает «поскольку», «в качестве». Таким образом, τὸ ὂν ᾗ ὄν – это сущее, рассматриваемое именно в аспекте его существования, а не в каком-либо ином (например, количественном, как в математике). τὰ τούτῳ ὑπάρχοντα καθ' αὑτό – «то, что ему (сущему) присуще само по себе», т.е. атрибуты бытия (например, единство, множество, тождество, различие и др.), которые изучает эта наука.
2. Отличие от частных наукОна не тождественна ни одной из так называемых частных наук, поскольку ни одна из других наук не исследует общим образом сущее как таковое, но [2] каждая из них, отсекая [выделяя] какую-то его часть, изучает свойства этой части – как, например, поступают математические науки.
Комментарий:
Альберт Швеглер: «Sie ist identisch mit keiner der sogenannten particularen Wissenschaften. Denn keine der anderen Wissenschaften betrachtet allgemein das Seiende als Seiendes, sondern sie schneiden sich etwas davon ab und untersuchen die Accidenzien dieses Theiles… – Она не тождественна ни одной из так называемых частных наук. Ибо ни одна из других наук не рассматривает всеобще сущее как сущее, но они отсекают себе нечто от него и исследуют акциденции этой части…» (Schwegler A. Op. cit. S. 106).
Швеглер использует термин «акциденции» (accidentia – случайные свойства), но в данном контексте вернее говорить о «свойствах» или «атрибутах» данной части сущего, которые для этой части могут быть существенными.
Томас Хиффнэгл (Thomas Heath): «The special sciences are like sectional maps; metaphysics is the map of the whole world. – Частные науки подобны картам отдельных регионов; метафизика – это карта всего мира» (Heath T. Mathematics in Aristotle. Oxford, 1949. P. 57).
Хиффнэгл предлагает яркую метафору, поясняющую разницу в масштабе и предмете исследования.
А.Ф. Лосев: «Частные науки… берут только какую-нибудь одну область сущего и изучают ее свойства… Первая же философия изучает такие свойства сущего, которые… являются общими для всякого сущего, в какую бы область оно ни входило» (Лосев А.Ф. Указ. соч. С. 37).
Лосев четко формулирует различие: частные науки – о специфических свойствах области, первая философия – об универсальных свойствах бытия как такового.
Из журнала «Вопросы философии»: «Аристотель проводит демаркацию между философией и частнонаучным знанием… путем различения онтологического и регионального подходов. Если физик изучает сущее как подвижное, а математик – как количественное, то философ изучает сущее как сущее, т.е. его трансцендентальные определения» (Катасонов В.Н. Онтология Аристотеля и современная метафизика // Вопросы философии. 2011. № 5. С. 112).
Современный комментарий вводит термин «трансценденталии» (позднейший, схоластический термин для обозначения свойств бытия как такового), показывая непрерывность традиции.
αὕτη δ' ἐστὶν οὐδεμιᾷ τῶν ἐν μέρει λεγομένων ἡ αὐτή· οὐδεμία γὰρ τῶν ἄλλων ἐπισκοπεῖ καθόλου περὶ τοῦ ὂντος ᾗ ὄν, ἀλλὰ μέρος αὐτοῦ τι ἀποτεμόμεναι [2] περὶ τούτου θεωροῦσι τὸ συμβεβηκός, οἷον αἱ μαθηματικαὶ τῶν ἐπιστημῶν. [1003a23-26]
[1003a23-26]: οὐδεμιᾷ… τῶν ἐν μέрει – «ни одной из [наук], называемых частными» (τὸ μέρος – часть). ἀποτεμόμεναι – причастие от ἀποτέμνω, «отсекать», «отделять». Это очень важный глагол: частные науки не просто «берут» часть, а именно отсекают ее от целого для изолированного изучения. τὸ συμβεβηκός – здесь означает не «случайное» (акциденцию), а «то, что присуще», «свойство» данной части. Математика является классическим примером: она отсекает такие свойства сущего, как количество и непрерывность (арифметика и геометрия), и изучает их, абстрагируясь от материального субстрата.
3. Поиск высших принципов и причинПоскольку же мы ищем [3] начала и высшие причины, то ясно, что они должны быть началами и причинами чего-то определенного по своей природе.
Комментарий:
Альберт Швеглер: «Da wir aber die ersten Ursachen und Principien suchen, so ist klar, dass sie von Natur Ursachen und Principien von etwas seyn müssen. – Так как мы, однако, ищем первые причины и принципы, то ясно, что они по природе должны быть причинами и принципами чего-то» (Schwegler A. Op. cit. S. 107).
Швеглер интерпретирует фразу «по природе» (τῇ φύσει) как указание на онтологический, а не логический или условный статус этих причин.
Дэвид Росс (W. D. Ross): «Aristotle argues that if we are to discover the ultimate principles of things, these must be principles of something qua being, not of some department of being. – Аристотель утверждает, что если мы хотим открыть первоосновы вещей, они должны быть принципами сущего как такового, а не какой-либо отдельной его части» (Ross W. D. Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary. Vol. I. Oxford, 1924. P. 251).
Росс подчеркивает, что высшие причины должны быть причинами самого существования чего бы то ни было, а не его специфических модификаций.
А.В. Апполонов: «Высшие причины… не могут быть причинами лишь для некоторого ограниченного класса сущих… они должны быть таковы, чтобы объяснять существование и устройство всего универсума в целом. Поэтому они с необходимостью суть причины сущего как такового» (Апполонов А.В. «Метафизика» Аристотеля: введение в изучение // ΣΧΟΛΗ. 2008. Vol. 2. № 2. С. 259).
Российский исследователь актуализирует космологический и универсальный масштаб этих причин.
ἐπεὶ δὲ τὰ πρώτα αἴτια καὶ τὰς ἀρχὰς ζητοῦμεν, φανερὸν [3] ὅτι τινὸς φύσει ἀρχὰς ἀναγκαῖον αὐτὰ εἶναι. [1003a27-28]
[1003a27-28]: τὰ πρώτα αἴτια καὶ τὰς ἀρχάς – «первые причины и начала». Аристотель часто использует эти термины как синонимы для обозначения фундаментальных принципов. τινὸς φύσει – ключевая фраза: φύσει означает «по природе», «по своей сути», «само по себе». Это означает, что эти причины не случайно являются таковыми для некоего предмета, а по самой своей природе суть причины чего-то определенного (τινός). Как будет ясно из следующего предложения, этим «чем-то» является сущее как таковое.
4. Бытие как таковое – цель исследования.Следовательно, если те, кто искал элементы сущих, также искали эти начала, то и элементы необходимо должны быть [элементами] сущего не привходящим образом, но [именно] поскольку оно сущее. Поэтому и нам надлежит постигать первые причины сущего – именно поскольку оно сущее.
Комментарий:
Альберт Швеглер: «Wenn also auch Diejenigen, welche die Elemente der Wesen suchten, diese Principien suchten, so müssen auch die Elemente nothwendig nicht zufälligerweise, sondern als seyend die Elemente des Seyenden seyn. Darum müssen auch wir die ersten Ursachen des Seyenden als seyend erfassen. – Если, таким образом, также те, кто искал элементы сущих, искали эти принципы, то и элементы необходимо должны быть не случайным образом, но как сущее, элементами сущего. Потому и мы должны постигать первые причины сущего как сущего» (Schwegler A. Op. cit. S. 108).
Швеглер видит здесь полемику Аристотеля с досократиками (физиологами), которые искали первые начала (ἀρχαί), но рассматривали их как элементы (στοιχεῖα) конкретных физических вещей (воды, воздуха, огня), а не бытия как такового.
Жозеф Трико (Joseph Tricot): «Les physiologues ioniens… visaient les causes premières, mais sans les envisager en tant que telles, c'est-à-dire en tant que causes de l'être en tant qu'être. – Ионийские физиологи.., первые причины, но без того, чтобы расматривать их как таковые, то есть как причины сущего как сущего» (Tricot J. Aristote: La Métaphysique. Tome I. Paris, 1953. P. 182, note 3).
Трико уточняет, что досократики, по мнению Аристотеля, интуитивно шли к цели, но не обладали правильным методом и пониманием предмета.
Д.В. Бугай: «Аристотель… указывает, что его собственное исследование первых причин является прямым продолжением изысканий первых философов… Однако, в отличие от них, Стагирит настаивает на том, что эти причины должны быть поняты не как причины тех или иных состояний вещей, но как причины, обусловливающие саму возможность существования чего бы то ни было» (Бугай Д.В. Указ. соч. С. 55).
Бугай развивает мысль о преемственности и одновременно радикальном переосмыслении задачи философии у Аристотеля.
εἰ οὖν καὶ οἱ τὰ στοιχεῖα ζητοῦντες τῶν ὄντων καὶ ταύτας ἐζήτουν τὰς ἀρχάς, ἀνάγκη καὶ τὰ στοιχεῖα τῶν ὄντων εἶναι μὴ κατὰ συμβεβηκὸς ἀλλ' ᾗ ὄντα. διὸ καὶ ἡμῖν τῶν ὄντων ᾗ ὄντα τὰ πρώτα αἴτια δεῖ λαβεῖν. [1003a28-32]
[1003a28-32]: οἱ τὰ στοιχεῖα ζητοῦντες – «те, кто искал элементы». Речь о досократических философах (Фалес, Анаксимен, Гераклит и др.), которые считали первоначалом (ἀρχή) какой-то один элемент (στοιχεῖον – буквально «буква алфавита», затем «первоэлемент»). μὴ κατὰ συμβεβηκὸς ἀλλ' ᾗ ὄντα – «не по привходящему свойству (κατὰ συμβεβηκὸς), но поскольку они сущие». Аристотель проводит различие: досократики открыли начала, которые по совпадению являются сущими, но они искали их не как сущее (не в аспекте бытия), а как физические элементы. Задача же первой философии – изучать эти причины именно в их аспекте как причин бытия. ᾗ ὄντα в конце фразы зеркально отражает начальное ᾗ ὄν, замыкая логический круг и окончательно определяя предмет науки.
Глава 2. Единство науки о бытии и её ключевые понятия.
Многозначность бытия и принцип единства через соотнесение с одним началом.Отредактированный и исправленный текст Аристотеля (по Швеглеру и современным переводам):
[1] Понятие «сущее» (τὸ ὄν) высказывается в различных значениях (πλεοναχῶς λέγεται), однако все эти значения отсылают к одному общему началу (μίαν τινὰ ἀρχήν) и определенной единой природе (μίαν τινὰ φύσιν). Они не просто объединены омонимией (только общим именем), но соотносятся между собой по аналогии с тем, [2] как всё, что называется «здоровым», относится к здоровью (πρὸς μίαν ἀρχήν) – одно как сохраняющее здоровье, другое как его производящее, третье как его признак, четвертое как способное его воспринять. Подобным же образом и «врачебное» называют так по отношению к врачебному искусству (πρὸς μίαν ἀρχήν): одно – поскольку обладает этим искусством, другое – поскольку ему причастно [или к нему приспособлено], третье – поскольку является его произведением. И подобных примеров можно привести [3] множество. Таким образом, и сущее выражается во многих смыслах (τὸ ὂν λέγεται πολλαχῶς), но всякий раз по отношению к одному и тому же началу (ἀλλ᾽ ἀπὸ μιᾶς ἀρχῆς).
Διότι μὲν οὖν τοῦ ὄντος ᾗ ὂν ἐστὶν ἐπιστήμη τις, φανερόν· ἀεὶ γὰρ αἱ ἀκριβέσταται τῶν ἐπιστημῶν περὶ ἓν ὂν τυγχάνουσιν οὖσαι πρώτως, οἷον αἱ αὐταὶ οὖσαι περὶ ὑγιεινὸν ἓν καὶ νόσον. [1003b] ὁμοίως δὲ καὶ γραμματικὴ περὶ πάντα ἐστὶ τὰ γραμματικά. ὥστ' εἰ μή ἐστιν ἕτερον ὂν παρὰ τὰ πράγματα, ἀλλὰ περὶ ὂν ἁπλῶς, οὐκ ἂν εἴη περὶ τοῦ ὄντος ᾗ ὂν ἐπιστήμη.
[1] λέγεται δὲ πολλαχῶς μὲν τὸ ὄν, ἀλλ' ἅπαν πρὸς μίαν ἀρχήν· τὰ μὲν γὰρ ὅτι οὐσίαι, ὄντα λέγεται, τὰ δ' ὅτι πάθη οὐσίας, τὰ δ' ὅτι ὁδὸς εἰς οὐσίαν ἢ φθοραὶ ἢ στερήσεις ἢ ποιητικὰ ἢ γεννητικὰ οὐσίας ἢ τῶν πρὸς τὴν οὐσίαν λεγομένων, [2] ἢ τούτων τινὸς ἀποφάσεις ἢ τῆς οὐσίας· διὸ καὶ τὸ μὴ ὂν εἶναι μὴ ὄν φαμεν. ὥσπερ οὖν καὶ τὸ ὑγιεινὸν ἅπαν πρὸς ὑγίειαν λέγεται, τὸ μὲν ὅτι φυλάττει, τὸ δ' ὅτι ποιεῖ, τὸ δ' ὅτι σημεῖον τῆς ὑγιείας, τὸ δ' ὅτι δεκτικὸν αὐτῆς, [3] καὶ τὸ ἰατρικὸν πρὸς ἰατρικήν (τὸ μὲν γὰρ ὅτι ἔχει ἰατρικὴν λέγεται ἰατρικόν, τὸ δ' ὅτι εὔφυες πρὸς ἰατρικήν, τὸ δ' ὅτι ἔργον ἐστὶ τῆς ἰατρικῆς), ὁμοίως δὲ καὶ ἄλλα θάτερα ληπτέον ἂν λεγόμενα. οὕτω δὲ καὶ τὸ ὂν λέγεται πολλαχῶς μὲν, ἀλλ' ἅπαν πρὸς μίαν ἀρχήν.
Комментарии
[1] «Понятие «сущее» (τὸ ὄν) высказывается в различных значениях (πλεοναχῶς λέγεται)…»
Альберт Швеглер (Albert Schwegler): «Das Seiende wird in mannigfacher Bedeutung ausgesagt, aber immer in Beziehung auf einen ersten Grund… Diese Beziehung ist nicht eine blos äußerliche und zufällige, wie bei der blos gleichnamigen Homonymie, sondern eine innere und wesentliche.» («Сущее высказывается в многообразных значениях, но всегда в отношении к одному первоначалу… Это отношение не является merely внешним и случайным, как при простой омонимии [равноименности], но внутренним и сущностным.») Die Metaphysik des Aristoteles. Тübingen, 1847. S. 150.
Комментарий: Швеглер акцентирует ключевое различие Аристотеля между случайной омонимией (например, «ключ» от двери и «ключ» родник) и системной, просевшей (πρὸς ἕν) омонимией, где все значения внутренне связаны с одним центральным понятием.
Вернер Йегер (Werner Jaeger): «Die vielen Bedeutungen des Seienden sind also nicht gleichgeordnet, sondern weisen alle auf die eine Grundbedeutung der οὐσία zurück.» («Многочисленные значения сущего, таким образом, не равноправны, но все указывают на одно основное значение – οὐσία [сущность].») Aristoteles: Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung. Berlin, 1923. S. 207.
Комментарий: Йегер, рассматривающий «Метафизику» в рамках развития мысли Аристотеля, прямо указывает, что этим единым центром, к которому отсылаются все значения бытия, является сущность (οὐσία).
А.Ф. Лосев: «Аристотель… устанавливает… что все категории, поскольку они трактуют о сущем, обязательно относятся к одной категории, а именно к категории сущности… Все прочие категории… либо свойственны сущности, либо являются ее состоянием, либо путем к ней, либо ее лишением, либо ее уничтожением…» История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М., 1975. С. 53.
Комментарий: Лосев, вслед за классической традицией, дает исчерпывающее объяснение аристотелевского принципа: единство науки о бытии обеспечивается не самим по себе понятием «бытие», а его центральным и первичным модусом – сущностью.
Д.В. Бугай: «Аристотель вводит принцип соотнесённости значений «сущего» с единым началом (πρὸς ἕν), который позволяет, несмотря на многозначность (πολλαχῶς) «сущего», рассматривать его как предмет единой науки.» // «Философия и культура». 2015. № 5. С. 60-61.
Комментарий: Бугай подчеркивает методологический аспект этого пассажа: именно этот принцип (πρὸς ἕν) является тем инструментом, который позволяет Аристотелю обосновать возможность метафизики как единой науки, а не набора различных дисциплин.
[2] «…подобно тому, как всё, что называется «здоровым», относится к здоровью…»
Томас Аквинский (Thomas Aquinas; в церковном и богословском контексте – Фома Аквинский, в научном и популярном контексте – Томас): «Sicut enim omnia dicuntur sana per habitudinem ad sanitatem…» («Ибо как всё называется здоровым через отношение к здоровью…») In Duodecim Libros Metaphysicorum Aristotelis Expositio. Lib. IV, lect. 1, n. 5.
Комментарий: Аквинат, чей комментарий стал каноническим для средневековой традиции, видит в этом примере универсальную логическую модель, применимую ко многим понятиям, которые, будучи сказаны в разных смыслах, сохраняют внутреннее единство.
Джозеф Оуэнс (Joseph Owens): «The medical and the healthy are the standard examples of things named from one central instance. They are not univocal, because the same nature is not present in each. Nor are they purely equivocal, because they are all related to one common nature.» («Врачебное и здоровое – это стандартные примеры вещей, именуемых от одного центрального случая. Они не унивокальны [не однозначны], потому что одна и та же природа не присутствует в каждом из них. Но они и не чисто эквивокальны [омонимичны], потому что все они относятся к одной общей природе.») The Doctrine of Being in the Aristotelian Metaphysics. Toronto, 1951. P. 115.
Комментарий: Оуэнс четко определяет логический статус такой связи: это не средний путь между однозначностью и полной омонимией, а особый тип связи – «отнесенность к одному» (focal meaning), который и лежит в основании научного дискурса метафизики.
[3] «Подобных примеров можно привести множество…»
Альберт Швеглер: «Aristoteles liebt diese Beispiele, um die Einheit des Mannichfaltigen in der Beziehung auf ein Prinzip zu veranschaulichen.» («Аристотель любит эти примеры, чтобы проиллюстрировать единство многообразного в отношении к одному принципу.») Op. cit. S. 151.
Комментарий: Швеглер обращает внимание на то, что это не просто случайные примеры, а устойчивый методологический прием Аристотеля, который он использует в разных работах (например, в «Никомаховой этике» при определении блага) для решения проблемы единства многозначных понятий.
В.П. Гайденко: «Чтобы пояснить, каким образом возможна единая наука о сущем, Аристотель прибегает к аналогии с такими понятиями, как «здоровое» и «медицинское»… Все значения этих терминов отнесены к одному – к здоровью и к медицинскому искусству соответственно. Таким же образом все значения термина «сущее» отнесены к первому значению – к сущности.» История греческой философии в её связи с наукой. М., 2000. С. 234.
Комментарий: Гайденко, как и Лосев, ясно указывает на сущность как на тот самый «единый центр», который выполняет роль организующего принципа для всей системы категорий и, следовательно, для всей науки о сущем как таковом.
Единое и Сущее тождественны по своей природе.1. Тὸ ἓν καὶ τὸ ὂν ταὐτὸ καὶ μία φύσις.
Комментарий Альберта Швеглера (Die Metaphysik des Aristoteles, 1847):
Оригинал: "Das Eine und das Seiende sind dasselbe und eine Natur, d.h. sie sind nicht zwei verschiedene Gattungen, die sich gegenüberständen, sondern sie sind nur verschiedene Betrachtungsweisen derselben Sache. Alles Seiende ist Eines, sofern es ein bestimmtes, abgegrenztes, in sich zusammenhängendes ist, und alles Eine ist, sofern es ist."
Перевод: "Единое и Сущее суть одно и то же и одна природа, т.е. они не являются двумя различными родами, которые противостояли бы друг другу, но представляют собой лишь различные способы рассмотрения одной и той же вещи. Всё сущее есть единое, поскольку оно есть нечто определённое, ограниченное, внутренне связное, и всё единое есть, поскольку оно существует."
Пояснение: Швеглер акцентирует, что у Аристотеля речь идет не о двух разных сущностях, а о двух неразрывных аспектах одной и той же реальности: всякая вещь есть (сущее) и одновременно есть нечто одно (единое), целостное и определённое.
Комментарий В. И. Лосева (из работ о классической метафизике):
«Тождество сущего и единого у Аристотеля есть фундаментальный принцип, снимающий дуализм бытия и числа. Единое не является самостоятельной гипостазью, как у Платона, но есть сама структура и определённость сущего, его внутренняя оформленность. Нельзя помыслить вещь существующей, но при этом абсолютно лишённой единства и целостности».
2. Единое называется Сущим, потому что оно есть Реальное, существующее само для себя, Другое – потому что оно есть качество Реального, Иное – потому что оно есть переход к реальному бытию, или уничтожение, лишение, свойство, действующая или порождающая причина Реального или такой вещи, которая выражается в отношении Реального, или, наконец, потому что оно есть отрицание такой вещи или Реального. По этой причине мы также говорим, что несуществующее – это несуществующее.
(Этот пункт представляет собой интерпретацию и расширенный пересказ нескольких идей Аристотеля, а не прямой перевод. Более точный перевод см. в оригинале ниже).
Комментарий Дэвида Росса (Aristotle's Metaphysics, 1924):
Оригинал (англ.): "The concepts 'one' and 'being' are interdependent. We call something 'being' in virtue of its being a definite 'something', i.e., one. Conversely, we call it 'one' in virtue of its being. All the categories of being can be referred to a central point of reference (πρὸς ἕν), just as all things called 'healthy' are related to health."
Перевод: "Понятия «единое» и «сущее» взаимозависимы. Мы называем нечто «сущим» в силу того, что оно является определённым «нечто», т.е. единым. И наоборот, мы называем его «единым» в силу его существования. Все категории сущего могут быть отнесены к центральной точке отсчёта (πρὸς ἕν), точно так же, как все вещи, называемые «здоровыми», относятся к здоровью."
Пояснение: Росс подчёркивает логическую взаимосвязь понятий и вводит ключевую для Аристотеля идею отнесённости к единому началу (πρὸς ἕν), которая объясняет, как наука о сущем может быть единой, несмотря на множественность значений «сущего».











