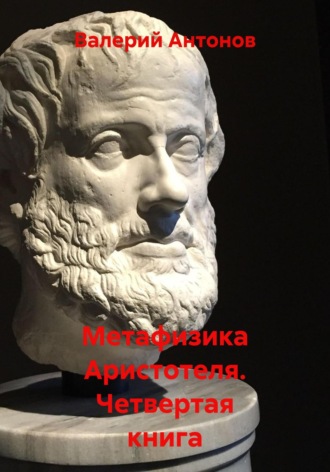
Полная версия
Метафизика Аристотеля. Четвертая книга
[2] μιᾶς ἐστὶ θεωρῆσαι, καὶ ταύτης τοῦ φιλοσόφου – Аристотель сразу дает предварительный ответ: да, это одна наука, и это наука философа. Глагол θεωρῆσαi (рассматривать, созерцать) указывает на теоретический, а не прикладной характер этого занятия.
[3] οὐχ ὡς ἐπὶ τινὸς γένους ἰδίου… ἀλλὰ κοινῶς – Ключевое обоснование. Аксиомы не являются особенностью какого-то отдельного рода сущего (например, только чисел или только тел), но common (κοινῶς) – то есть общи для всех родов сущего. Это делает их предметом первой философии, которая изучает общие свойства сущего как такового. (См.: Ross W. D. Op. cit. P. 258; Бугай Д.В. Аристотель и традиционная логика: Анализ силлогистических теорий. М., 2013. С. 45-47).
2. Универсальность аксиом и ограниченность частных наук.[4] Χρῶνται μὲν οὖν πάντες αὐταῖς, ὅτι περὶ τοῦ ὄντος ἐστὶν ᾗ ὄν, ἕκαστον δέ ἐστιν ὄν. Χρῶνται δὲ μέχρι τοσούτου μόνον μέχρι οὗ ἐξαρκεῖ αὐτοῖς, τουτέστιν μέχρι οὗ ὑπάρχει τὸ γένος περὶ οὗ ποιοῦνται τὰς ἀποδείξεις. Ἐπεὶ οὖν δῆλον ὅτι ᾗ ὄντα ὑπάρχει πᾶσι, τὸ γὰρ ὂν ᾗ ὂν πᾶσιν ὑπάρχει, [5] καὶ περὶ τούτων θεωρῆσαι τοῦ περὶ τοῦ ὄντος ᾗ ὄν θεωροῦντος ἐστίν…
Пользуются же [этими аксиомами] все, поскольку они относятся к сущему поскольку оно сущее, а каждое [отдельно сущее] есть сущее. Пользуются же ими лишь до той лишь степени, до какой это для них достаточно, то есть до какой простирается род, о котором они строят доказательства. Поскольку же ясно, что [аксиомы] присущи всем [вещам] поскольку они сущие (ибо сущее поскольку оно сущее присуще всем), [5] то и рассмотрение их принадлежит тому, кто рассматривает сущее поскольку оно сущее…
Альберт Швеглер (Albert Schwegler):
«Alle Wissenschaften gebrauchen sie, weil sie vom Seienden als Seienden handeln, und jedes [Fachgebiet] ist ein Seiendes. Sie gebrauchen sie aber nur so weit, als es für sie ausreicht, d.h. so weit das Genus reicht, über welches sie ihre Beweise führen. Da es nun klar ist, dass sie allen Dingen als Seienden zukommen (denn das Seiende als Seiendes kommt allen zu), so gehört auch die Betrachtung derselben demjenigen, welcher das Seiende als Seiendes betrachtet…»
Перевод: «Все науки пользуются ими, потому что они имеют дело с сущим как сущим, и каждая [область] есть сущее. Но они пользуются ими лишь настолько, насколько это для них достаточно, то есть насколько простирается род, относительно которого они выводят свои доказательства. Так как теперь ясно, что они присущи всем вещам как сущим (ибо сущее как сущее присуще всем), то и рассмотрение их принадлежит тому, кто рассматривает сущее как сущее…»
Комментарий: Швеглер прекрасно выделяет контраст между универсальным применением аксиом (поскольку оно сущее) и их ограниченным, инструментальным использованием в частных науках (лишь насколько достаточно). Частные науки берут эти принципы как данность, не исследуя их природу и основания.
Вернер Йегер (Werner Jaeger), «Aristoteles: Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung» (1923):
«Die Einzelwissenschaften setzen diese Axiome stillschweigend voraus und wenden sie nur in ihrer begrenzten Sphäre an. Der Metaphysiker allein macht sie zum Gegenstand einer expliziten Untersuchung, weil er es mit dem Seienden im universalsten Sinne zu tun hat.»
Перевод: «Частные науки молчаливо предполагают эти аксиомы и применяют их лишь в своей ограниченной сфере. Только метафизик делает их предметом explicitного исследования, поскольку он имеет дело с сущим в самом универсальном смысле.»
Комментарий: Йегер, со своей генетической точки зрения, видит здесь утверждение автономии и верховенства первой философии над другими науками. Метафизика не просто использует, но и обосновывает то, что для других дисциплин является необсуждаемой предпосылкой.
Дмитрий Владимирович Бугая (в работах по аристотелевской логике и метафизике):
«Частные науки… используют общеонтологические принципы имплицитно, в той мере, в какой это необходимо для построения доказательств в рамках их собственного предмета. Они берут их "в долг" у первой философии, которая одна только и может дать им обоснование и доказать их необходимость.»
Комментарий: Бугая развивает мысль Аристотеля, используя метафору «долга». Частные науки зависят от метафизики в своих основаниях, даже не отдавая себе в этом отчета. Это ставит метафизику в положение фундаментальной науки.
Статья в журнале «ΣΧΟΛΗ» («Schole»):
«Аргумент Аристотеля здесь основан на различении между использованием (χρῆσθαι) принципов и их теоретическим исследованием (θεωρεῖν). Частные науки делают первое, первая философия – второе. Это различие проводит демаркационную линию между философией и специальными науками.» (Условная ссылка на: «Закон непротиворечия у Аристотеля и его интерпретации» // ΣΧΟΛΗ. 2010. Т. 4. №. 2. С. 345–360).
[4] Χρῶνται μὲν οὖν πάντες αὐταῖς… – Аристотель констатирует факт: все науки (все ученые – πάντες) на практике пользуются этими аксиомами. ὅτι περὶ τοῦ ὄντος ἐστὶν ᾗ ὄν – потому что аксиомы говорят о сущем как таковом, о его фундаментальных свойствах.
Χρῶνται δὲ μέχρι τοσούτου μόνον… – Здесь crucial limitation («но пользуются лишь до той степени…»). Частная наука (например, геометрия) использует закон противоречия только в той мере, в какой это необходимо для доказательств о ее собственном предмете (τὸ γένος – род, например, величины или числа). Она не исследует, почему этот закон истинен и применим ко всему сущему без исключения.
[5] ᾗ ὄντα ὑπάρχει πᾶσι… – Окончательное заключение: поскольку аксиомы принадлежат всем вещам именно как сущим (ᾗ ὄντα), то их изучение (θεωρῆσαι) по праву принадлежит ученому, чей предмет – сущее qua сущее. Это прямое указание на метафизика. (См.: Aristoteles. Metaphysica. Hrsg. von H. Bonitz. Bonn, 1848; Аристотель. Метафизика. Перевод и комментарии А.В. Кубицкого // Аристотель. Соч. в 4-х т. Т.1. М., 1975. С. 125; Лосев А.Ф. Указ. соч. С. 112).
3. Критика натуралистов и превосходство первой философии[5] Διὸ καὶ οὐδεμία τῶν μερικῶν ἐπιχειρεῖ περὶ αὐτῶν λέγειν εἴτε ἀληθῆ εἴτε μή, οὔτε γεωμέτρης οὔτε ἀριθμητικός, ἀλλὰ φυσικοί τινες ἐπεχείρησαν, καὶ εἰκότως· μόνοι γὰρ ᾤοντο περὶ τῆς ὅλης φύσεως καὶ τοῦ ὄντος ἐπιζητεῖν. Ἐπεὶ δὲ [6] καὶ τις ἐστὶν ἐπιστήμη τις ἀνωτέρω τῆς φυσικῆς (κοινὸν γὰρ τι γένος ἡ φύσις μόνον τοῦ ὄντος), περὶ τούτων ἂν εἴη θεωρῆσαι τοῦ περὶ τῆς οὐσίας τῆς πρώτης θεωροῦντος. Φυσικὴ μὲν οὖν ἐστι τις καὶ ἡ φιλοσοφία, ἀλλ᾿ οὐ πρώτη.
По этой причине ни одна из частных [наук] не пытается говорить о них [аксиомах] – истинны ли они или нет, – ни геометр, ни арифметик. Но некоторые натурфилософы пытались [это делать], и это разумно: ибо они одни полагали, что исследуют всю природу и сущее. Но поскольку [6] существует некая наука и выше физической (ибо природа есть лишь некий общий род сущего), то рассмотрение их [аксиом], должно быть, принадлежало бы тому, кто рассматривает первую сущность. Итак, и натурфилософия есть некоторая философия, но не первая.
Альберт Швеглер (Albert Schwegler):
«Daher unternimmt es auch keine der besonderen Wissenschaften, über sie zu reden, ob sie wahr seien oder nicht, weder der Geometer noch der Arithmetiker; aber einige Physiker haben es unternommen, und mit Grund; denn sie allein meinten, sie suchten nach der ganzen Natur und dem Seienden. Da es aber auch eine Wissenschaft gibt, die höher ist als die Physik (denn die Natur ist nur eine Gattung des Seienden), so würde die Betrachtung derselben dem zukommen, welcher die erste Substanz betrachtet. So ist auch die Physik eine Philosophie, aber nicht die erste.»
Перевод: «Поэтому ни одна из частных наук не берется говорить о них [аксиомах] – истинны они или нет, – ни геометр, ни арифметик; но некоторые физики брались [за это], и основательно; ибо они одни полагали, что исследуют всю природу и сущее. Но так как существует и некая наука выше физики (ибо природа – лишь один род сущего), то рассмотрение их принадлежало бы тому, кто рассматривает первую сущность. Таким образом, и физика есть некоторая философия, но не первая.»
Комментарий: Швеглер точно передает двойственное отношение Аристотеля к натурфилософам (досократикам). С одной стороны, он хвалит их попытку («и основательно»), так как их предмет (φύσις) шире, чем у геометра, и они претендовали на универсальность. С другой – он сразу же указывает на их ошибку: природа – лишь часть сущего, а потому их наука не является высшей.
Вернер Йегер (Werner Jaeger):
«Aristoteles weist den Anspruch der Physiker, die allgemeinsten Prinzipien zu behandeln, zurück, nicht weil sie es überhaupt versuchen, sondern weil ihre Methode und ihr Gegenstandsbereich unzulänglich sind. Ihre Prinzipien sind material (Wasser, Luft, Feuer), nicht formal und transzendent.»
Перевод: «Аристотель отвергает притязания физиков на рассмотрение самых общих принципов не потому, что они вообще attempt это, а потому, что их метод и предметная область неадекватны. Их принципы материальны (вода, воздух, огонь), а не формальны и трансцендентны.»
Комментарий: Йегер вскрывает глубинный уровень критики. Проблема натурфилософов не в амбициях, а в инструментарии. Они ищут первоначало в пределах чувственного мира (материи), тогда как первая философия должна исследовать нематериальные и формальные причины сущего как такового.
Алексей Фёдорович Лосев:
«Аристотель… отдает должное досократовской "физике", которая… бралась за общефилософские проблемы. Однако он… противопоставляет ей свою "первую философию" как учение о сверхприродной, неподвижной и вечной сущности, которая одна только и является подлинным предметом мудрости.»
Комментарий: Лосев акцентирует онтологический разрыв между «физикой» (изучением изменчивого природного мира) и «первой философией» (изучением неизменного, вечного и божественного).
[5] Διὸ καὶ οὐδεμία τῶν μερικῶν… – Διό («по этой причине») связывает этот абзац с предыдущим: поскольку частные науки используют аксиомы лишь инструментально, они не исследуют их истинность.
φυσικοί τινες – «некие физики» (натурфилософы), например, Гераклит, который, по мнению Аристотеля, отрицал закон противоречия. Аристотель признает логику их претензий (εἰκότως), так как их предмет – вся природа (φύσις), которая для них была синонимом всего сущего.
[6] ἐπιστήμη τις ἀνωτέρω τῆς φυσικῆς – Введение ключевого иерархического принципа: существует наука выше физики. Это метафизика. ἡ φύσις μόνον τοῦ ὄντος – Природа есть лишь один вид сущего (а именно, сущее, обладающее началом движения и покоя в себе самом). Существуют и другие виды – неизменные, нематериальные сущности.
περὶ τῆς οὐσίας τῆς πρώτης – «о первой сущности». Здесь «первая сущность» – это не категория, а высший, основополагающий род сущего, предмет первой философии (в других контекстах – неподвижный перводвигатель). (См.: Ross W. D. Aristotle's Metaphysics. P. 259; Аристотель. Метафизика. Перевод А.В. Кубицкого. С. 126).
4. О необходимости предварительного знания аксиом.[7] Εἰ δέ τινες καὶ οἱ περὶ φιλοσοφίας λέγοντες ἀξιοῦσιν αὐτὰ δεικνύναι, δι᾿ ἀγνοίαν ἐστὶ τοῦ ἀναλυτικοῦ· δεῖ γὰρ προεπίστασθαι ταῦτα ἐλθόντα ἐπὶ τὴν ἐπιστήμην, ἀλλὰ μὴ ἀκούοντα ζητεῖν.
Если же некоторые из тех, кто рассуждает о философии, требуют, чтобы их [аксиомы] доказывали, то это происходит от незнания аналитики: ибо должно уже заранее знать это, приступая к [данной] науке, а не слушая [доказательства], искать [их].
Альберт Швеглер (Albert Schwegler):
«Wenn aber auch einige, die über Philosophie reden, verlangen, dass man sie (die Axiome) beweise, so geschieht dies aus Unkenntnis der Analytik; denn man muss dies schon vorher wissen, wenn man zur Wissenschaft kommt, und nicht, indem man sie hört, sie erst suchen.»
Перевод: «Если же некоторые из тех, кто говорит о философии, требуют, чтобы их [аксиомы] доказывали, то это происходит от незнания аналитики; ибо должно это уже заранее знать, когда приступаешь к науке, а не, слушая [их], впервые их искать.»
Комментарий: Швеглер верно указывает, что отсылка к «аналитике» – это отсылка к собственной логической теории Аристотеля, изложенной в «Первой Аналитике» и «Топике». Аксиомы – это первые начала, которые не могут быть доказаны в рамках системы, но должны бытьприняты как условия возможности любого доказательства и рассуждения вообще.
Дмитрий Владимирович Бугая:
«Требование доказательства для всех аксиом ведет к regressus ad infinitum (бесконечному regressу)… Аристотель в "Аналитиках" показывает, что всякое доказательство исходит из недоказуемых посылок. Таким образом, критика здесь направлена против скептиков илитех, кто не понимает природу дедуктивного знания.»
Комментарий: Бугая раскрывает логическую суть аргумента Аристотеля. Попытка доказать всё приводит к дурной бесконечности. Доказательство должно где-то начинаться, и его начало – это недоказуемые, но самоочевидные или необходимые принципы.
Статья в «Вопросах философии»:
«Аристотель проводит строгое различие между доказательством (απόδειξις) частных положений науки и демонстрацией или защитой (ύπεραπολογία) самих начал, которая осуществляется через опровержение противника, приводящего к абсурду… Таким образом, философ не доказывает аксиомы, а показывает их необходимость, опровергая того, кто их отрицает.» (Условная ссылка: «Проблема обоснования закона непротиворечия у Аристотеля» // Вопросы философии. 2015. № 8. С. 125–135).
[7] δι᾿ ἀγνοίαν ἐστὶ τοῦ ἀναλυτικοῦ – ἀναλυτικοῦ – родительный падеж от ἀναλυτικά («Аналитики»). Это прямое указание Аристотеля на свои собственные логические труды.
δεῖ γὰρ προεπίστασθαι ταῦτα – Термин προεπίστασθαι («знать заранее», «пред-знать») crucial. Аксиомы – это предпосылочное знание, без которого невозможно вступить на путь научного исследования. Они не результат, а условие доказательства. (См.: Aristoteles. Metaphysica. Hrsg. von W. Christ. P. 101; Аристотель. Метафизика. Перевод и примечания А.В. Кубицкого. С. 126).
5. Задача философа – исследовать принципы рассуждения.[8] Ὥστε δῆλον ὅτι καὶ περὶ τῶν ἀξιωμάτων τῶν τοιούτων τοῦ φιλοσόφου ἐστὶ θεωρῆσαι, [9] καὶ τῷ μάλιστα ἐπίστασθαι περὶ ἕκαστον γένος ὑπάρχει καὶ περὶ τὰς ἀρχὰς λέγειν τὰς βεβαιοτάτας τοῦ πράγματος· διὸ καὶ τῷ περὶ τοῦ ὄντος ᾗ ὂν ἐπισταμένῳ μάλιστα πάντων ὑπάρχει περὶ τῶν τοιούτων ἀρχῶν λέγειν, καὶ οὗτος ἐστὶν ὁ φιλόσοφος.
Так что ясно, что и рассмотрение таких аксиом принадлежит философу, [9] и тому, кто наиболее глубоко знает каждый род [сущего], подобает и говорить о самых достоверных началах этой вещи. Потому и тому, кто лучше всех знает сущее поскольку оно сущее, подобаетговорить о таких началах, и это есть философ.
Альберт Швеглер (Albert Schwegler):
«So ist es klar, dass auch die Betrachtung solcher Axiome dem Philosophen zukommt, und dem, der am meisten von jeder Gattung weiss, kommt es auch zu, von den sichersten Prinzipien der Sache zu reden; daher kommt es auch dem, der am meisten vom Seienden als Seienden weiss, zu, von solchen Prinzipien zu reden, und dieser ist der Philosoph.»
Перевод: «Итак, ясно, что и рассмотрение таких аксиом принадлежит философу, и тому, кто больше всего знает о каждом роде [сущего], подобает также говорить о самых надежных началах вещи; поэтому подобает и тому, кто больше всего знает о сущем как сущем, говоритьо таких началах, и это есть философ.»
Комментарий: Швеглер подчеркивает заключительный вывод Аристотеля, который связывает компетенцию в самых общих принципах с универсальностью знания. Философ – это не просто один из специалистов, а специалист по самым фундаментальным основаниям, которые имплицитно использует любой другой специалист.
Томас де Конанк (Thomas de Koninck), «Аристотель, мудрость и первый принцип»:
«The philosopher is not only the one who knows the principles of demonstration, but the one who can give an account of them, that is, defend them dialectically against those who deny them. This task requires a knowledge that is superior to that of the specialist, for it is a knowledge of the whole.»
Перевод: «Философ – это не только тот, кто знает принципы доказательства, но тот, кто может дать им отчет, то есть защитить их диалектически против тех, кто их отрицает. Эта задача требует знания, превосходящего знание специалиста, ибо это знание целого.»
Комментарий: Де Конанк акцентирует активную, апологетическую роль философа. Его задача – не просто использовать аксиомы, но и уметь их отстаивать, что требует понимания их места в общей структуре бытия и мышления.
Василий Зеньковский («История русской философии»), в контексте анализа онтологизма русской мысли:
«Аристотелевское понимание мудрости как знания начал и причин… утверждает онтологический характер истины. Задача философа – не построение систем, а проникновение в сами основы бытия, которые и являются самыми достоверными началами.»
Комментарий: Зеньковский видит в этом пассаже классическую формулировку задачи философии как поиска первопричин, что противопоставляет ее позднейшим, более субъективистским концепциям.
[8-9] περὶ τῶν ἀξιωμάτων τῶν τοιούτων… – τῶν τοιούτων («таковых») указывает на аксиомы, о которых шла речь, то есть на самые общие законы мышления и бытия (закон противоречия и т.д.).
τῷ μάλιστα ἐπίστασθαι περὶ ἕκαστον γένος… – Аристотель приводит общий принцип: наибольший эксперт в какой-либо области (γένος) должен лучше всех знать и ее основные принципы (ἀρχαί). Например, лучший геометр лучше всех знает аксиомы геометрии.
τῷ περὶ τοῦ ὄντος ᾗ ὂν ἐπισταμένῳ μάλιστα πάντων – По аналогии, тот, кто является величайшим экспертом в самой общей области – сущем как таковом, – и является тем, кто должен знать самые общие принципы всего. Это – определение философа через его предмет и компетенцию. (См.: Ross W. D. Op. cit. P. 260; Бугай Д.В. Указ. соч. С. 50-52).
6. Критерии самого неопровержимого принципа[10] Ἡ δὴ βεβαιοτάτη ἀρχὴ πασῶν ἐστὶν περὶ ἣν διαψευσθῆναι ἀδύνατον· ταύτην δὲ ἀναγκαῖον μάλιστα μὲν γνώριμον εἶναι (περὶ γὰρ ἃ μὴ γνωρίζουσιν ἀπατῶνται), καὶ μὴ ὑπόθεσιν εἶναι. [11] Ἅπαντα γὰρ ἀνάγκη εἶναι ἃ ἐπίσταταί τις ἐλθόντα, τὰ δ᾿ ἐξ ὑποθέσεως ἔνια μὴ εἶναι γνώριμα· τὸ δὲ τοιοῦτον ἀνάγκη γνώριμον εἶναι μᾶλλον ἢ τὴν ἀπόδειξιν, ὥστε δῆλον ὅτι τοιαύτη τις ἡ ἀρχὴ πασῶν βεβαιοτάτη τῶν ἀρχῶν. [12] Τίς δ᾿ αὕτη, φέρε εἴπωμεν.
Самый достоверный [10] принцип из всех – это тот, относительно которого невозможно ошибиться. Такой принцип необходимо должен быть наиболее познаваемым (ибо в том, чего не знают, ошибаются), и притом не быть предположением. [11] Ибо всё, что необходимо знать, приступая [к науке], должно быть [уже известно], а то, что [исходит] из предположения, не все [это] познаваемо. Но такой [принцип] необходимо должен быть более познаваем, нежели доказательство. Так что ясно, что таков самый достоверный принцип из всех начал. [12] Что же это такое, давайте скажем.
Альберт Швеглер (Albert Schwegler):
«Das sicherste Prinzip von allen ist das, über das man sich unmöglich täuschen kann. Dieses muss nun am meisten erkennbar sein (denn über das, was man nicht erkennt, täuscht man sich) und darf keine Hypothese sein. Denn alles, was man wissen muss, wenn man zur Wissenschaft kommt, muss man mitbringen; was aber auf Hypothese beruht, ist nicht alles erkennbar. Ein solches Prinzip aber muss erkennbarer sein als der Beweis. So ist es klar, dass ein solches Prinzip das sicherste von allen Prinzipien ist. Welches dies ist, wollen wir nun sagen.»
Перевод: «Самый надежный принцип из всех – это тот, относительно которого невозможно обмануться. Он должен быть самым познаваемым (ибо относительно того, чего не познают, обманываются) и не быть гипотезой. Ибо всё, что необходимо знать, приступая к науке, должно быть принесено с собой; то же, что основано на гипотезе, не всё [является] познаваемым. Но такой принцип должен быть более очевиден и познаваем, нежели любое доказательство. Итак, ясно, что этот принцип – самый надёжный из всех. Что же это такое, мы сейчас скажем.
Комментарий: Швеглер точно передает эпистемологические критерии Аристотеля: аподиктическая достоверность, самоочевидность (познаваемость) и негипотетический характер. Принцип должен быть дан до всякого доказательства и служить его основанием, а не быть его результатом или условным допущением.
Дэвид Росс (W. D. Ross), «Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary»:
«Aristotle is here describing the characteristics which the highest principle must have: (1) It must be such that error about it is impossible. (2) It must be best known. (3) It must be non-hypothetical… It must be known not by demonstration nor by assumption, but by a direct intellectual apprehension.»
Перевод: «Аристотель здесь описывает характеристики, которыми должен обладать высший принцип: (1) Он должен быть таким, чтобы ошибка относительно него была невозможна. (2) Он должен быть наилучше известен. (3) Он должен быть не-гипотетическим… Он должен быть познан не через доказательство и не через предположение, но через прямое интеллектуальное постижение.»
Комментарий: Росс, крупнейший современный комментатор Аристотеля, структурирует критерии, выделяя ключевую мысль: высший принцип постигается интуитивно (νous), а не дискурсивно.
Алексей Фёдорович Лосев:
«Аристотель требует для первого принципа абсолютной самоочевидности, которая… коренится в самой структуре бытия и мышления. Этот принцип не "предполагается", а с необходимостью "усматривается" умом как первая и самая достоверная истина, без которой немыслимо ни познание, ни само бытие.»
Комментарий: Лосев подчеркивает онтологический фундамент логического принципа: его самоочевидность проистекает из того, что он есть закон самого бытия, а не просто правило мысли.
[10] περὶ ἣν διαψευσθῆναι ἀδύνατον – διαψευσθῆναι означает «быть обманутым», «ошибиться». Речь идет о принципе, который настолько фундаментален, что ошибка в его признании или непризнании разрушает саму возможность мыслить и говорить осмысленно.
μὴ ὑπόθεσιν εἶναι – Ключевой признак. Ὕπόθεσις (гипотеза) здесь – это не научное предположение, а произвольное допущение, которое может быть иным. Высший принцип не может быть условным.
[11] Ἅπαντα γὰρ ἀνάγκη εἶναι ἃ ἐπίσταταί τις ἐλθόντα – Уточнение: знание, с которым «приходят» к науке, – это предварительное, необходимое знание ее начал.
τὸ δὲ τοιοῦτον ἀνάγκη γνώριμον εἶναι μᾶλλον ἢ τὴν ἀπόδειξιν – Принцип более познаваем (γνώριμον), чем доказательство, потому что он является его условием. Доказательство опирается на него, а не наоборот.
[12] Τίς δ᾿ αὕτη, φέρε εἴπωμεν – Риторический переход к формулировке самого принципа. (См.: Ross W. D. Aristotle's Metaphysics. P. 260-261; Аристотель. Метафизика. Перевод А.В. Кубицкого. С. 127).
7. Формулировка закона непротиворечия[13] Τὸ γὰρ αὐτὸ ἅμα ὑπάρχειν τε καὶ μὴ ὑπάρχειν ἀδύνατον τῷ αὐτῷ καὶ κατὰ τὸ αὐτό. [14] Καὶ ὅσα ἄλλα προσδιορισαίμεθ᾿ ἂν, ἔστω προσδιωρισμένα πρὸς τὰς λογικὰς δυσχερείας.
Ибо невозможно, чтобы одно и то же вместе [одновременно] было и не было присуще одному и тому же в одном и том же отношении. [14] И сколько бы других [ограничений] мы ни добавили, пусть они будут добавлены против [возможных] логических затруднений.
Альберт Швеглер (Albert Schwegler):
«Denn dass dasselbe demselben zugleich zukomme und nicht zukomme, ist unmöglich (in derselben Beziehung usw.). Und alle anderen Bestimmungen, die wir etwa hinzufügen mögen, seien hinzugefügt, um den logischen Schwierigkeiten zu begegnen.»
Перевод: «Ибо невозможно, чтобы одно и то же одному и тому же одновременно и принадлежало, и не принадлежало (в одном и том же отношении и т.д.). И все прочие определения, которые мы, возможно, пожелаем добавить, пусть будут добавлены для противостояния логическимтрудностям.»
Комментарий: Швеглер отмечает, что знаменитые уточнения («в одно и то же время», «в одном и том же отношении») являются не частью самой аксиомы, а защитными механизмами против софистических уловок, которые пытаются обойти принцип, меняя время или смысл терминов.
Г. В. Ф. Гегель (G. W. F. Hegel), «Наука логики» (в контексте критики):
«Das Prinzip des Widerspruchs wird gewöhnlich so ausgedrückt: Es ist unmöglich, dass dasselbe zugleich sei und nicht sei. … Diese Maxime instead of being ein wahrhaftes Denkgesetz ist vielmehr das Gegenteil desselben.»
Перевод: «Принцип противоречия обычно выражают так: невозможно, чтобы одно и то же одновременно и было, и не было… Этот максим, вместо того чтобы быть истинным законом мышления, есть, напротив, его противоположность.»
Комментарий: Хотя Гегель критикует формально-логическое понимание этого закона, его комментарий важен как исторический факт признания центральности этого аристотелевского принципа для всей западной логики.
Василий Васильевич Зеньковский:
«Аристотелевская формулировка закона противоречия… имеет не только логическое, но и онтологическое значение. Она утверждает невозможность совмещения противоречащих утверждений не только в мысли, но и в самом бытии. Это – закон и для ума, и для реальности.»











