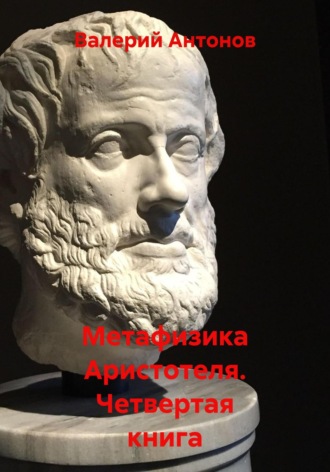
Полная версия
Метафизика Аристотеля. Четвертая книга
[15] «…ἐν δὲ τῇ στερήσει περὶ ὃ λέγεται ἡ στέρησις ὑπάρχει τις φύσις…» («…в лишении же [есть] некая природа, о которой говорится лишённость…»)
Это прямое указание на ὑποκείμενον (substrate, подлежащее). В случае лишения мы всегда имеем дело с некой сущностью (φύσις), которая служит основой для атрибуции лишённости. Это онтологизирует понятие лишения, делая его не просто логическим, а категорией бытия. Противопоставление «природа / отсутствие природы» является предметом изучения первой философии. (См.: Aristot. Metaph. 1004b24–27).
Все противоположности сводятся к отношению Единого и Многого.Но множество противостоит единому, так что то, что противостоит упомянутым понятиям, другое, несходное и непохожее, и все остальное, что говорится в связи с этими понятиями или со множеством и единым, также принадлежит данной науке. Сюда же относится и противопоставление: ведь противопоставление [16] – это различие, а различие – это инаковость.
Безусловно. Вот анализ и оформление следующего фрагмента в соответствии с заданным форматом.
Отредактированный текст Аристотеля (Метафизика, Кн. 4, Гл. 2)
Все противоположности так или иначе сводятся к началам Единого и Многого.
Поскольку Многое противопоставлено Единому, то [изучению той же науки подлежит] и всё то, что противопоставлено упомянутым [понятиям], – а именно Иное, Несходное, Неподобное, – а также все прочие [категории], которые определяются через отношение к этим понятиям или через отношение ко Многому и Единому. [К ведению этой науки относится] и противопоставление как таковое, ибо противопоставление [16] есть вид различия, различие же есть вид инаковости.
Комментарии.
Альберт Швеглер (Albert Schwegler), «Die Metaphysik des Aristotelles» (1847–1848):
«Alle Gegensätze lassen sich auf die Einheit und Vielheit zurückführen… Daher muss die Wissenschaft, welche das Eine und Viele, d.h. das Seiende als solches untersucht, auch alle diese Gegensätze in ihre Betrachtung ziehen.»
Перевод: «Все противоположности могут быть сведены к единству и множественности… Следовательно, наука, которая исследует Единое и Многое, то есть сущее как таковое, должна также включать в своё рассмотрение и все эти противоположности.»
Комментарий: Швеглер выделяет главный тезис Аристотеля: Единое и Многое выступают архимедовой точкой для всей системы противоположностей. Поэтому наука, изучающая эти первоначала (archai), по праву является наукой обо всех производных от них противоположных понятиях.
Вернер Йегер (Werner Jaeger), «Aristotle: Fundamentals of the History of His Development»:
«The reduction of all opposites to the One and the Many is a clear inheritance from Platonism. Aristotle systematizes this approach, making it the structural principle for delineating the domain of first philosophy.»
Перевод: «Сведение всех противоположностей к Единому и Многому является явным наследием платонизма. Аристотель систематизирует этот подход, делая его структурным принципом для разграничения сферы компетенции первой философии.»
Комментарий: Йегер указывает на историко-философский контекст, подчёркивая платоновские корни этой идеи (например, диалог «Филеб»). Однако Аристотель не просто заимствует её, а даёт ей строгое методологическое обоснование в рамках своей собственной системы.
Алексей Фёдорович Лосев:
В своих трудах Лосев, глубоко исследовавший античную диалектику, подчёркивает, что сведение противоположностей к Единому и Многому есть акт высшего философского обобщения. Для Аристотеля, по мнению Лосева, это не просто логическая операция, а обнаружение самой структуры бытия, которое является ареной борьбы и единства этих первоначал. Понятия «Иное» (ἕτερον), «Несходное» (ἀνόμοιον) и «Неподобное» (ἀνόμοιον) – это не произвольные синонимы, а различные модусы проявления фундаментального отношения Единого и Многого в конкретных вещах и категориях.
Татьяна Васильевна Васильева:
В работе «Комментарии к курсу истории греческой философии» Васильева обращает внимание на логическую строгость заключительной фразы фрагмента. Аристотель выстраивает родо-видовую цепочку: противопоставление (ἀντίθεσις) → различие (διαφορά) → инаковость (ἑτερότης). Это показывает, что все формы opposites не разрознены, а связаны в единую иерархическую систему, восходящую к самым общим принципам. Задача первой философии – изучать именно эти верховные принципы и их непосредственные проявления.
Оригинальный текст на древнегреческом и филологический комментарий
ἀντίκειται δὲ τῷ ἑνὶ τὸ πλῆθος… ὥστε καὶ τὰ ἀντικείμενα τοῖς εἰρημένοις, ἕτερον καὶ ἀνόμοιον καὶ ἄνισον, καὶ ὅσα ἄλλα λέγεται ἢ κατὰ ταῦτα ἢ κατὰ πλῆθος καὶ ἕν, [16] ἐνὸς ὄντος τοῦ ἐναντίου, καὶ ἡ ἀντίθεσις διαφορά τις, ἡ δὲ διαφορά ἑτερότης.
Комментарий:
[16] «…ἐνὸς ὄντος τοῦ ἐναντίου, καὶ ἡ ἀντίθεσις διαφορά τις…» («…поскольку противоположное есть нечто единое [по виду], и противопоставление есть [вид] различия…»)
Эта фраза содержит ключевой аргумент. Аристотель утверждает, что сама противоположность (ἐναντίον) как таковая является неким единством, определённой формой отношения. Это не хаос, а упорядоченная структура. Поэтому её можно сделать предметом научного изучения. Далее он проясняет логический статус этого отношения: противопоставление (ἀντίθεσις) – это не первичное понятие, а вид (τις – некий, некоторый) более широкого рода «различие» (διαφορά). (См.: Aristot. Metaph. 1004a17–20; 1055a38–b2).
Утверждение, что противоположность «едина» (ἑνὸς ὄντος), означает, что она представляет собой специфический и познаваемый тип связи между терминами, а не их простое механическое противостояние.
«…ἡ δὲ διαφορά ἑτερότης.» («…различие же есть инаковость.»)
Здесь Аристотель восходит к самому общему роду для всех этих понятий – ἑτερότης (инаковость, otherness). Это высшая категория, обозначающая любое отношение «иности». Таким образом, он выстраивает нисходящую цепь: Инаковость (самый широкий род) → Различие (частный случай инаковости) → Противопоставление (частный и наиболее резкий случай различия). Вся эта цепь укоренена в первоначалах Единого и Многого. (См.: Aristot. Metaph. 1054b23–30; Cat. 6a17–18).
Множественность значений понятий не мешает единству науки.Все противоположности так или иначе сводятся к началам Единого и Многого.
Поскольку Многое противопоставлено Единому, то [изучению той же науки подлежит] и всё то, что противопоставлено упомянутым [понятиям], – а именно Иное, Несходное, Неподобное, – а также все прочие [категории], которые определяются через отношение к этим понятиям или через отношение ко Многому и Единому. [К ведению этой науки относится] и противопоставление как таковое, ибо противопоставление [16] есть вид различия, различие же есть вид инаковости.
Комментарии.
Альберт Швеглер (Albert Schwegler), «Die Metaphysik des Aristotelles» (1847–1848):
«Alle Gegensätze lassen sich auf die Einheit und Vielheit zurückführen… Daher muss die Wissenschaft, welche das Eine und Viele, d.h. das Seiende als solches untersucht, auch alle diese Gegensätze in ihre Betrachtung ziehen.»
Перевод: «Все противоположности могут быть сведены к единству и множественности… Следовательно, наука, которая исследует Единое и Многое, то есть сущее как таковое, должна также включать в своё рассмотрение и все эти противоположности.»
Комментарий: Швеглер выделяет главный тезис Аристотеля: Единое и Многое выступают архимедовой точкой для всей системы противоположностей. Поэтому наука, изучающая эти первоначала (archai), по праву является наукой обо всех производных от них противоположных понятиях.
Вернер Йегер (Werner Jaeger), «Aristotle: Fundamentals of the History of His Development»:
«The reduction of all opposites to the One and the Many is a clear inheritance from Platonism. Aristotle systematizes this approach, making it the structural principle for delineating the domain of first philosophy.»
Перевод: «Сведение всех противоположностей к Единому и Многому является явным наследием платонизма. Аристотель систематизирует этот подход, делая его структурным принципом для разграничения сферы компетенции первой философии.»
Комментарий: Йегер указывает на историко-философский контекст, подчёркивая платоновские корни этой идеи (например, диалог «Филеб»). Однако Аристотель не просто заимствует её, а даёт ей строгое методологическое обоснование в рамках своей собственной системы.
Алексей Фёдорович Лосев:
В своих трудах Лосев, глубоко исследовавший античную диалектику, подчёркивает, что сведение противоположностей к Единому и Многому есть акт высшего философского обобщения. Для Аристотеля, по мнению Лосева, это не просто логическая операция, а обнаружение самой структуры бытия, которое является ареной борьбы и единства этих первоначал. Понятия «Иное» (ἕτερον), «Несходное» (ἀνόμοιον) и «Неподобное» (ἀνόμοιον) – это не произвольные синонимы, а различные модусы проявления фундаментального отношения Единого и Многого в конкретных вещах и категориях.
Татьяна Васильевна Васильева:
В работе «Комментарии к курсу истории греческой философии» Васильева обращает внимание на логическую строгость заключительной фразы фрагмента. Аристотель выстраивает родо-видовую цепочку: противопоставление (ἀντίθεσις) → различие (διαφορά) → инаковость (ἑτερότης). Это показывает, что все формы opposites не разрознены, а связаны в единую иерархическую систему, восходящую к самым общим принципам. Задача первой философии – изучать именно эти верховные принципы и их непосредственные проявления.
Оригинальный текст на древнегреческом и филологический комментарий
ἀντίκειται δὲ τῷ ἑνὶ τὸ πλῆθος… ὥστε καὶ τὰ ἀντικείμενα τοῖς εἰρημένοις, ἕτερον καὶ ἀνόμοιον καὶ ἄνισον, καὶ ὅσα ἄλλα λέγεται ἢ κατὰ ταῦτα ἢ κατὰ πλῆθος καὶ ἕν, [16] ἐνὸς ὄντος τοῦ ἐναντίου, καὶ ἡ ἀντίθεσις διαφορά τις, ἡ δὲ διαφορά ἑτερότης.
Комментарий:
[16] «…ἐνὸς ὄντος τοῦ ἐναντίου, καὶ ἡ ἀντίθεσις διαφορά τις…» («…поскольку противоположное есть нечто единое [по виду], и противопоставление есть [вид] различия…»)
Эта фраза содержит ключевой аргумент. Аристотель утверждает, что сама противоположность (ἐναντίον) как таковая является неким единством, определённой формой отношения. Это не хаос, а упорядоченная структура. Поэтому её можно сделать предметом научного изучения. Далее он проясняет логический статус этого отношения: противопоставление (ἀντίθεσις) – это не первичное понятие, а вид (τις – некий, некоторый) более широкого рода «различие» (διαφορά). (См.: Aristot. Metaph. 1004a17–20; 1055a38–b2).
Утверждение, что противоположность «едина» (ἑνὸς ὄντος), означает, что она представляет собой специфический и познаваемый тип связи между терминами, а не их простое механическое противостояние.
«…ἡ δὲ διαφορά ἑτερότης.» («…различие же есть инаковость.»)
Здесь Аристотель восходит к самому общему роду для всех этих понятий – ἑτερότης (инаковость, otherness). Это высшая категория, обозначающая любое отношение «иности». Таким образом, он выстраивает нисходящую цепь: Инаковость (самый широкий род) → Различие (частный случай инаковости) → Противопоставление (частный и наиболее резкий случай различия). Вся эта цепь укоренена в первоначалах Единого и Многого. (См.: Aristot. Metaph. 1054b23–30; Cat. 6a17–18).
Множественность значений понятий не мешает единству науки.И вот, поскольку Единое выражается во множестве значений, то и упомянутые понятия будут выражаться во множестве: тем не менее все они принадлежат к одной науке: ведь понятия принадлежат к разным наукам не тогда, когда они используются в разных значениях, а когда они не подпадают под более высокое понятие [17] и не относятся к Единому и Тому же.
Отредактированный текст Аристотеля (Метафизика, Кн. 4, Гл. 2)
Итак, поскольку «Единое» имеет множество значений, то и все связанные с ним термины («Многое», «Иное», «Несходное» и пр.) также будут иметь множество значений. Однако [из этого не следует, что ими должны заниматься разные науки]; напротив, все они относятся к ведению одной и той же науки. Ведь основанием для разделения наук является не то, что их ключевые понятия полисемантичны [17] (то есть имеют множество значений), а то, что эти понятия не сводятся к одному, высшему роду и не отсылают к одной и той же природе.
Комментарии.
Альберт Швеглер (Albert Schwegler), «Die Metaphysik des Aristoteles» (1847–1848):
«Nicht die Homonymie der Principien trennt die Wissenschaften, sondern die Verschiedenheit der Gattungen, denen die Gegenstände angehören. So mag denn zwar der Begriff des Einen vielfach bedeutsam sein, aber weil alle diese Bedeutungen doch auf eine erste Bedeutung (die der Substanz) zurückweisen und eine Einheit der Analogie nach bilden, so sind sie Gegenstand einer und derselben Wissenschaft.»
Перевод: «Не омонимия принципов разделяет науки, а различие родов, к которым принадлежат предметы [изучения]. Таким образом, пусть понятие Единого и многозначно, но поскольку все эти значения отсылают к первому значению (значению сущности) и образуют единство по аналогии, то они являются предметом одной и той же науки.»
Комментарий: Швеглер точно схватывает суть аргумента Аристотеля. Критерий – не многозначность термина, а единство его референции. Если все значения термина связаны между собой (например, через отношение к первичному значению – πρὸς ἓν), то они образуют предмет единой науки.
Сэр Дэвид Росс (Sir David Ross), «Aristotle's Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary»:
«A term may be used in several senses and yet be the subject of one science, provided that its various senses are related to one primary sense. Thus ‘healthy’ is used in many senses, but all with reference to health in a body. Similarly ‘being’ and ‘one’ have many senses, but all with reference to a primary kind of being, substance.»
Перевод: «Термин может использоваться в нескольких значениях и при этом быть предметом одной науки при условии, что его различные значения связаны с одним первичным значением. Так, «здоровый» используется во многих смыслах, но все они отсылают к здоровью в теле. Подобным же образом «сущее» и «единое» имеют много значений, но все они отсылают к первичному виду сущего – сущности.»
Комментарий: Росс приводит классический пример аристотелевской «проса-энной омонимии» (πρὸς ἓν λεγόμενα), который проясняет мысль Стагирита. Науки определяются не словами, а онтологическими сферами. Если многозначное слово указывает на одну онтологическую сферу (как «здоровый» на медицину), то наука едина.
Алексей Фёдорович Лосев:
Лосев видит в этом пассаже глубокое методологическое открытие Аристотеля, позволяющее преодолеть релятивизм софистов. Многозначность понятий не ведёт к хаосу в познании, если установлена их системная связь. Первая философия возможна как универсальная наука именно потому, что все значения «сущего» и «единого» связаны с центральным значением – «сущностью» (οὐσία). Это не просто лингвистическое единство, а отражение объективной иерархии бытия, где всё существующее так или иначе относится к первичной сущности.
Михаил Николаевич Волков:
В своей статье «Принцип πρὸς ἓν и структура метафизики Аристотеля» (журнал «Вопросы философии») Волков подчёркивает, что Аристотель здесь формулирует важнейший критерий научности. Единство науки обеспечивается не формальным единством предмета, а единством аспекта рассмотрения. Метафизика рассматривает всё сущее под аспектом его существования и единства, а все значения этих терминов связаны между собой именно этим аспектом. Поэтому она едина, несмотря на то, что её предмет кажется необъятным.
ἐπεὶ οὖν τὸ ἓν λέγεται πολλαχῶς, καὶ ταῦτα πάντα λεχθήσεται πολλαχῶς· ὅμως δὲ πάντων ἐστὶ μιᾶς ἐπιστήμης θεωρῆσαι· οὐ γὰρ ὅταν λέγηται πολλαχῶς, ἑτέρας ἐπιστήμης ἐστὶ τῶν λεγομένων, ἀλλ’ ὅταν μήτε πρὸς ἓν μήτε ἀπὸ μιᾶς φύσεως ὦσιν αἱ διαθέσεις. [17]
Комментарий:
[17] «…ὅταν μήτε πρὸς ἓν μήτε ἀπὸ μιᾶς φύσεως ὦσιν αἱ διαθέσεις.» («…а когда [значения] не отнесены к одному и тому же и не восходят к одной природе.»)
Это – формулировка негативного критерия разделения наук. Науки различаются, когда значения их ключевых терминов не связаны отношением πρὸς ἕν (отнесённостью к одному) и не происходят ἀπὸ μιᾶς φύσεως (от одной природы). Это два способа выразить одну и ту же мысль: значения могут быть объединены либо через внешнее отношение к единому референту (как «здоровое» относится к «здоровью»), либо через внутреннее, генетическое происхождение от единой сущности (φύσις). (См.: Aristot. Metaph. 1003b12–19).
Слово διαθέσεις (здесь переведено как «значения», букв. «расположения», «состояния») в данном контексте указывает на различные модусы, или способы, какими нечто может быть названо «единым» или «сущим».
Метод: сведение всех значений к первому в категории.Поскольку все [вторичные значения] отсылают к своему первому (например, всё, что называется «единым», отсылает к первичному единству), то и с такими понятиями, как «тождественное», «иное» [18] и прочими противоположностями, должно обстоять таким же образом. Следовательно, после того как мы выясним, какими различными способами выражается каждое из этих понятий, нам надлежит показать, каким образом каждое из них соотносится с первым значением в своей категории: ведь нечто называется так потому, что обладает этим первым [началом], другое – потому, что производит его, третье – по причине иных [19] подобных отношений.
Комментарии.
Альберт Швеглер (Albert Schwegler), «Die Metaphysik des Aristoteles» (1847–1848):
«Die Methode also, welche diese Wissenschaft bei Behandlung ihrer vieldeutigen Grundbegriffe einzuschlagen hat, ist die, daß sie die verschiedenen Bedeutungen auf ihre erste und hauptsächlichste Bedeutung zurückführt… Alle abgeleiteten Bedeutungen werden durch ihre Beziehung auf diese erste Bedeutung verständlich und wissenschaftlich behandelbar.»
Перевод: «Метод, который должна применять эта наука при обработке своих многозначных основных понятий, состоит в том, чтобы сводить различные значения к их первому и главнейшему значению… Все производные значения становятся понятными и доступными для научного рассмотрения через их отношение к этому первому значению.»
Комментарий: Швеглер верно определяет это место как изложение метода первой философии. Аристотель предлагает не просто констатировать многозначность, а активно работать с ней, выстраивая иерархию значений вокруг центрального, «проса-энного» (πρὸς ἓν) значения.
Томас Тейлор (Thomas Taylor), «The Metaphysics of Aristotle»:
«For as the many significations of being are all reducible to substance, as the first of beings, so the many significations of the one are all reducible to the first one. And after the same manner we must reduce the many significations of the same, and other opposite conceptions, to the first in each genus.»
Перевод: «Ибо как многие значения сущего сводятся к сущности как первому из сущих, так и многие значения единого сводятся к первому единому. И таким же образом мы должны сводить многие значения тождественного, иного и других противоположных концепций к первому [значению] в каждом роде.»
Комментарий: Тейлор подчёркивает универсальность предлагаемого Аристотелем метода. Он применим не только к «сущему» и «единому», но и ко всей сети связанных с ними категориальных оппозиций («тождественное»/«иное» и т.д.). Это системный подход к построению науки.
Алексей Фёдорович Лосев:
Лосев видит в этом пассаже квинтэссенцию аристотелевского каузального анализа. Сведение к первому (τὸ πρῶτον) – это не просто лингвистическая процедура, а обнаружение причины, по которой все вещи называются одним и тем же именем. Аристотель намечает виды причинных отношений: формальное («обладает»), производящее («производит») и другие. Таким образом, метод первой философии оказывается тесно связанным с его учением о четырёх причинах, а сама метафизика предстаёт как наука о первых причинах и началах.
Пермский государственный университет, статья в «Вестнике ПГГПУ»:
В коллективной статье «Категория отношения в метафизике Аристотеля» авторы обращают внимание на то, что Аристотель не просто постулирует необходимость сведения к первому, но и предлагает его типологию ([19]: «обладает», «производит», «иные отношения»). Это прообраз будущих классификаций типов аналогии (например, analogia attributionis). Данный метод позволяет упорядочить всё semantic field понятия, превращая его из набора значений в строгую систему, отражающую структуру реальности.
Оригинальный текст на древнегреческом и филологический комментарий
ἐπεὶ δ’ ἀναφέρεται πάντα πρὸς τὸ πρῶτον, οἷον ὅσα ἓν λέγεται πρὸς τὸ πρῶτον ἕν, νομιστέον ὁμοίως ἔχειν καὶ ἐπὶ τῶν αὐτῶν καὶ ἑτέρων [18] καὶ τῶν ἐναντίων. διὸ διαριθμησαμένοις ποσαχῶς ἕκαστον λέγεται, δεικτέον πῶς ἕκαστον ἀνάγεται πρὸς τὸ πρῶτον ἐν ἑκάστῃ κατηγορίᾳ· τὰ μὲν γὰρ τῷ ἔχειν, τὰ δὲ τῷ ποιεῖν, τὰ δ’ ἄλλως [19] τὰ τοιαῦτα ἔχειν ἀνάγεται πρὸς ἐκεῖνο.
Комментарий:
[18] «…καὶ ἐπὶ τῶν αὐτῶν καὶ ἑτέρων…» («…и с такими понятиями, как "тождественное" и "иное"…»)
Аристотель расширяет сферу применения своего метода. Речь уже не только о «едином» и «сущем», но и о всей системе сопряжённых с ними категориальных противоположностей: τὰ αὐτὰ (тождественное) и ἕτερα (иное). Это подтверждает, что первая философия – это наука о всей системе фундаментальных категорий бытия, а не о чём-то одном. (См.: Aristot. Metaph. 1003b33–1004a2).
[19] «…τὰ δ’ ἄλλως…» («…третье – опять-таки согласно другим…»)
Это указание на то, что отношения производности значений от первого начала многообразны. Аристотель не ограничивается двумя примерами («обладать» и «производить»), а оставляет метод открытым для иных типов связи. Это могут быть отношения цели, материала, а также более сложные виды аналогии. Важен не исчерпывающий список, а сам принцип сведения всех значений к некому первичному смыслу через установление конкретного типа отношения. (См.: Aristot. Metaph. 1004a25–31; Nic. Eth. 1096b26–28).
Подтверждение: решение апорий и право философа исследовать все.Таким образом, становится ясно, что именно этой науке – первой философии – принадлежит задача научного исследования всех этих понятий [20] (как «сущего» и «единого», так и их противоположностей), а также [изучения] сущности. Это и есть решение тех апорий (затруднений), которые были сформулированы ранее среди предварительных вопросов метафизики.
И действительно, именно философ по праву должен исследовать всё без изъятия. Ведь если не философу, то кому же ещё надлежит исследовать, тождественны ли Сократ и сидящий Сократ, является ли одно противоположностью другому, а также – что такое противоположность как таковая, сколькими значениями она выражается, и другие подобные вопросы?
Комментарии.
Альберт Швеглер (Albert Schwegler), «Die Metaphysik des Aristoteles» (1847–1848):
«So löst sich denn die in den Aporien aufgeworfene Frage, welcher Wissenschaft die Untersuchung aller dieser Begriffe zukomme. Sie kommt der Philosophie zu, und zwar aus dem Grunde, weil sie es mit den ersten Principien zu thun hat, von denen alle diese Begriffe abhängen… Der Philosoph ist der Universalgelehrte, nicht dem Umfange, sondern der Principienfrage nach.»
Перевод: «Таким образом, разрешается вопрос, поставленный в апориях: какой науке принадлежит исследование всех этих понятий. Она принадлежит философии, и именно по той причине, что она имеет дело с первыми принципами, от которых зависят все эти понятия… Философ является универсальным учёным – не по объёму [знаний], а в силу [своей компетенции в вопросах] принципов.»
Комментарий: Швеглер верно указывает, что Аристотель здесь даёт прямой ответ на скептические апории о возможности единой науки о сущем. Ответ заключается в том, что эта наука возможна не как энциклопедия всех фактов, а как наука о первых началах, организующих всё многообразие реальности и понятий.
Вернер Йегер (Werner Jaeger), «Aristotle: Fundamentals of the History of His Development»:
«Aristotle here boldly claims universal competence for the philosopher. This is not the boast of a polymath but the logical conclusion from the definition of first philosophy as the science of the first principles and causes. Since these are implied in every department of reality, the philosopher has the right and the duty to inquire into the fundamental presuppositions of any and every subject.»
Перевод: «Аристотель здесь смело заявляет о универсальной компетенции философа. Это не хвастовство эрудита, а логический вывод из определения первой философии как науки о первых принципах и причинах. Поскольку они имплицитно присутствуют в каждом разделе реальности, философ имеет право и обязанность исследовать фундаментальные предпосылки любого и всякого предмета.»
Комментарий: Йегер подчёркивает, что универсализм первой философии имеет не количественный, а качественный характер. Философ исследует не все факты, но самые общие структуры (причины и принципы), которые делают возможными любые факты в любой области.











