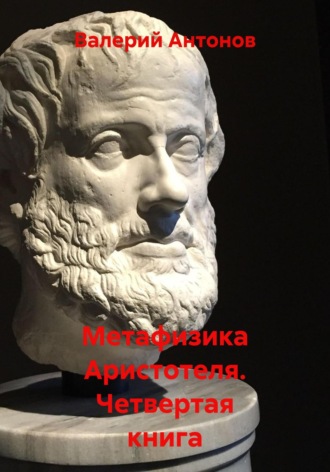
Полная версия
Метафизика Аристотеля. Четвертая книга
А. Ф. Лосев:
Лосев видит в этом пассаже утверждение верховенства философского знания над всеми другими. Конкретный пример с Сократом («Сократ» и «сидящий Сократ») – это отсылка к проблеме тождества и изменения, одной из фундаментальнейших онтологических апорий. Только философ, опирающийся на учение о категориях (сущность vs. свойство), может решить, является ли это различие онтологическим или лишь акцидентальным. Таким образом, философия выступает как «наука наук», не заменяя их, но обосновывая их исходные понятия.
В. П. Гайденко, «Научная рациональность и философский разум»:
В своих работах Гайденко обращает внимание на то, что Аристотель обосновывает метапредметный статус философии. Частные науки принимают свои предметы и методы как данность. Философия же ставит под вопрос сами эти исходные предпосылки любой науки: что такое тождество, различие, противоположность? Поэтому её право «исследовать всё» – это право на критическую рефлексию над основаниями любого знания. Это не вмешательство в компетенцию специалиста, а прояснение логико-онтологических условий возможности самой этой компетенции.
Оригинальный текст на древнегреческом и филологический комментарий
ὅτι μὲν οὖν τῆς αὐτῆς ἐπιστήμης καὶ τὸ εἶναι θεωρῆσαι καὶ τὰ εἰρημένα, καὶ ὅτι ταῦτα πάντ’ ἀνάγεται πρὸς τὸ πρῶτον, δῆλον· [20] λύοιμεν δ’ ἂν οὕτω τὰς ἀπορίας τὰς εἰωθυίας ἀπορεῖσθαι περὶ αὐτῶν· τοῦτο γὰρ ἦν τῶν μεταφυσικῶν ζητουμένων.
ἔστι δὲ τοῦ φιλοσόφου καὶ περὶ πάντων δύνασθαι θεωρεῖν. εἰ γὰρ μὴ τοῦ φιλοσόφου, τίς ἔσται ὁ ἐπισκεψάμενος εἰ ὁ αὐτὸς Σωκράτης καὶ Σωκράτης καθήμενος, ἢ ἑνὶ ἑν ἀντίκειται, ἢ τί ἐστιν ἀντίθεσις, ἢ ποσαχῶς λέγεται, καὶ τὰ ἄλλα τὰ τοιαῦτα;
Комментарий:
[20] «…δῆλον…» («…ясно…»)
Этим словом Аристотель подводит итог всему предшествующему сложному доказательству, длившемуся на протяжении всей главы. Он показал, что единство науки о сущем как таковом возможно благодаря отношению всех значений сущего к первому значению – сущности (πρὸς ἓν). Теперь это положение дел представляется не просто гипотезой, а доказанным и ясным (δῆλον) утверждением. (См.: Aristot. Metaph. 1004a31–34).
«…τὰς ἀπορίας τὰς εἰωθυίας ἀπορεῖσθαι περὶ αὐτῶν…» («…апорий, которые обычно возбуждались относительно них…»)
Аристотель прямо заявляет, что его рассуждение разрешает (λύοιμεν ἂν) традиционные затруднения. Речь идёт об апориях, изложенных в Книге 3 (Β) «Метафизики», в частности, о вопросе: «одной ли науке следует изучать все виды сущего?» (Аporia 1). Его ответ: да, одной, но не потому, что сущее – род, а потому, что все значения сущего отнесены к единому началу. (См.: Aristot. Metaph. 995b4–6, 996a18–b1).
«…εἰ ὁ αὐτὸς Σωκράτης καὶ Σωκράτης καθήμενος…» («…являются ли одним и тем же Сократ и сидящий Сократ…»)
Это классический пример, иллюстрирующий метафизический характер вопросов, которые должен решать философ. Вопрос касается тождества сущности (οὐσία – Сократ) и её акциденции (συμβεβηκός – сидящий). Частная наука (например, медицина) изучает тело Сократа, но не может решить, тождественен ли субъект своим случайным свойствам. Это фундаментальный онтологический вопрос, лежащий в основе любого познания. (См.: Aristot. Metaph. 1028a10–20; Cat. 1a24–b9).
[Предмет первой философии – свойства Сущего как такового (а не числа или огня)]Так как упомянутые выше [21] термины суть фундаментальные определения, относящиеся к Единому, поскольку оно Единое, и к Сущему, поскольку оно Сущее, а не поскольку оно есть число, линия или огонь, то из этого следует, что задачей данной науки [первой философии] является исследование как смысла этих терминов, так и свойств, им присущих.
Комментарии.
Альберт Швеглер (Albert Schwegler), «Die Metaphysik des Aristoteles» (1847–1848):
"Weil aber jene Begriffe (αἱ ἀρχαὶ καὶ αἱ αἰτίαι) die ersten Bestimmungen des Einen als Einen und des Seienden als Seienden sind, nicht insofern es Zahl oder Linie oder Feuer ist, so ergiebt sich, dass es Sache dieser Wissenschaft seyn müsse, sowohl das Was dieser Begriffe, als die ihnen zukommenden Eigenschaften zu erkennen."
Перевод: "Но поскольку те понятия (начала и причины) являются первыми определениями Единого как Единого и Сущего как Сущего, а не поскольку оно есть число, линия или огонь, то из этого следует, что задачей этой науки должно быть познание как что есть [сущность] этих понятий, так и свойств, им принадлжащих."
Комментарий: Швеглер акцентирует, что «упомянутые выше термины» – это именно «начала и причины» (αἱ ἀρχαὶ καὶ αἱ αἰτίαι), о которых Аристотель говорит в предыдущих главах. Он подчеркивает формально-логический аспект задачи первой философии: исследование quid sit (что есть?) этих начал.
Уильям Дэвид Росс (W. D. Ross), «Aristotle's Metaphysics» (1924):
"The primary axioms and causes are per se attributes of being qua being and one qua one, not of being qua number or one qua fire. Therefore it is the work of this science to study their essence and their properties."
Перевод: "Первые аксиомы и причины являются сами-по-себе-принадлежащими атрибутами сущего поскольку оно сущее, и единого поскольку оно единое, а не сущего поскольку оно число или единого поскольку оно огонь. Следовательно, задачей этой науки является изучение их сущности и их свойств."
Комментарий: Росс, один из самых авторитетных современных редакторов и комментаторов «Метафизики», использует термин «первые аксиомы», указывая на связь этого пассажа с учением о началах доказательства, которые также являются предметом первой философии.
Алексей Фёдорович Лосев (Из комментариев к переводу «Метафизики»):
Лосев видит в этом отрывке ключевое методологическое указание. Он пишет, что здесь Аристотель окончательно отделяет свою первую философию а) от частных наук, которые берут сущее в каком-то определенном аспекте (число – арифметика, линии – геометрия, огонь – физика), и б) от платоновского понимания единого как числа и идеи. Задача онтологии – изучать самые общие предикаты (свойства), которые высказываются о любой вещи, как только она является сущим, то есть изучать трансценденталии.
Дмитрий Владимирович Бугай (Исследователь античной философии):
Бугай обращает внимание на выражение «τὸ τί ἐστι» («что это есть», сущность) по отношению к самим принципам. Это означает, что первая философия должна не просто использовать эти принципы (например, закон противоречия), но и доказывать их первичность и необходимость, то есть обосновывать саму возможность своего знания. Она рефлексивна по своей природе.
Оригинальный текст на древнегреческом и филологический комментарий
ὅτι μὲν οὖν τοῦ ὄντος ᾗ ὂν καὶ τοῦ ἑνὸς ᾗ ἓν τὰ μάλιστα λεγόμενα καθόλου ἐστί, καὶ ὅτι ἀρχαὶ καὶ αἴτια ζητεῖται τούτων, δῆλον· [1005a]
[1005a] – Начало 2-й главы. Указание страницы по стандартному изданию Беккера (1831), принятому в международной практике.
ᾗ ὂν / ᾗ ἓν – Ключевая для Аристотеля конструкция «поскольку оно (есть)». Частица ᾗ (hēi) указывает на аспект рассмотрения, формальную причину. Это не часть сущего, а весь его объем, но взятый под определенным, чисто философским углом. Ср. с ῝Απαντα ᾗ ἀριθμὸς ὁρᾷ (Платон, «Государство», 522c) – «(Арифметика) рассматривает все поскольку (все есть) число». Аристотель противопоставляет свой подход платоновскому.
τὰ μάλιστα λεγόμενα καθόλου – «наиболее общим образом высказываемые (вещи/предикаты)». Речь идет о самых универсальных категориях и аксиомах, таких как «сущее», «единое», «тождественное», «различное», «противоположное» и др., которые применимы ко всему, что существует.
οὐχ ᾗ ἀριθμὸς ἢ γραμμαὶ ἢ πῦρ, ἀλλ’ ᾗ ὂν καὶ ᾗ ἓν τοιαῦτα δὴ λέγεται, [21] ὥστ’ ἐπίστασθαι τί ἐστι καὶ τὰ πάθη τὰ περὶ αὐτὸ ᾗ ὂν [22] ταύτης δὴ τῆς ἐπιστήμης ἔργον εἶναι σκοπεῖν.
[21] – οὐχ ᾗ ἀριθμὸς ἢ γραμμαὶ ἢ πῦρ – «не поскольку (оно есть) число, или линии, или огонь». Аристотель приводит конкретные примеры предметов частных наук: число – арифметика, линии – геометрия, огонь – физика (как одна из стихий). Первая философия абстрагируется от этой конкретики.
[22] – τί ἐστι καὶ τὰ πάθη τὰ περὶ αὐτὸ ᾗ ὂν – «что оно есть и свойственные ему состояния, поскольку оно сущее».
τί ἐστι (ti esti) – вопрос о сущности, определение. Философия должна дать определение самому «сущему как таковому».
τὰ πάθη (ta pathē) – букв. «претерпевания», «аффекты», «состояния». Здесь в техническом смысле – «свойства», «атрибуты», которые с необходимостью сопутствуют сущему как таковому (например, противоположность, возможность, действительность и т.д.).
Ошибка софистов и диалектиков – в непонимании первого.Поэтому если те, кто задает [22] вопросы об этом, ошибаются, то дело не в том, что они занимаются вопросами, не относящимися к философии, а в том, что они ничего не понимают в сущности, которая есть первое.
Аналогия: как числа и тела имеют свои свойства, так и Сущее имеет свои.
Подобно тому как число, в той мере, в какой оно есть число, обладает своими качествами и сущностными определениями, нечетностью и четностью, равенством и одинаковостью, избытком и недостатком, и поскольку эти качества принадлежат числам отчасти сами по себе, а отчасти по отношению друг к другу: Подобно тому как аналогичным образом твердое [23] тело, как неподвижное, так и движущееся, невесомое и весомое обладают другими особыми качествами, так и сущее как сущее имеет определенные специфические определения, и именно в отношении их философ должен исследовать истинное.
Отличное продолжение. Вот отредактированный текст и развернутый комментарий, следующий заданной структуре.
Отредактированный и исправленный текст Аристотеля (Метаф. IV, 2)
[Ошибка софистов и диалектиков – в непонимании первого.]Таким образом, если те, кто задает вопросы относительно этого [22], заблуждаются, то дело не в том, что они занимаются вопросами, не относящимися к философии, а в том, что они не понимают сущности, которая есть первое [и главное].
[Аналогия: как числа и тела имеют свои свойства, так и Сущее имеет свои.]Ведь подобно тому, как число, поскольку оно есть число, обладает определенными свойствами [πάθη] – например, нечетностью и четностью, соизмеримостью и равенством, избытком и недостатком, – и эти свойства присущи числам отчасти самим по себе, отчасти в их отношении друг к другу; и подобно тому как точно так же твердое тело [23] – будь то неподвижное или движущееся, не имеющее тяжести или имеющее ее – обладает другими особыми свойствами, – точно так же и сущее, поскольку оно сущее, имеет некоторые собственные свойства, и именно исследование истины относительно них и есть задача философа.
Комментарии.
Альберт Швеглер (Albert Schwegler), «Die Metaphysik des Aristoteles»:
"Wenn also Die, welche über jene Principien Fragen aufwerfen, in Irrthum gerathen, so kommt das nicht daher, dass ihre Fragen ausserhalb der Philosophie lägen, sondern davon, dass sie von der ersten und höchsten Substanz, um die es sich dabei handelt, keinen Begriff haben… Wie die Zahl als Zahl, der Körper als Körper gewisse Eigenschaften hat, so hat auch das Seiende als Seiendes gewisse Eigenschaften, und die Wahrheit in Betreff dieser Eigenschaften zu erforschen, ist die Aufgabe des Philosophen."
Перевод: "Если же те, кто задает вопросы об этих принципах, впадают в заблуждение, то происходит это не оттого, что их вопросы лежат вне философии, а оттого, что они не имеют понятия о первой и высшей сущности, о которой здесь идет речь… Как число как число, тело как тело имеют определенные свойства, так и сущее как сущее имеет определенные свойства, и исследовать истину относительно этих свойств – есть задача философа."
Комментарий: Швеглер четко идентифицирует «первое» (τὸ πρῶτον) с «первой и высшей сущностью» (die erste und höchste Substanz), подчеркивая онтологический, а не просто логический статус этого начала. Его комментарий связывает этот отрывок с учением о субстанции из книг VII и XII.
Томас Тейлор (Thomas Taylor), «The Metaphysics of Aristotle» (1801):
"The error of sophists and dialecticians arises from their ignorance of the first cause… For as number, so far as it is number, has certain passions, and body, so far as it is body, has certain other peculiarities; thus also being, so far as it is being, has certain specific peculiarities, and about these it is the province of the philosopher to investigate the truth."
Перевод: "Заблуждение софистов и диалектиков проистекает из их неведения о первой причине… Ибо как число, поскольку оно есть число, имеет определенные свойства, и тело, поскольку оно есть тело, имеет определенные другие особенности, – так же и сущее, поскольку оно есть сущее, имеет некоторые специфические особенности, и исследование истины о них есть область философа."
Комментарий: Тейлор, неоплатонически ориентированный комментатор, прямо называет «первое» «первой причиной», акцентируя теологический аспект первой философии у Аристотеля.
Алексей Фёдорович Лосев:
Лосев видит в этой аналогии фундаментальный методологический ход. Софисты и диалектики (под которыми часто понимаются платоники-пифагорейцы, сводящие все к числам) рассматривают свойства сущего (например, противоположности) в отрыве от их истинного, всеобщего субстрата – сущего как такового. Они применяют эти свойства к частным областям (числам, телам), не понимая их первичного и универсального характера. Аристотель же утверждает, что у самой реальности, взятой в ее предельной общности, есть свои собственные, трансцендентальные свойства, которые и являются предметом науки.
Дмитрий Владимирович Бугай:
Бугай обращает внимание на то, что Аристотель не просто констатирует ошибку софистов, но и признает, что формально их вопросы касаются предмета философии («вопросы не не относящиеся к философии»). Их вина – в отсутствии онтологического фундамента, в попытке строить рассуждение, минуя понимание первичной сущности сущего. Это критика метода, основанного на чистой речи (λόγος) без опоры на бытие (οὐσία).
Оригинальный текст на древнегреческом и филологический комментарий
ὥστ’ εἰ περὶ τούτων διαποροῦσιν οἱ ἐρωτῶντες, [22] ἁμαρτάνουσιν, οὐχ ᾗ φιλοσοφίας οὐκ οὔσης περὶ αὐτὰ ἀλλ’ ᾗ πρώτης οὐσίας ἄδηλον αὐτοῖς τὸ τί ἐστιν.
[22] – περὶ τούτων διαποροῦσιν οἱ ἐρωτῶντες – «затрудняются относительно этого те, кто задает вопросы». Речь идет о софистах и диалектиках, которые ставят под сомнение первые принципы (напр., закон противоречия), задавая каверзные вопросы (ἀπορίαι).
ᾗ πρώτης οὐσίας ἄδηλον αὐτοῖς τὸ τί ἐστιν – ключевая фраза: «поскольку им неясно, что есть [сущность] первой сущности». Слово οὐσία здесь можно понимать в двух смыслах: 1) как сущность (essence) самого принципа; 2) как субстанция (substance), то есть фундаментальная основа всего сущего, которой эти свойства принадлежат. Оба значения у Аристотеля тесно связаны. Это «первое» – основа, без понимания которой все рассуждения о свойствах сущего повисают в воздухе.
ὥσπερ γὰρ καὶ ἀριθμῷ ᾗ ἀριθμὸς ἴδια πάθη ἐστίν, οἷον ἀσύμμετρος σύμμετρος [23] ἴσος ἄνισος ὑπερόχη ἐλλειψις, καὶ τὰ μὲν καθ’ αὑτὰ τὰ δὲ πρὸς ἄλλους,
[23] – ἀσύμμετρος σύμμετρος – «несоизмеримое, соизмеримое». В математическом контексте это важнейшие свойства. Аристотель проводит точную аналогию: у каждой науки (арифметики, геометрии, физики) есть свой род subject matter (число, тело) и свои специфические свойства (πάθη), которые она изучает.
τὰ μὲν καθ’ αὑτὰ τὰ δὲ πρὸς ἄλλους – «одни – сами по себе, другие – по отношению к иным». Указание на два типа свойств: 1) внутренние, присущие предмету по его природе (напр., нечетность числа) и 2) относительные, проявляющиеся в отношении к другому (напр., равенство одного числа другому).
οὕτως καὶ κινητὸν ἀκίνητον ἔχον βάρος ἀβαρὲς τὰ μὲν καθ’ αὑτὰ τὰ δὲ πρὸς ἄλλους ἴδια πάθη ἐστίν: ὁμοίως δὲ καὶ τῷ ὄντι ᾗ ὂν ἔστι τινα ἴδια, καὶ περὶ τούτων τὸ ἀληθὲς ἐπισκέψασθαι τοῦ φιλοσόφου.
κινητὸν ἀκίνητον ἔχον βάρος ἀβαρὲς – «движущееся, неподвижное, имеющее тяжесть, не имеющее тяжести». Это свойства, которые изучает физика как наука о природных телах. Неподвижное, например, может относиться к абсолютно неподвижному первому двигателю, который тоже является предметом физики (философии природы) у Аристотеля.
καὶ περὶ τούτων τὸ ἀληθὲς ἐπισκέψασθαι τοῦ φιλοσόφου – «и именно относительно них [свойств сущего] исследовать истину – [задача] философа». Глагол ἐπισκέψασθαι означает внимательное, scrutinizing исследование, изучение с целью вынесения суждения. Это не пассивное наблюдение, а активный познавательный акт, подобающий философу.
[Софистика и диалектика – подражатели философии.]Об этом же свидетельствует и то [24], что диалектики и софисты, стремящиеся казаться философами (ибо софистика есть мудрость лишь по видимости, а диалектики рассуждают обо всем, а «все» и есть то, что обще для всего сущего), ведут свои рассуждения именно об этих вопросах, поскольку они относятся к философии по праву. [25] Хотя софистика и диалектика и вращаются в той же сфере, что и философия, однако философия отличается от диалектики мерой своей способности [к познанию], а от софистики – выбором жизненной цели. Диалектика лишь испытывает [на прочность] то, что философия познает с достоверностью, софистика же только кажется [философией], но не есть она на самом деле.
Комментарии.
Альберт Швеглер (Albert Schwegler), «Die Metaphysik des Aristoteles»:
"Dass aber die Dialektik und Sophistik sich mit demselben Gegenstande beschäftigen wie die Philosophie, beweist, dass jene Fragen eigentlich der Philosophie angehören. Denn die Sophistik ist eine nur scheinbare, die Dialektik eine allgemeine (weil das Seiende als Seiendes das Allgemeinste ist) Weisheit. Beide bewegen sich im Gebiete der Philosophie, aber die Philosophie unterscheidet sich von der Dialektik durch die grössere Kraft der Erkenntniss, von der Sophistik durch die Wahl der Lebensweise. Die Dialektik probirt nur, was die Philosophie weiss; die Sophistik hat nur den Schein der Weisheit, nicht die Sache."
Перевод: "То, что диалектика и софистика занимаются тем же предметом, что и философия, доказывает, что эти вопросы, собственно, принадлежат философии. Ибо софистика есть лишь кажущаяся, а диалектика – всеобщая (поскольку сущее как сущее есть всеобщее) мудрость. Обе движутся в области философии, но философия отличается от диалектики большей силой познания, от софистики – выбором образа жизни. Диалектика только пробует то, что философия знает; софистика имеет лишь видимость мудрости, а не саму вещь."
Комментарий: Швеглер точно улавливает различие по «силе познания» (Kraft der Erkenntniss) между философией и диалектикой. Он также подчеркивает, что общность предмета («все») является именно общностью сущего как такового.
Вернер Йегер (Werner Jaeger), «Aristoteles: Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung»:
"Aristotle here delimits his own metaphysics sharply from the Platonic dialectic on the one hand and from sophistry on the other. The former has the same formal object, being as such, but it remains in the sphere of the problematic and does not attain to apodictic science. The latter uses the same methods, but for a purpose foreign to science, that of appearance and victory in dispute."
Перевод: "Аристотель здесь четко отграничивает свою собственную метафизику, с одной стороны, от платоновской диалектики, а с другой – от софистики. Первая имеет тот же формальный объект, сущее как таковое, но остается в сфере проблематического и не достигает аподиктической [доказательной] науки. Вторая использует те же методы, но для цели, чуждой науке, – для создания видимости и победы в споре."
Комментарий: Йегер, рассматривающий «Метафизику» в developmental key, видит в этом пассаже полемику Аристотеля с его платоновским прошлым. Диалектика для него – это прежде всего платоновский метод, который Аристотель признает релевантным, но недостаточным.
Алексей Фёдорович Лосев:
Лосев акцентирует, что Аристотель здесь дает не просто описание, а онтологическую иерархию познавательных практик. Философия – это обладание истиной (ἐπιστήμη). Диалектика – это «испытание» (πειραστική), метод проб и ошибок, движущийся в сфере мнения (δόξα) и не могущий дать окончательного доказательства. Софистика – это не знание, а лишь способность к созданию иллюзии знания (δύναμις παρασκευαστική), подчиненная не истине, иной жизненной цели (προαίρεσις βίου) – например, славе или обогащению. Таким образом, различие проводится не по предмету, а по модусу его освоения и по конечной цели.
Дмитрий Владимирович Бугай:
Бугай обращает внимание на тонкость аристотелевской критики: он не изгоняет диалектику полностью, а отводит ей подчиненную, пропедевтическую роль. Диалектика полезна для «испытания» первых начал, которые недоказуемы прямым образом. Она помогает прояснить апории и подготовить почву для философского усмотрения (νοῦς). Софистика же не имеет никакой познавательной ценности, так как ее цель – не истина, а победа в споре любой ценой, что извращает саму природу logos'а.
Оригинальный текст на древнегреческом и филологический комментарий
σημεῖον δ’ [24] καὶ τὸ τοὺς διαλεκτικοὺς καὶ σοφιστὰς ὁμοίως τοῖς φιλοσόφοις αὐτὸ περιβεβλῆσθαι σχῆμα· ἡ μὲν γὰρ σοφιστικὴ φαινομένη σοφία ἐστὶ μόνον, οἱ δὲ διαλεκτικοὶ διαλέγονται περὶ ἁπάντων, καὶ κοινὸν ἁπάντων τὸ ὄν ἐστιν,
[24] – σημεῖον δ’ καὶ τὸ… – «Признаком же [этого] является и то, что…». Аристотель переходит к новому доказательству своего тезиса о предмете философии, указывая на то, что даже ее имитаторы вынуждены заниматься тем же кругом вопросов.
αὐτὸ περιβεβλῆσθαι σχῆμα – «облекаются в ту же самую внешность/форму». Идиома, означающая «принимают тот же вид, создают видимость».
κοινὸν ἁπάντων τὸ ὄν ἐστιν – «сущее есть общее для всего». Это ключевая мысль: поскольку все, о чем можно рассуждать, есть нечто сущее, то общим предметом для всех споров оказываются свойства самого сущего. Диалектик, рассуждая о чем угодно, волей-неволей затрагивает предмет философии.
περὶ γὰρ ταῦτα διαλέγονται, καὶ δῆλον ὡς διὰ ταῦτα περὶ αὐτὰ ἡ διατριβὴ αὐτοῖς ἐστιν. [25] ἀλλ’ αὕτη μὲν περὶ ταὐτὰ τῇ φιλοσοφίᾳ ἐστίν, διίσταται δὲ τῆς μὲν διαλεκτικῆς τῇ δυνάμει, τῆς δὲ σοφιστικῆς τῇ τοῦ βίου προαιρέσει.
[25] – ἀλλ’ αὕτη μὲν περὶ ταὐτὰ τῇ φιλοσοφίᾳ ἐστίν – «Но она [софистика] движется в круге тех же [предметов], что и философия». Местоимение αὕτη относится к софистике, упомянутой последней. Обе – и софистика, и диалектика – имеют тот же предмет.
τῇ δυνάμει – «по способности/силе/потенции». Речь идет о различной познавательной мощи. Философия – это реализованная способность к знанию (ἑξις), обладание истиной. Диалектика – это лишь потенция (δύναμις) к исследованию, не обретающая окончательной формы.
τῇ τοῦ βίου προαιρέσει – «выбором жизненной цели/направления жизни». Προαίρεσις – фундаментальное аристотелевское этическое понятие, обозначающее сознательный и обдуманный выбор, определяющий характер деятельности. Это различие лежит уже не в гносеологической, а в этической плоскости.
ἡ μὲν γὰρ διαλεκτικὴ πειραστικὴ ἐστὶ περὶ ὧν ἡ φιλοσοφία γνωριστική, ἡ δὲ σοφιστικὴ φαινομένη μόνον, οὖσα δ’ οὔ.
πειραστικὴ… γνωριστική – «является испытующей… [в то время как философия] является познающей». Πειραστική (от πειράω – пробовать, испытывать) – это искусство проверки и постановки вопросов. Γνωριστική (от γνῶσις – знание) – это способность к положительному, достоверному познанию.
φαινομένη μόνον, οὖσα δ’ οὔ – классическая аристотелевская формула для обозначения кажимости, лишенной онтологической основы: «[софистика есть] лишь кажущаяся [мудрость], но по сути не являющаяся ею».
[Софистика и диалектика – подражатели философии.]Об этом же свидетельствует и то [24], что диалектики и софисты, стремящиеся казаться философами (ибо софистика есть мудрость лишь по видимости, а диалектики рассуждают обо всем, а «все» и есть то, что обще для всего сущего), ведут свои рассуждения именно об этих вопросах, поскольку они относятся к философии по праву. [25] Хотя софистика и диалектика и вращаются в той же сфере, что и философия, однако философия отличается от диалектики мерой своей способности [к познанию], а от софистики – выбором жизненной цели. Диалектика лишь испытывает [на прочность] то, что философия познает с достоверностью, софистика же только кажется [философией], но не есть она на самом деле.
Комментарии.
Альберт Швеглер (Albert Schwegler), «Die Metaphysik des Aristoteles»:
"Dass aber die Dialektik und Sophistik sich mit demselben Gegenstande beschäftigen wie die Philosophie, beweist, dass jene Fragen eigentlich der Philosophie angehören. Denn die Sophistik ist eine nur scheinbare, die Dialektik eine allgemeine (weil das Seiende als Seiendes das Allgemeinste ist) Weisheit. Beide bewegen sich im Gebiete der Philosophie, aber die Philosophie unterscheidet sich von der Dialektik durch die grössere Kraft der Erkenntniss, von der Sophistik durch die Wahl der Lebensweise. Die Dialektik probirt nur, was die Philosophie weiss; die Sophistik hat nur den Schein der Weisheit, nicht die Sache."











