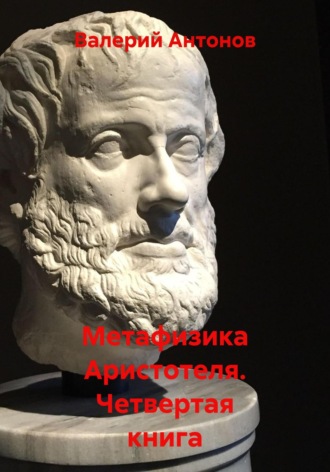
Полная версия
Метафизика Аристотеля. Четвертая книга
Онтологический аргумент: Сущее и единое не разделяются (οὐ χωρίζεται) в процессах возникновения и уничтожения. Вещь не может возникнуть как сущее, но не как единое, или исчезнуть как единое, но остаться сущим. Их бытийный статус тождественен. Это доказывает, что мы имеем дело не с двумя разными сущностями, а с двумя аспектами одной и той же реальности.
[10] Критика отдельно существующего Единого и Сущего: Это culminatio – кульминация аргументации. Аристотель делает радикальный онтологический вывод:
Сущность каждой вещи едина (ἡ οὐσία ἑκάστου ἑνός ἐστιν): Подлинное единство вещи проистекает не из причастности к некому трансцендентному «Единому», а из её собственной формы, которая и есть её сущность (οὐσία). Форма делает вещь тем, что она есть, и тем самым делает её единой.
Нет «просто Единого» или «просто Сущего» (οὐκ ἄλλο τί ἐστιν ἁπλῶς ἓν καὶ ὄν): Это прямое отрицание платоновской теории идей. Единое и Сущее не являются самостоятельными сущностями (отдельными идеями), существующими помимо отдельных чувственных вещей. Они существуют только как атрибуты, модусы или функции конкретных сущностей.
Таким образом, тождество сущего и единого означает, что быть – значит быть чем-то одним, определённым, а быть одним – значит быть чем-то сущим, обладающим внутренней определённостью. Это фундаментальный принцип аристотелевской онтологии. (См. Arist. Met. IV.2, 1003b22-1004a9; Ross, W. D. Aristotle's Metaphysics. Vol. I. P. 256-259; Aubenque, P. Le problème de l'être chez Aristote. P. 180-183).
Задача первой науки – исследование видов Единого (тождественного, подобного и т.д.).Отсюда следует, что сущее имеет столько же видов, сколько и единое, и исследовать эти виды единого, например, тождественное, подобное и т. д., в соответствии с тем, что они собой представляют, – вот задача общей науки.
Ὥστε καθ᾿ ὅσας διαιρέσεις τοῦ ἑνός, τοσαύτας καὶ τοῦ ὄντος· […] Διὸ περὶ τούτων θεωρῆσαι ᾗ τοιαδὶ περὶ τοῦ ὄντος ᾗ ὂν θεωροῦντος ἐστὶν ἐπιστήμης ἑνός.
Комментарий Альберта Швеглера (Die Metaphysik des Aristoteles, 1847):
Оригинал: "Die Wissenschaft vom Seienden als Seienden erstreckt sich also notwendig auch auf alle diese Attribute, welche aus der Korrelation von Einem und Vielem fließen. Sie hat nicht nur die Substanz, sondern auch ihre notwendigen Begleiterscheinungen zu untersuchen: Identität und Verschiedenheit, Ähnlichkeit und Unähnlichkeit, Gleichheit und Ungleichheit, ja selbst die Gegensätze wie Ruhe und Bewegung."
Перевод: "Таким образом, наука о сущем как о сущем необходимо распространяется и на все эти атрибуты, которые вытекают из корреляции Единого и Многого. Она должна исследовать не только субстанцию, но и её необходимые сопутствующие явления: тождество и различие, подобие и неподобие, равенство и неравенство, да даже сами противоположности, как покой и движение."
Пояснение: Швеглер показывает, как из фундаментального тождества вытекает широта предметного поля первой философии. Она не ограничивается сухим изучением «бытия», но охватывает весь спектр самых общих определений сущего, коренящихся в его структуре.
12. Почти все противоположности сводятся к этому принципу [Единое и его противоположность], о чем достаточно сказать в наших замечаниях в «Выборе противоположностей».
σχεδὸν δὲ καὶ πᾶσαι αἱ ἀντικείμεναι ἀναγωγαὶ εἰς ταύτην τὴν ἀρχήν εἰσιν· […] ἱκανῶς δὲ διωρίσθω ἡμῖν ἐν τῇ ἐκλογῇ τῶν ἐναντίων.
Комментарий В. И. Лосева (из работ о диалектике Аристотеля):
«Здесь Аристотель формулирует, возможно, самый глубокий диалектический принцип своей метафизики. Пара «единое—многое» объявляется им архэ (ἀρχή), то есть первоначалом, к которому сводятся (ἀναγωγαί) почти все прочие противоположности. Тождественное и иное, подобное и неподобное, равное и неравное, покой и движение – все они суть модусы, проявления, конкретные виды фундаментального отношения между единством и множественностью. Таким образом, первая философия становится наукой о первоначалах и высших противоположностях всего сущего».
Комментарий Д. В. Бугая (из лекций по античной философии):
«Упоминание труда «Выбор противоположностей» (ἐκλογὴ τῶν ἐναντίων) крайне важно. Оно указывает на то, что учение о противоположностях было у Аристотеля разработано не только в «Метафизике», но и в специальном, возможно, более раннем сочинении, которое служило методологической базой. Это был своего словарь-классификатор основных философских понятий, построенный по принципу парных категорий. Констатация того, что все они сводятся к единому-многому, является итогом этой классификационной работы и окончательным обоснованием единства самой науки метафизики».
Оригинальный древнегреческий текст (согласно стандартной нумерации Беккера).
[1004a 25] Ὥστε καθ᾿ ὅσας διαιρέσεις τοῦ ἑνός, τοσαύτας καὶ τοῦ ὄντος· […] [1004b 10] Διὸ περὶ τούτων θεωρῆσαι ᾗ τοιαδὶ περὶ τοῦ ὄντος ᾗ ὂν θεωροῦντος ἐστὶν ἐπιστήμης ἑνός.
[Таким образом, на сколько [есть] разделений единого, на столько же и сущего; […] Поэтому исследовать эти [вещи] – поскольку они таковы – [дело] одной науки с тем, кто рассматривает сущее как сущее.]
[1004b 27] σχεδὸν δὲ καὶ πᾶσαι αἱ ἀντικείμεναι ἀναγωγαὶ εἰς ταύτην τὴν ἀρχήν εἰσιν· […] [1005a 2] ἱκανῶς δὲ διωρίσθω ἡμῖν ἐν τῇ ἐκλογῇ τῶν ἐναντίων.
[Пожалуй, и все противоположности сводятся к этому началу; […] Но достаточно пусть будет разграничено у нас в «Выборе противоположностей».]
Разъяснения по пунктам.
[11] Предметная область первой науки: Этот пункт является прямым следствием из доказанного тождества. Поскольку:
Сущее и единое тождественны по природе.
Их виды находятся в отношении взаимного соответствия (ἀντιστοιχεῖ).
Следовательно, исследование видов единого есть неотъемлемая часть исследования сущего как такового.
Поэтому первая философия обязана изучать такие «виды единого» (или, что то же самое, «атрибуты сущего» – τὰ συμβεβηκότα τῷ ὄντι), как:
Тождественное (ταὐτὸ) и Иное (θάτερον) – модусы единства и различия по сущности.
Подобное (ὅμοιον) и Неподобное (ἀνόμοιον) – модусы единства и различия по качеству.
Равное (ἴσον) и Неравное (ἄνισον) – модусы единства и различия по количеству.
Это программное заявление для содержания последующих книг «Метафизики». (См. Arist. Met. IV.2, 1004a25-b10; Ross, W. D. Aristotle's Metaphysics. Vol. I. P. 259-260).
[12] Принцип сведения противоположностей: Здесь Аристотель делает ещё более смелое заявление, выходящее за рамки онтологии в область общей методологии познания. Он утверждает, что пара «Единое—Многое» является первоначалом (ἀρχή), к которому могут быть сведены (ἀναγωγαί) почти все остальные противоположности.
Это означает, что отношение единства и множественности является:
Наиболее фундаментальным и охватывающим все категории сущего.
Объяснительным принципом для других пар: например, «покой» можно понять как единство и тождественность себе во времени, а «движение» – как множественность и инаковость состояний.
Основой для систематизации всего философского знания, что и было проделано в утраченном труде «Выбор противоположностей» (ἐκλογὴ τῶν ἐναντίων). Этот труд, вероятно, был своего рода таблицей категорий, показывающей их взаимосвязь и иерархию.
Таким образом, глава завершается grand conclusion: первая философия – это не только наука о сущем как сущем, но и наука о первых началах и высших противоположностях, коренящихся в диалектике Единого и Многого. (См. Arist. Met. IV.2, 1004b27-1005a2; Reale, G. The Concept of First Philosophy and the Unity of the Metaphysics of Aristotle. P. 95-100).
Философия, как и математика, имеет свои части (первая и вторая философия).
Поскольку существует множество частей философии, соответствующих различным родам сущего [12], то с необходимостью должна существовать первая философия и следующая за ней вторая. Ведь «единое» и «сущее» сразу же разделяются на различные роды [13], и поэтому науки должны следовать этому разделению. Таким же образом обстоит дело и с математикой: она также имеет свои части, и существует некая первая математическая наука, и вторая, и последующие за ними.
Комментарии.
Альберт Швеглер (Albert Schwegler), «Die Metaphysik des Aristoteles» (1847–1848):
«So viele Arten des Seins, so viele Theile der Philosophie. Die Philosophie zerfällt also in so viele besondere Wissenschaften, als es Gattungen des Seienden giebt. Und da die Gattungen in einer gewissen Ordnung und Stufenfolge stehen, so muss es auch eine erste und eine zweite Philosophie u.s.w. geben.»
Перевод: «Сколько видов сущего, столько и частей философии. Таким образом, философия распадается на столько отдельных наук, сколько существует родов сущего. И поскольку эти роды находятся в определённом порядке и последовательности, то должна существовать и первая, и вторая философия, и так далее.»
Комментарий: Швеглер акцентирует онтологический принцип классификации: структура бытия (роды сущего) непосредственно определяет структуру науки о нём (философии). Иерархия в бытии влечёт за собой иерархию в познании.
Владислав Татаркевич (Władysław Tatarkiewicz), «History of Philosophy»:
«Metaphysics is the science of being qua being… But being is not a genus, and so it is not the subject of one science. Aristotle therefore distinguishes as many branches of philosophy as there are kinds of being.»
Перевод: «Метафизика – это наука о сущем как таковом… Но сущее не есть род, и поэтому оно не является предметом одной науки. Следовательно, Аристотель выделяет столько разделов философии, сколько существует видов сущего.»
Комментарий: Татаркевич указывает на ключевую апорию, которую разрешает Аристотель: сущее не является единым родом (как, например, «животное»), а потому не может быть предметом одной-единственной науки. Решение – в разделении философии на части по аналогии с родами.
Алексей Фёдорович Лосев:
В своих комментариях к «Метафизике» Лосев подчёркивает, что учение Аристотеля о частях философии вытекает из его диалектики единого и многого. «Единое» (τὸ ἕν) и «Сущее» (τὸ ὄν) являются взаимопереходящими и взаимнообусловливающими началами. Их расчленение на роды (γένη) есть необходимое условие для возможности научного знания, которое всегда имеет дело с определённым родом предметов. Таким образом, первая философия – это наука о первом роде сущего, о сущности (οὐσία) как таковой, в то время как вторая философия (физика) изучает сущее в его становлении и движении.
Дмитрий Владимирович Бугай:
В работе «Проблема начала науки у Аристотеля» Бугай отмечает, что аналогия с математикой здесь не случайна. Математика для Аристотеля – образец строгой, доказательной науки (ἐπιστήμη). Утверждая, что философия устроена так же, как и математика, Стагирит обосновывает право метафизики на статус строгой науки со своей собственной, чётко определённой предметной областью и иерархией частей. Это противопоставление диффузному и всеобъемлющему пониманию мудрости у досократиков.
Оригинальный текст на древнегреческом и филологический комментарий
Ἐπεὶ δὲ καθ᾽ αὑτὸ τὸ ὂν καὶ τὸ ἓν λέγεται, τῶν μὲν δὴ ἄλλων ἀφωρισμένων τινῶν ὄντων (οἷον ἀριθμὸς καὶ γραμμὴ καὶ πῦρ), σκεπτέον περὶ αὐτοῦ λέγοντας τί ἐστιν, εἴπερ ἐστὶν ἡ φιλοσοφία περὶ τοῦ ὄντος ᾗ ὄν. [11] ἀλλὰ μὴν εἰπερ ἐστὶ γένη τὰ ὄντα καὶ τὸ ἓν (ὥσπερ καὶ ἀριθμὸς καὶ γραμμὴ καὶ πῦρ), ἀνάγκη εἶναι πρώτην τινα φιλοσοφίαν καὶ δευτέραν, καὶ τοσαύτας ὅσαι αἱ οὐσίαι. [12] ἐπεὶ γὰρ τὸ ἓν λέγεται πολλαχῶς, ἀνάγκη καὶ τὰ γένη ἀκολουθεῖν τοῖς εἴδεσιν· διὸ καὶ ἐπιστῆμαι τοσαῦται ἔσονται ὅσαι αἱ οὐσίαι.
Комментарий:
[12] «…ἀνάγκη εἶναι πρώτην τινα φιλοσοφίαν καὶ δευτέραν…» («…с необходимостью должна существовать некая первая философия и вторая…»)
«πρώτην… φιλοσοφίαν» – здесь впервые в тексте «Метафизики» явным образом вводится термин «первая философия», который впоследствии станет синонимом метафизики как науки о неподвижных и неизменных сущностях, существующих отдельно от материи. Противопоставляется «δευτέρα» – второй философии, которой является физика, изучающая сущее, способное к движению (τὰ κινούμενα). (См.: Aristot. Metaph. 1026a16–19; 1064a28–b3).
[13] «…ἐπεὶ γὰρ τὸ ἓν λέγεται πολλαχῶς…» («…поскольку "единое" говорится во многих смыслах…»)
Это отсылка к фундаментальному для Аристотеля принципу πρὸς ἓν λέγεσθαι (высказываться относительно одного) или ὁμωνυμία (омонимии). «Сущее» и «Единое» не являются унивокальными понятиями (имеющими один смысл), но и не омонимичны (совершенно разные). Они – «ἁπλῶς» (просто, безоговорочно) применимы к первичной сущности (οὐσία), а ко всему остальному (качествам, количествам и т.д.) – лишь производным образом, через отнесение к этой сущности. Поэтому роды сущего (γένη) и соответствующие им науки выстраиваются в иерархию, отражающую эту смысловую связь с первичным. (См.: Aristot. Metaph. 1003a33–b5; 1053b10–15).
Одна наука изучает противоположности, отрицание и лишение.Одна наука должна исследовать противоположности. А поскольку противоположностью Единому является Многое, то исследование и этой противоположности также принадлежит одной науке. [13] И той же самой науке надлежит изучать отрицание и лишение, ибо в обоих случаях мы имеем дело с чем-то одним: в первом случае – с тем, что отрицается, а во втором – с тем субъектом, которому что-то недостаёт. [Изучается] именно простое лишение, которое утверждается на том основании, что некое свойство [14] отсутствует у определённой вещи или даже у целого рода. При этом в отрицании «Единое» (или утверждаемое) прямо противопоставляется его отрицанию (ведь отрицание чего-либо и есть отсутствие этого чего-либо). В случае же лишения, напротив, присутствует некая underlying substrate (ὑποκείμενον), некая природа, о которой и сказывается лишённость [15].
Комментарии.
Альберт Швеглер (Albert Schwegler), «Die Metaphysik des Aristoteles» (1847–1848):
«Die Wissenschaft vom Seenden als solchem muss auch von den dem Sein entgegengesetzten Bestimmungen handeln, also vom Nichtseienden, und zwar sowohl von der privation als der negation. Beide setzen ein Substrat voraus, von dem sie ausgesagt werden…»
Перевод: «Наука о сущем как таковом должна также заниматься противоположными сущему определениями, то есть не-сущим, причём как лишением (privation), так и отрицанием (negation). Оба [понятия] предполагают некий лежащий в основе субстрат (Substrat), о котором они высказываются…»
Комментарий: Швеглер точно улавливает онтологический смысл аргумента Аристотеля: не-сущее (τὸ μὴ ὄν) не существует само по себе, а всегда является отрицанием или лишением чего-то сущего. Поэтому наука о сущем должна охватывать и его противоположность.
Джозеф Оуэнс (Joseph Owens), «The Doctrine of Being in the Aristotelian Metaphysics»:
«The study of negation and privation belongs to the same science that studies the positive. For they both imply a reference to one and the same nature. In the case of negation, the reference is to the thing denied. In privation, it is to the subject in which the privation is found.»
Перевод: «Изучение отрицания и лишения принадлежит той же науке, что изучает положительное [начало]. Ибо оба они подразумевают отсылку к одной и той же природе. В случае отрицания отсылка идёт к отрицаемой вещи. В случае лишения – к субъекту, в котором обнаруживается лишённость.»
Комментарий: Оуэнс проясняет логику Аристотеля, показывая, что единство науки обеспечивается не самими по себе отрицанием и лишением, а их отнесённостью к чему-то единому и положительному (сущему), которое является их фундаментом и условием возможности.
Алексей Фёдорович Лосев:
Лосев, комментируя этот отрывок, видит в нём проявление диалектического метода Аристотеля. Философ не отбрасывает противоположность, а включает её в сферу исследования первой философии, поскольку истинное познание вещи возможно только через понимание её во всей полноте её определений, включая то, чем она не является. Лишение (στέρησις) понимается им не как чистое ничто, а как активный принцип отсутствия надлежащей формы в определённом субстрате (например, слепота как лишение зрения у живого существа, а не у камня). Это онтологическая категория, а не просто логическая.
Дмитрий Владимирович Бугай:
Бугай акцентирует различие, которое проводит Аристотель между логическим оператором отрицания (ἀπόφασις) и онтологической категорией лишения (στέρησις). Отрицание («Сократ не бледный») относится к сфере высказываний и может быть применено к чему угодно. Лишение же («Сократ слеп») всегда implies наличие определённого субъекта, который по своей природе должен обладать данным свойством, но лишён его. Именно потому, что и то, и другое отсылает нас к чему-то сущему (к субъекту высказывания или к субстрату), их изучение входит в компетенцию науки о сущем.
Оригинальный текст на древнегреческом и филологический комментарий
ἓν δὲ γένος εἶναι συμβαίνει τὸ τῶν ἀντικειμένων, καὶ ταῦτα ἐπιστήμης μιᾶς θεωρητέα πάντα, [13] τῇ αὐτῇ δὲ καὶ τὰς ἀποφάσεις (ἀεὶ γὰρ περὶ ἐκεῖνό ἐστιν οὗ ἡ ἀπόφασις· ἡ μὲν γὰρ τοῦ ἑνὸς ἀπόφασις ἢ περὶ τὸ ἓν σκεπτέον, ὅτι περὶ ἓν τι γένος ἡ σκέψις καὶ μία τίς ἐστιν ἐπιστήμη παντὸς γένους), [14] ἔστι δ’ ἡ στέρησις ἀπόφασίς τις ἀπὸ τινὸς ὡρισμένου γένους (διὸ τῆς αὐτῆς πάντων ἐστὶ θεωρῆσαι, καὶ τῶν ἀντικειμένων, εἴτε ᾗ ἀντίθεσις εἴτε ᾗ στέρησις ἢ ἀπόφασις λέγεται)· [15] ἐν μὲν γὰρ τῇ ἀποφάσει ἀντίκειται αὐτὸ ἀπλῶς, οἷον τὸ μὴ εἶναι λευκὸν τῷ εἶναι λευκόν, ἐν δὲ τῇ στερήσει περὶ ὃ λέγεται ἡ στέρησις ὑπάρχει τις φύσις, ἀφ’ ἧς λέγεται ἡ στέρησις.
Комментарий:
[13] «…ἡ μὲν γὰρ τοῦ ἑνὸς ἀπόφασις… περὶ ἓν τι γένος…» («…ибо отрицание единого… относится к некоему одному роду…»)
Ключевой аргумент Аристотеля: отрицание всегда является отрицанием чего-то определённого (περὶ ἐκεῖνό ἐστιν). Отрицание «не-единое» осмысленно только потому, что есть положительное понятие «единое». Таким образом, наука, изучающая «единое» (как атрибут сущего), по праву должна изучать и его отрицание, так как оно полностью зависит от своего положительного коррелята. (См.: Aristot. Metaph. 1004a12–16).
[14] «…ἡ στέρησις ἀπόφασίς τις ἀπὸ τινὸς ὡρισμένου γένους…» («…лишение есть некое отрицание от некоего определённого рода…»)
Здесь Аристотель даёт точное определение лишения (στέρησις), отличая его от простого логического отрицания (ἀπόφασις). Лишение – это не просто отрицание, а отрицание от определённого рода (ἀπὸ τινὸς ὡρισμένου γένους). То есть, оно предполагает, что у субъекта отсутствует свойство, которое естественно для него иметь (напр., «слепота» – это лишение зрения у животного, но не у растения или камня). (См.: Aristot. Metaph. 1004a13–15; Cat. 12a26–35).
[15] «…ἐν δὲ τῇ στερήσει περὶ ὃ λέγεται ἡ στέρησις ὑπάρχει τις φύσις…» («…в лишении же [есть] некая природа, о которой говорится лишённость…»)
Это прямое указание на ὑποκείμενον (substrate, подлежащее). В случае лишения мы всегда имеем дело с некой сущностью (φύσις), которая служит основой для атрибуции лишённости. Это онтологизирует понятие лишения, делая его не просто логическим, а категорией бытия. Противопоставление «природа / отсутствие природы» является предметом изучения первой философии. (См.: Aristot. Metaph. 1004b24–27).
Все противоположности сводятся к отношению Единого и Многого.Одна наука должна исследовать противоположности. А поскольку противоположностью Единому является Многое, то исследование и этой противоположности также принадлежит одной науке. [13] И той же самой науке надлежит изучать отрицание и лишение, ибо в обоих случаях мы имеем дело с чем-то одним: в первом случае – с тем, что отрицается, а во втором – с тем субъектом, которому что-то недостаёт. [Изучается] именно простое лишение, которое утверждается на том основании, что некое свойство [14] отсутствует у определённой вещи или даже у целого рода. При этом в отрицании «Единое» (или утверждаемое) прямо противопоставляется его отрицанию (ведь отрицание чего-либо и есть отсутствие этого чего-либо). В случае же лишения, напротив, присутствует некая underlying substrate (ὑποκείμενον), некая природа, о которой и сказывается лишённость [15].
Комментарии.
Альберт Швеглер (Albert Schwegler), «Die Metaphysik des Aristoteles» (1847–1848):
«Die Wissenschaft vom Seenden als solchem muss auch von den dem Sein entgegengesetzten Bestimmungen handeln, also vom Nichtseienden, und zwar sowohl von der privation als der negation. Beide setzen ein Substrat voraus, von dem sie ausgesagt werden…»
Перевод: «Наука о сущем как таковом должна также заниматься противоположными сущему определениями, то есть не-сущим, причём как лишением (privation), так и отрицанием (negation). Оба [понятия] предполагают некий лежащий в основе субстрат (Substrat), о котором они высказываются…»
Комментарий: Швеглер точно улавливает онтологический смысл аргумента Аристотеля: не-сущее (τὸ μὴ ὄν) не существует само по себе, а всегда является отрицанием или лишением чего-то сущего. Поэтому наука о сущем должна охватывать и его противоположность.
Джозеф Оуэнс (Joseph Owens), «The Doctrine of Being in the Aristotelian Metaphysics»:
«The study of negation and privation belongs to the same science that studies the positive. For they both imply a reference to one and the same nature. In the case of negation, the reference is to the thing denied. In privation, it is to the subject in which the privation is found.»
Перевод: «Изучение отрицания и лишения принадлежит той же науке, что изучает положительное [начало]. Ибо оба они подразумевают отсылку к одной и той же природе. В случае отрицания отсылка идёт к отрицаемой вещи. В случае лишения – к субъекту, в котором обнаруживается лишённость.»
Комментарий: Оуэнс проясняет логику Аристотеля, показывая, что единство науки обеспечивается не самими по себе отрицанием и лишением, а их отнесённостью к чему-то единому и положительному (сущему), которое является их фундаментом и условием возможности.
Алексей Фёдорович Лосев:
Лосев, комментируя этот отрывок, видит в нём проявление диалектического метода Аристотеля. Философ не отбрасывает противоположность, а включает её в сферу исследования первой философии, поскольку истинное познание вещи возможно только через понимание её во всей полноте её определений, включая то, чем она не является. Лишение (στέρησις) понимается им не как чистое ничто, а как активный принцип отсутствия надлежащей формы в определённом субстрате (например, слепота как лишение зрения у живого существа, а не у камня). Это онтологическая категория, а не просто логическая.
Дмитрий Владимирович Бугай:
Бугай акцентирует различие, которое проводит Аристотель между логическим оператором отрицания (ἀπόφασις) и онтологической категорией лишения (στέρησις). Отрицание («Сократ не бледный») относится к сфере высказываний и может быть применено к чему угодно. Лишение же («Сократ слеп») всегда implies наличие определённого субъекта, который по своей природе должен обладать данным свойством, но лишён его. Именно потому, что и то, и другое отсылает нас к чему-то сущему (к субъекту высказывания или к субстрату), их изучение входит в компетенцию науки о сущем.
Оригинальный текст на древнегреческом и филологический комментарий
ἓν δὲ γένος εἶναι συμβαίνει τὸ τῶν ἀντικειμένων, καὶ ταῦτα ἐπιστήμης μιᾶς θεωρητέα πάντα, [13] τῇ αὐτῇ δὲ καὶ τὰς ἀποφάσεις (ἀεὶ γὰρ περὶ ἐκεῖνό ἐστιν οὗ ἡ ἀπόφασις· ἡ μὲν γὰρ τοῦ ἑνὸς ἀπόφασις ἢ περὶ τὸ ἓν σκεπτέον, ὅτι περὶ ἓν τι γένος ἡ σκέψις καὶ μία τίς ἐστιν ἐπιστήμη παντὸς γένους), [14] ἔστι δ’ ἡ στέρησις ἀπόφασίς τις ἀπὸ τινὸς ὡρισμένου γένους (διὸ τῆς αὐτῆς πάντων ἐστὶ θεωρῆσαι, καὶ τῶν ἀντικειμένων, εἴτε ᾗ ἀντίθεσις εἴτε ᾗ στέρησις ἢ ἀπόφασις λέγεται)· [15] ἐν μὲν γὰρ τῇ ἀποφάσει ἀντίκειται αὐτὸ ἀπλῶς, οἷον τὸ μὴ εἶναι λευκὸν τῷ εἶναι λευκόν, ἐν δὲ τῇ στερήσει περὶ ὃ λέγεται ἡ στέρησις ὑπάρχει τις φύσις, ἀφ’ ἧς λέγεται ἡ στέρησις.
Комментарий:
[13] «…ἡ μὲν γὰρ τοῦ ἑνὸς ἀπόφασις… περὶ ἓν τι γένος…» («…ибо отрицание единого… относится к некоему одному роду…»)
Ключевой аргумент Аристотеля: отрицание всегда является отрицанием чего-то определённого (περὶ ἐκεῖνό ἐστιν). Отрицание «не-единое» осмысленно только потому, что есть положительное понятие «единое». Таким образом, наука, изучающая «единое» (как атрибут сущего), по праву должна изучать и его отрицание, так как оно полностью зависит от своего положительного коррелята. (См.: Aristot. Metaph. 1004a12–16).
[14] «…ἡ στέρησις ἀπόφασίς τις ἀπὸ τινὸς ὡρισμένου γένους…» («…лишение есть некое отрицание от некоего определённого рода…»)
Здесь Аристотель даёт точное определение лишения (στέρησις), отличая его от простого логического отрицания (ἀπόφασις). Лишение – это не просто отрицание, а отрицание от определённого рода (ἀπὸ τινὸς ὡρισμένου γένους). То есть, оно предполагает, что у субъекта отсутствует свойство, которое естественно для него иметь (напр., «слепота» – это лишение зрения у животного, но не у растения или камня). (См.: Aristot. Metaph. 1004a13–15; Cat. 12a26–35).











