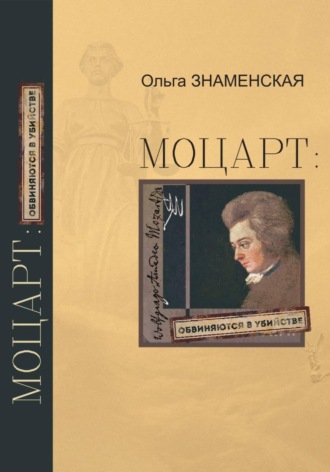
Полная версия
Моцарт: обвиняются в убийстве
Судья пожевал губами: «Никакой ртути!» – и продолжил чтение.
«В воскресенье Вольфганг, наконец, пропотел. Вскоре к нам зашёл врач графини Цинцендорф и констатировал скарлатину <…>. Он прописал микстуру:
Aquae Scabiosae uncias duas
Pulveris Epileptici Marchandi scrupula dua
Specierum Diatragacanthae granaquindecim
Pugilla Herbae Jst
Syrupi Diacodion L. unciam semis».
Как разъяснял далее доктор Кернер, эта микстура, а также Марграфпульвер представляли собой безобидную смесь растительных и минеральных компонентов, которые вряд ли могли вылечить такое серьёзное заболевание, как скарлатина. Впрочем, доктор Кернер оспаривал начальный диагноз, утверждая, что в данном случае речь шла, скорее всего, не о скарлатине, а о так называемой «узловатой эритеме», которая в строгом смысле слова не является туберкулёзом, а причисляется к ревматическим инфекциям. Так или иначе, Вольфганг провёл в постели десять дней, с 21 по 31 октября.
В первых числах января он снова заболел. На этот раз обнаружились проблемы с суставами. В одном из более поздних писем (от 15.11. 1766 года), вспоминая о прежнем времени, Леопольд Моцарт писал:
«После нашего возвращения из Вены Вольфганг заболел; ему было очень плохо. Боялись оспы».[12]
5 января 1763 года больной Вольфганг с отцом вернулись в родной Зальцбург, а уже в июне отец вместе с обоими детьми предпринял новое гастрольное турне: через всю Германию до Аахена, затем в Брюссель, а оттуда в Париж. По пути – бесчисленные визиты к знатным особам, осмотр замков и монастырей, концерты и чествования. После пяти месяцев в Париже – долгий путь в Лондон, также прерываемый выступлениями и важными встречами.
Почти год в Лондоне – и снова в путь, дальше, вперёд, без отдыха и пауз. Вечная тряска по ухабам просёлочных дорог, насквозь промороженная карета, сквозняки, холодные и мокрые ноги. Всё новые и новые города, захолустные гостиницы, беспорядочная еда, бессонные ночи. Чудовищное напряжение для неокрепшего детского тельца, непрерывный стресс, никогда не спадающее возбуждение.
Было ли всё это необходимо? Судья ловил себя на том, что иногда в нём вспыхивало предубеждение против Леопольда. О ком больше думал и заботился этот отец семейства – о детях или о себе самом? Чью пользу, чью выгоду ловил в умно и ловко сплетённые сети? Не примешивались ли к радости за успехи детей личные амбиции и тщеславие, не искушало ли тайное желание примерить на себя лавры сына-вундеркинда?
Судья совершил над собой некое внутреннее усилие и волевым рывком отбросил эти крамольные мысли. Мудрый и испытанный жизнью старик, он понимал, что в данном случае нельзя судить и мерить привычными мерками: слишком велико было чудо, доверенное Господом Леопольду и его супруге. И, подобно тому, как преступно упрекать деву Марию за то, что она, предвидя крестный путь своего Сына, не остановила его, так нельзя осуждать и Моцарта-старшего. Он, словно Богоматерь, на руках внёс своего ребёнка в полную страданий и искушений жизнь и водворил на том пути, который привёл его к гибели.
К тому же, сам малыш не только не тяготился беспорядочной кочевой жизнью, но, напротив, был от неё в восторге. Он с радостью позволял себя показывать, легко демонстрировал свои феноменальные способности, играючи сходился с людьми, даже если это были монаршие особы. Он ничуть не походил на жирненьких вундеркиндов двадцатого столетия: вот уж действительно, то были заводные игрушки, маленькие роботы, натасканные на музыку!
Ему вспомнилась Ирка Герштейн – раздутая, как шарик, с коротенькими пальчиками-сосисками. Их квартиры находилась на одной лестничной площадке. Он тогда учился в хоровом училище, Ирка – в специальной школе при Консерватории. Им было по семь лет. Матери не удавалось усадить его за фортепиано. Он часами гонял мяч с дворовыми мальчишками, а Ирка тем временем стучала по клавишам. Уже тогда она не выходила из-за инструмента по пяти часов кряду. Он удивлялся: а как же весёлая детская жизнь?.. Друзья, футбол, страшные рассказы по вечерам в подъезде – всё это проходило мимо Ирки. Но, как выяснилось, ей это было не нужно. Однажды он зашёл к Герштейнам, чтобы позвать Ирку во двор, но её мать выпучила глаза и прижала палец к губам: «Тсссс! Ирочка занимается!». То ли вид у него был очень жалкий, то ли ещё что, но в этот раз она изменила сама себе и, ещё раз прошипев зловещее «Тсссс!», поманила его в комнату. Он прошёл на цыпочках вслед за ней и увидел такую картину: в тесной, густо заставленной мебелью комнатушке за стареньким пианино сидела Ирка и чесала гаммы. Ух, ты, как она их отчебучивала! Быстро, чисто, ну, просто как автомат!!! У него так никогда не получалось. Рядом на тумбочке стояла тарелка с пирожными. На ней красовались два эклера и «картошка», которую он страшно любил. Слюна мгновенно заполнила ему рот, он сглотнул и закусил губу.
Мать подошла к Ирке и скомандовала:
– Ирочка, кушать!
Ирка перестала играть и повернула голову к матери. В её глазах не было ничего детского: ни любопытства, ни интереса к нему, мальчику из соседней квартиры, ни желания съесть пирожное, ни порыва пойти погулять. Мать взяла эклер и сунула дочери в рот. Иркина голова мотнулась назад, рот раскрылся, крем размазался по губам. Она поперхнулась, но не выразила протеста; видно было, что подобное действие было для неё привычным. Мать пальцем собрала крем с Иркиных надутых щёк, облизала его и строго приказала:
– Занимайся!
И Ирка послушно, как заводная кукла, забарабанила гамму с того места, на котором остановилась.
К нему осознание музыки пришло много позже. Ему было тогда лет четырнадцать. Он словно проснулся, что-то вдруг словно зажглось и затрепетало в нём – какой-то нежный, прозрачный фитилёк, который стремился разрастись в пламя. Он умирал от любви к музыке, слушал записи известных дирижёров, занимался по десять часов в день, сочинял. Какое блаженное было время! Он всё бы отдал, чтобы его вернуть! Ах, Ирка, Ирка, бывший вундеркинд, где ты сейчас?.. Консерватория, эмиграция, а дальше?.. Дальше – ничего. Потерялась, растворилась в толпе взрослых реномированных музыкантов, бежавших из России в поисках райской жизни и утонувших в вязком болоте мирового музыкального рынка.
Он тяжело вздохнул и продолжал чтение. Оно всё более и более захватывало его.
В сентябрьском письме 1763 года сообщалось о катаре верхних дыхательных путей, в феврале 1764 – о тяжёлой ангине. В 1765 году, в июле, во время возвращения из гастрольной поездки по Англии дети переболели тифом. В ноябре 1766 года в Мюнхене, незадолго до возвращения в Зальцбург, Вольфганг вновь перенёс суставной ревматизм со сходными симптомами, как в 1763 году. В одном из писем Леопольд просит хозяйку зальцбургской квартиры госпожу Хагенауэр хорошенько протопить помещение перед их приездом, ибо Вольфганг вновь нездоров.
«Сейчас дело обстоит так. Он (Вольфганг – 0.З.) не может наступить ни на одну ногу; не может пошевелить ни одним пальцем, не может согнуть оба колена. Ни один человек не должен подходить к нему; в течение четырёх ночей он не мог спать <…>. Его мучили постоянный жар и температура, особенно по ночам».[13]
Невзирая на обстоятельства, в сентябре 1767 года они всей семьёй отправились в Вену, намереваясь присутствовать на церемонии обручения эрцгерцогини Марии Жозефы с Фердинандом Неаполитанским. Однако надеждам Леопольда, связанным с этим событием, не суждено было сбыться: принцесса внезапно скончалась от оспы. Эпидемия быстро распространялась по городам и сёлам, и Моцарты очутились в её эпицентре. В результате в конце октября оба ребёнка заразились и слегли. 10 октября 1767 года Леопольд пишет из Оломоуца:
«Те Deum laudamus![14] Вольфганг счастливо перенёс оспу!.. В понедельник 26-го мы направились в Оломоутц, куда и прибыли несколько позже <…>. В десять часов Вольфганг пожаловался на глаза; я заметил, что у него горячая голова, красные и горячие щёки, а руки, напротив, холодные, как лёд. Пульс был неровным; мы дали ему Шварцпульвер и уложили спать. Ночь он провёл беспокойно, а утром сухой жар продолжился. Нам предоставили две лучшие комнаты; мы укутали Вольфгангерля в шубу и перешли с ним в другие комнаты. Жар усиливался; мы дали ему немного Марграфова порошка и Шварцпульвер. Вечером он начал бредить, и так всю ночь и утро 28-го <…>».[15]
К 8 ноября болезнь отступила, но вслед за Вольфгангом слегла Наннерль. Лишь в конце месяца с оспой было покончено, и в начале следующего года Моцарты вернулись в Вену. Они оставались здесь до декабря, а в начале 1769 года, наконец, водворились в Зальцбурге.
…Судья откинулся на спинку кресла и задумался. Ну, болел, ну, и что?.. Болел, в общем, подолгу, но нечасто. Пожалуй, даже реже, чем обычно болеют дети: примерно раз в год. Что в этом необычного? Расхожие утверждения о крайней болезненности Моцарта-ребёнка оказались мифом. Он вспомнил себя в детстве: ангины случались с ним каждые два месяца, плюс грипп пару раз в году, плюс корь, ветрянка и свинка, не считая бесчисленных насморков, диарей и отравлений. Как говорится – то понос, то золотуха! Порой он пропускал занятия по целым четвертям, так что приходилось потом немало трудиться, чтобы получить аттестацию. И всё это в родном Питере. Правда, в то время они жили далеко от училища, дорога отнимала по полтора часа в один конец. Но, всё равно, это же не по заграницам шастать! Другое дело Моцарты: сегодня – Австрия, завтра – Германия, послезавтра Париж. От инфекционных заболеваний даже сегодня не застрахован ни один ребёнок. Вон, у его брата малыш: в садике кто заболеет – тут же вся группа следом. У них там одна флора и фауна на всех! Пока всю заразу через себя не пропустят, иммунитет не наработается!
Он вновь вперил очки в компьютер и заёрзал мышью. Первое итальянское путешествие. Второе итальянское путешествие. Короткий фрагмент из воспоминаний Наннерль от 1819 года:
«По возвращении из Италии <…>, когда ему как раз исполнилось шестнадцать лет, он только что перенёс очень тяжёлое заболевание, поэтому на портретах того времени он выглядит больным и жёлтым».[16]
О каком заболевании идёт речь?.. Тайна, покрытая мраком. С октября 1772 по март 1773 – третье и последнее итальянское путешествие. Неудачные попытки найти постоянное место службы. Катары, инфекции, зубная боль. Однако на портретах того времени – вполне упитанный и гладкий подросток, правда, с несколько желтушным цветом лица. Может быть, печень?.. Неясно. Несмотря ни на что, летом 1773 года семейство опять едет в Вену, зимой 1774–75 в Мюнхен. Начало разногласий с Зальцбургским Архиепископом. В сентябре 1777 года отъезд Вольфганга в Париж вместе с матерью. Длительная непредвиденная задержка в Маннгейме: первая страстная влюблённость. Объект – Алоизия Вебер, двоюродная сестра композитора Карла Марии Вебера. Письмо от 22 февраля 1778 года отцу:
«Последние 2 дня я сижу дома, принимаю спазмолитики, Шварцпульвер и цветы бузины, чтобы пропотеть, потому что у меня был катар, насморк, головная боль, боль в горле, в глазах и в ушах. Но сейчас, слава Богу, мне снова лучше, и завтра я надеюсь пойти прогуляться по случаю воскресенья».[17]
Что ж, юноша кое-что смыслил в медицине! Мы и сегодня принимаем спазмолитики от головной боли и настой бузины как противовоспалительное и потогонное средство.
С 14 по 23 марта переезд в Париж. Здесь 3 июля от непонятной лихорадочной инфекции («Тиф?..» – задаётся вопросом Кернер), к которой добавилась сердечная недостаточность, умирает мать, Мария Анна.
«Это самый печальный день в моей жизни, – я пишу эти строки в два часа ночи – моей матери, моей горячо любимой матери больше нет! – Господь призвал её к себе – он хотел взять её, я это ясно видел – и я предаю себя воле Божьей <…>. Она умерла, не осознавая происходящего, погасла, как светильник <…>. Я просил Господа о двух вещах, а именно, о счастливом смертном часе для моей матери и о предании мне силы и мужества, и всеблагой Господь даровал мне обе эти милости в высшей степени <…>»[18][19].
В конце сентября он уезжает из Парижа, так ничего и не добившись на карьерном поприще. Ему страшно не хочется в Зальцбург, и он сворачивает в Маннгейм, где задерживается на два месяца. Увы! – Алоизия уже забыла своего Орфея, предпочтя ему посредственного актёра Ланге. В Зальцбурге, куда он, несмотря на все свои ухищрения, вынужден прибыть в середине января, его ждёт место органиста в Домкирхе. Оно образовалось благодаря усилиям Леопольда, однако вряд ли могло обрадовать Вольфганга. Зальцбург становится всё более и более ненавистен молодому композитору, и немалую роль в этом играют отношения с новым архиепископом графом Иеронимом фон Коллоредо. Их взаимная неприязнь возникла уже при первом знакомстве и день ото дня обострялась, к чему приложили усилия обе стороны. Осенью 1780 года Моцарт получает предложение из Мюнхена написать оперу «Идоменей». Наконец-то птичка вырывается из клетки; Моцарт на всех парах несётся в Мюнхен и оттуда докладывает отцу:
«У меня в настоящее время катар, который здесь при этой погоде весьма моден, однако я полагаю и надеюсь, что он скоро улетучится, потому что два лёгких кирасирских полка – сопли и слизь постепенно удаляются».[20]
Озабоченный отец не медлит с ответом:
«Я надеюсь, ты не станешь делать из своего катара шутку, потому что катары, хотя на них мало обращают внимание, часто имеют дурные последствия. Одевайся теплее, не пей вина и перед сном принимай немного Шварцпульвера, а вкупе с ним на кончике ножа Марграфпульвер, на завтрак же пей чай, но не кофе».[21]
Премьера «Идоменея» (29 января 1781) и его огромный успех окрылили Вольфганга. Он постоянно оттягивает возвращение в Зальцбург и, наконец, с большим опозданием, появляется при дворе архиепископа. Тот не замедлил поставить ему это на вид. Вскоре архиепископ отправляется в Вену и тащит за собой почти всю челядь. При каждом удобном случае он унижает Вольфганга, подчёркивая его положение слуги, хамит, обращается с ним, как с лакеем. Моцарт не выдерживает и срывается – пишет дерзкое по тем временам прошение – нет, требование! – об отставке. Архиепископ манкирует и приказывает Вольфгангу немедленно отправляться в Зальцбург. Что угодно, только не это! Моцарт повторяет прошение ещё и ещё раз; архиепископ спускает его с лестницы.
Чудовищное оскорбление, нечеловеческий стресс, болезнь, нервный срыв, медленное возвращение к жизни. Теперь уже независимой: нет постоянного места службы, нет дохода, нет уверенности в завтрашнем дне, но есть свобода. На данном этапе для Моцарта это главное.
Можно себе представить, какого запредельного напряжения душевных и физических сил стоил этот скандал юному Моцарту! Каждый из нас переживал хоть раз в жизни конфликт с начальством, и каждый знает, чем это чревато. Инфаркт, инсульт, потеря трудоспособности, депрессия, больница, таблетки, капельницы – вот далеко не полный перечень того, что нас ожидает.
Моцарт выстоял; значит, он был вовсе не так уж слаб. Но вслед за этим испытанием возникло новое, не менее серьёзное.
Его первая сильная любовь обернулась глубоким разочарованием. Алоизия Вебер пренебрегла им. Тот, кто способен заглянуть в душу к Моцарту, ужаснётся: да это конец! Для Моцарта не существовало компромиссов. Он не умел лгать и притворяться. Если в его жизнь входила любовь, то навсегда. Брачный контракт, расчёт, хладнокровная взвешенность – это не про него. Потерять надежду на взаимность – значит потерять всё.
Нам известно, чем грозит потеря любимой для чувствительного сердца. Сколько самоубийств совершалось на этой почве! Даже в наш продажный и прагматичный век подобная ситуация часто приводила к смерти героя. А тогда, в преддверии эпохи романтизма, любить – значило поставить на карту всё, под залог собственной жизни.
Это был нокаут. С медицинской точки зрения он вполне мог оказаться смертельным.
Чем дальше в лес, тем больше дров. С трудом пережив потерю Алоизии, он попадает в сети матушки Вебер, которая прочит за него старшую дочь Констанцу. «Обмануть меня нетрудно, я обманываться рад»[22]. Фрау Вебер предпринимает ухищрения, достойные содержательницы публичного дома. Она устраивает чудовищную сцену – засада, свидетели, обличения, упрёки, слёзы, вопли о потерянной чести дочери, подсунутый под шумок договор, и проч, и проч. Всё, как в дешёвом бульварном романе. Но Моцарт простодушен и доверчив, он идёт в расставленный капкан, не глядя – он женится на Констанце и отныне становится преданным мужем, отцом семейства, добытчиком и защитником домашнего очага.
Из пелёнок – прямо на поле брани. Он всё принимает за чистую монету. Он не умеет читать между строк, не понимает эзопова языка. С голой грудью и поднятым забралом он рвётся в бой и неизбежно натыкается на шеренгу отточенных копий.
Леопольд рвёт и мечет, он употребляет весь свой авторитет и всё педагогическое искусство, чтобы удержать сына от ложного шага. Увы! Напрасно. Отец теряет послушного сына, а сын теряет отца. Но лишиться такого отца, каким был Леопольд для такого ребёнка, каким был Вольфганг – всё равно, что остаться без Божьей помощи на тернистом жизненном пути.
14 сентября 1784 года Леопольд пишет дочери:
«Мой сын в Вене был очень болен. На представлении новой оперы Паизэлло он пропотел насквозь, но должен был сам на холоде искать слугу, у которого осталось его верхнее платье, так как вышел приказ не пускать слуг к общему выходу из театра. В результате не только он один, но и многие схватили ревматическую лихорадку, которая, если тотчас не принять меры, быстро переходит в сыпной тиф. Вот что он пишет:
«Четыре дня подряд в одно и то же время у меня были летучие колики, которые всякий раз оканчивались сильной рвотой. Сейчас я чувствую себя ужасающе. Мой здешний доктор – господин Зигмунд фон Баризани; он всё время, пока был здесь, навещал меня почти ежедневно. Его здесь очень хвалят, он действительно весьма умелый, Вы ещё увидите, что в ближайшем будущем он станет здесь весьма известен».
Что за колики?.. Где?.. В желудке?.. В кишечнике?.. В желчном или в мочевом пузыре?.. Нигде никаких пояснений.
Зато множество доказательств того, что поначалу дела Вольфганга в Вене шли прекрасно. Когда Леопольд в апреле 1785 года посетил сына, он нашёл его на волне успеха – кратковременного, но бурного. Просторная квартира на Гроссер Шулерштрассе, академии, приватные концерты, именитые ученики, нескончаемый поток новых произведений. Именно к этому периоду относятся слова Йозефа Гайдна, обращённые к Леопольду: «Ваш сын величайший из композиторов, которых я когда-либо знал».
1 мая 1786 года – премьера «Фигаро». Несмотря на кажущуюся беспомощность, Моцарт доблестно продирается сквозь интриги, в том числе со стороны основного оппонента Антонио Сальери. Вначале – ошеломительный успех. Гонорар в 450 гульденов. Потом вдруг – облом, провал в безысходность, чёрная дыра. После девятого представления опера вообще не значится в репертуарном плане. Одновременно исчезают ученики, пустеют академии, тают заказы, прекращаются домашние концерты.
«Чёрт побери, что всё это значит?» – Судья на мгновенье замер и перестал листать виртуальные страницы немецкой брошюры. Затем, словно спохватившись, принялся судорожно крутить колёсико мыши в обратном направлении. «Тут что-то не так. Должна же быть причина?»
Вот, например, ещё одно письмо. Всего лишь через год, 10 мая 1787 года Леопольд вновь докладывает дочери:
«Твой брат теперь обитает на Ландштрассе, № 224. Он мне ничего не объясняет, я должен обо всём догадываться сам».
О чём, собственно, догадываться? Ага! Понятно: Ландштрассе – это, что называется, «ауф дем ланде» – за пределами городской черты. Всего год – и упасть так низко! Ещё вчера снимал апартаменты в центре Вены, а теперь вот, на тебе – в предместье, на просёлочной дороге!..
Октябрь 1787 года. На свет появляется «Дон Жуан». Моцарт хочет его поставить и – не может. Для осуществления этой цели приходится ехать в Прагу. Здесь 29 октября состоится премьера шедевра. В декабре – запоздалое назначение на должность камерного композитора при дворе императора Йозефа II. Зарплата 800 гульденов. Более чем скромно. Совсем уже под конец, в 1791 м, Моцарт удостаивается места органиста в соборе св. Стефана. Поздно! Карета катится под откос, её уже ничем не остановить.
«Дьявольщина, что же, всё-таки, случилось между 1786 и 1787 годами?..» Тайна, покрытая мраком. Немецкий доктор не даёт ответа на этот вопрос. Да и не может дать, ибо причина кроется за пределами его компетенции.
Ищи, ищи, старый бедолага, шевели носом, раздувай ноздри, держи след, полицейская ищейка!
Вот описание наружности Моцарта: мал ростом, глаза голубые, волосы светло русые, на лице следы перенесённой оспы. Глазные яблоки выдаются, как при базедовой болезни: экзофтальм, миопия. Очевидны следы рахита: шишка на черепе, искривлённые пальцы рук. На одном ухе отсутствует мочка, а слуховой проход сужен из-за массивного утолщения на ушной раковине. Живой и подвижный, как ртуть, склонный к танцам, кеглям, бильярду. Пальцы рук постоянно что-то наигрывают. Речь поспешная, движения нервозные. В последние годы слегка располнел, что при малом росте было весьма некстати.
«В целом, фигура мало аттрактивная».
– Это кто ж так выразился?.. Кто автор цитаты?.. Ах, Людвиг Тик! Прилизанный поэтишка, худосочный романтик. Литературный критик, творческий импотент, убогий поноситель чужого таланта!
Старик сам не заметил, как закипавшее в нём раздражение стало перехлёстывать через край.
– О ком ты пишешь, жалкий бумагомаратель? Кто ты и кто Он?! – забывшись, выкрикнул Судья и ткнул в темноту перстом, словно перед ним в кресле-качалке сидела серая, измятая и пропылённая фигура автора «Кота в сапогах».
Он ринулся к стеллажу с книгами, рванул на себя ветхую дверцу и извлёк купленный в прошлом году в Вене фотоальбом.
Вот он, настоящий Моцарт! Милый ребёнок, с пухлыми розовыми щеками, в смешном пудреном паричке и шитом золотом камзольчике. За клавесином, на высоком стульчике, ножки не достают до пола. А здесь – уже подросток. Снова за клавесином: вместе с Наннерль. А тут втроём с Леопольдом; на стене – портрет матери Марии-Анны. Нос с горбинкой. Умные синие глаза. Плотно сжатые губы. Сосредоточенный, цепкий взгляд. Иногда сдержанный и отстраненный, иногда лукавый и смеющийся.
А вот знаменитый портрет кисти свояка Ланге. Моцарту здесь – двадцать шесть. На его лице печать глубокой скорби, в глазах – предчувствие безвременного конца, «виденье гробовое, внезапный мрак <…>»[23]. Он только что обрёл свободу, сбросил путы ненавистной службы у архиепископа, женился. Откуда же эта мировая скорбь, это ощущение разверзшейся пропасти, чёрной дыры? Какое прекрасное лицо! Скульптурные формы, правильные, гармоничные черты, пышные – свои – волосы. Кто стоит за ним чёрной тенью, кто пугает его нежную душу, кто высасывает силы из этого Ангела Гармонии?..
Вот он, архиепископ Иероним фон Коллоредо! Самодовольное ничтожество. Дегенеративный подбородок, рыбьи глаза, голова яйцом. Весь из себя: при исполнении, в полном сознании власти и могущества. Две трети портрета занимают драпировки на заднем плане и складки мантии, алые, как кровь. Кровь, кровь повсюду. Кровь Моцарта.
А вот ещё одна распухшая от самодовольства кукла: достославная императрица Мария Терезия собственной персоной. Двойной подбородок, выпученные глаза, от которых так и веет ледяным холодом. Манерно оттопыренные макарончики пальцев: фу ты, ну ты, ножки гнуты! И снова пурпур, шёлк, кружева, в сто раз ценнее, чем то, на что они напялены. У-у-х! Так бы и дал в морду!
Отпрыски Йозеф II и Леопольд Флорентийский. Губошлёпы, а в остальном копия матери, только не такие жирные.
Судья сжал кулаки и от переполнявшей его ненависти заскрежетал зубами. Сам того не подозревая, он уже обвинил их – коронованных особ, монархов «эпохи Моцарта». Если они и не убили его формально, то содействовали своим неучастием, равнодушием, попустительством. Сегодня это называют халатностью. Пункт два главы двести девяносто три Уголовного Кодекса. Принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности. В колонию строгого режима, в тюрьму, с конфискацией!
А, и ты здесь, маэстро Сальери! Застёгнутый на все пуговицы, вещь в себе и для себя. Подозрительный прищур хитрых, расчётливых глазок. Они всё видят за версту вперёд, эти глазки, они прощупывают каждого, оценивают на прочность, на талант, на конкурентоспособность. Огромная щель рта – от уха до уха, губы в ниточку. Он ненасытный, этот акулий рот, ему всё мало – сотня должностей, две сотни титулов, тонна орденов.
Убил или только хотел убить?.. Другими словами – убил сам или по чьему-то приказу?..
Гонимый внутренней сыскной лихорадкой, разгорячаясь всё больше и больше, Судья вернулся к компьютеру и продолжил чтение.
Начиная с 1788 года, болезнь и бедность шагают в письмах Моцарта бок о бок. В мае этого года в Вене, наконец-то, состоялась премьера «Дон Жуана». Пятнадцать представлений – и всё. В репертуарном плане не значится. Следует цепочка писем другу Пухбергу, в которых композитор умоляет ссудить его деньгами.

