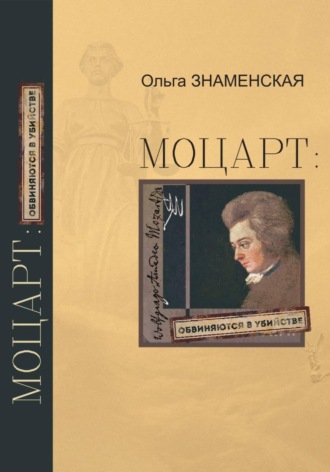
Полная версия
Моцарт: обвиняются в убийстве
– Но Моцарт не знает об этом. Он продолжает свои поиски. В мае 1789 года во время пребывания в Берлине Моцарт, по слухам, получил предложение от Фридриха Вильгельма занять место капельмейстера. Однако информация не подтвердилась. В феврале 1790 года, вскоре после смерти Иосифа II и непосредственно после восшествия на трон Леопольда II, Моцарт сделал ещё одну безуспешную попытку получить солидную должность при дворе: на этот раз речь шла о месте 2-го капельмейстера (место 1-го капельмейстера давно и бессменно занимал Сальери) и преподавателя игры на фортепиано для наследного принца.
– В мае того же года он обращается за поддержкой к эрцгерцогу Францу, но тот даже не удостаивает его ответом.
– В сентябре 1790 года в Вену прибывают король Фердинанд и королева неаполитанская Каролина. По случаю бракосочетания двух их дочерей в Вене перманентно звучит праздничная музыка. Её заказывают Сальери и Вайглю, в качестве исполнителей приглашают Кавальери, Кальвези и Штадлера, – о Моцарте даже не вспоминают.
– Отчаявшись сделать карьеру при дворе, Моцарт обратил свой взор в другую сторону. В 1791 году он пишет в городской магистрат отчаянное письмо, содержащее просьбу зачислить его на должность помощника органиста собора св. Стефана. Его самоуничижение зашло так далеко, что он просит предоставить ему это место без утверждения оклада в надежде на то, что престарелый органист рано или поздно оставит свой пост по естественным причинам, и тогда он сможет занять его. Однако судьба и тут надсмеялась над ним: престарелый Хофманн намного пережил своего молодого коллегу!
Тут Гомилиус сделал «ритенуто»[7] и оторвал глаза от конспекта. Он вопрошающе посмотрел на прокурора, пытаясь вычислить вектор мыслей и гамму чувств этого служителя Фемиды. Однако тот оставался непроницаемым. Никто, даже самый близкий друг или родственник не смог бы угадать, о чём размышляет этот человек, облечённый всей полнотой законодательной власти. Тогда престарелый профессор перевёл взгляд на судью, интуитивно угадывая в нём своего союзника. И не ошибся: большие выпуклые глаза Его чести смотрели печально, морщинистое лицо казалось серым от усталости, но живой огонь освещал его изнутри, свидетельствуя о неусыпном внимании и участии.
«Какое выразительное лицо! – отметил Гомилиус. – Интересно, о чём он думает?..»
Глава V. Судья
А думал наш Судья вот о чём.
Дело в том, что он довольно поздно облачился в судейскую мантию. Его детство было связано с музыкой, причём, тогда казалось, что навечно. Родители были далеки от искусства: мать и отец работали инженерами, бабушки и дедушки – врачами, тёти и дяди – учителями. Одним словом, «интеллигенция», как с полупрезрительной интонацией «обзывали» их соседи по лестничной площадке.
Маленького Валю отдали в хоровое училище при Филармоническом обществе исключительно из соображений удобства: училище находилось на той же улице, что и дом, в котором тогда жила семья нашего мальчугана. Однако он оказался весьма одарённым, и вскоре ему стали поручать сольные партии в концертах. В училище принимали исключительно мальчиков с красивыми голосами. Наш герой был не только способным, но и смышлёным ребёнком: он быстро разучивал музыкальный текст, легко запоминал его наизусть и, главное, отличался трудолюбивым и покладистым характером.
В училище преподавали как музыкальные, так и общеобразовательные предметы. Самым трудным было сольфеджио: тут полагалось быстро определить на слух интервалы и аккорды, записать по памяти четырёхголосную пьесу после однократного проигрывания, а также петь и дирижировать «с листа», то есть, без подготовки. Для всего этого требовался абсолютный слух, и у Вали он был.
Не все ученики легко справлялись с заданиями. Особенно тяжело давалось сольфеджио валькиному другу Вовику Салье. Обычно мальчиков рассаживали за отдельные парты, поэтому во время диктанта Вова интенсивно ёрзал справа налево, судорожно пытаясь списать у соседей по парте.
Мальчишки не жадничали, и бедолага всегда счастливо выкручивался. В конце урока он демонстрировал свою работу учителю с таким гордым видом, что никому бы и в голову не пришло заподозрить его в жульничестве. И вообще: учителя любили и отличали Вову за его удивительное умение подладиться. В последние годы одноклассники стали звать его Вовочкой за особую маслянистую манеру общения с окружающими, как с педагогами, так и с товарищами. Его всегда выбирали председателем Совета отряда, а затем и дружины. Это выделяло Вовочку из числа десятков и даже сотен сорванцов, которым было наплевать на авторитет. Они носились по коридорам, тузили друг друга, играли в теннис на заднем дворе, на концертах самозабвенно пели, а вечерами слушали музыку и с жаром спорили о ней, – одним словом, их волновало всё, что угодно, только не карьера. Они даже слова такого не знали!
Другое дело Вовочка. Уже в нежном возрасте он спланировал своё будущее и шёл к намеченной цели с тактической изворотливостью прожжённого политика. Не будучи светочем ни в одном из музыкальных направлений, он, тем не менее, везде достиг некоего среднего уровня, который всех вполне устраивал. Он очень рано сумел стать удобным и нужным не только учителям, но и руководству училища, поэтому никто не удивился, что, при весьма средних способностях, он закончил обучение с «красным» дипломом и без конкурса прошёл в хоровую Академию.
Там его путь был и вовсе гладким и стремительно восходящим: уже на первом курсе он вступил в ряды КПСС и стал куратором комсомольской организации ВУЗа. Вчерашние товарищи оказались у него под началом; отныне ему были обеспечены все лучшие позиции на музыкальном поприще.
Ещё не закончив Академию, он стал руководителем одного из самых солидных хоров и оркестров города. Прочные связи с секретарями райкомов и обкомов делали его позиции практически неуязвимыми. Вот тут-то на работу в Вовочкин хор и угораздило придти нашего Валентина.
Этому событию предшествовал крутой виток в его биографии. В Академии он считался одним из лучших; ему предлагали аспирантуру, но тогда он отказался и уехал по распределению в далёкий приморский город. Там он создал хор и оркестр, пробудил музыкальную жизнь города и области от глубокой спячки, наладил музыкальное образование, и много что ещё. Но потом ему стало скучно. Размеренная, налаженная жизнь была не в характере нашего героя. Он любил стройки, пятилетки, ему подавай Днепрогэс, Магнитку и Байкало-Амурскую магистраль. Узнав о вакансии в знаменитом хоре, он вернулся в родной город, рассчитывая, что и здесь ему удастся построить очередной БАМ.
Поначалу всё складывалось удачно. Вовочка назначил старого друга хормейстером, доверил ему ведущие партии в концертах, приглашал на все партийные и творческие тусовки.
Очень скоро, однако, Валентин обнаружил, что качество академического хора оставляло желать лучшего, а игра симфонического оркестра и вовсе напоминала плохую самодеятельность. Он со рвением принялся устранять недостатки, но ему тотчас дали понять, что его усердие не нравится Главному. Похоже, что «разброд и шатание» в коллективе того вполне устраивали. И уж меньше всего он нуждался в критике и конкурентах! Видя, что певцы и инструменталисты полюбили и зауважали нового дирижёра, Вовочка прямо пропорционально посуровел и похолодел. Вскоре наш герой заметил странные перемены в своей судьбе: ключи от репетиционных классов и залов часто оказывались не на месте, так что он попросту не мог войти в помещение, и занятия срывались; уборщицы включали пылесосы во время его репетиций, а вахтёры здоровались сквозь зубы. Его перестали приглашать на профессиональные тусовки, а секретари райкомов и обкомов смотрели на него как-то странно, будто бы мимо, словно сквозь стенку, что наводило на неприятные мысли. В итоге его сняли с ведущих партий, а потом и вовсе перестали вызывать на репетиции.
Валентин неоднократно пытался выяснить – что происходит? Он звонил старому другу, но тот не подходил к телефону. Он заявлялся к нему в кабинет – но Главный всегда был занят. Наконец, дошло до того, что Валентин записался к нему на приём – но Вовочку срочно куда-то вызвали.
Всё разрешилось самым неожиданным образом. Однажды на доске объявлений Валентин увидел, что на повестке дня ближайшего партийного собрания будет разбираться его персональное дело. Он очень удивился: во-первых, он не был членом партии, а во-вторых, партийные «разборки», весьма модные в известное время, нынче уже изжили себя. Тем не менее, он явился на собрание, уверенный, что тут какое-то недоразумение, и всё образуется.
Собрание проходило в большом концертном зале. Валентина попросили остаться на сцене, так что он очутился один на подиуме, словно на лобном месте. В зале восседала авторитетная комиссия, в которой Валентин разглядел знакомые фигуры секретарей райкомов и обкомов, приближённых к Главному певцов и оркестрантов, а также каких-то незнакомцев, на лицах которых был написан их решительный настрой.
Дальнейшее протекало как в тумане: Вовочка, украсив лицо скорбной миной, говорил, как ему больно, что он вынужден признать свою ошибку, что он позволил себе поддаться чувствам, что он обманулся в человеке… Он упрекал Валентина в непрофессионализме, в неблагодарности, в подсиживании старого друга, и тра-та-та, и ла-ла-ла… Комиссия кивала головой, секретари что-то многозначительно писали в блокнотах, а решительно настроенные незнакомцы так плотно поджимали губы, что нашему герою стало не по себе.
Через час он стоял на набережной канала Грибоедова, обескураженно вертя в руках трудовую книжку. В последующие месяцы он безуспешно пытался устроиться на сколько-нибудь подходящее место, но музыкальная биржа труда была переполнена соискателями, а расталкивать конкурентов локтями он не умел. Обременять просьбами друзей и знакомых не хотелось, да и велик был риск повторения предыдущей ошибки. Неожиданно один из родственников оказался в беде: Валентина позвали на суд сначала свидетелем, а затем и представителем ответчика. Врождённое чувство справедливости в нём было настолько сильным, что он буквально угадывал траекторию процесса и выиграл его. Казалось, все законы и кодексы прописаны у него в голове; то, что было напечатано на бумаге, лишь подтверждало правильность его мыслей. На самом же деле всё было просто: наш герой видел в законе некое совершенство формы, примерно такое же, как в музыкальном произведении. Нарушение закона, как и нарушение музыкальных пропорций, вело к хаосу, следовательно, его нельзя было допустить.
Однажды после одного из судебных заседаний к нему подошёл руководитель следственного отдела:
– Простите, Валентин Павлович, вот смотрю я на вас и думаю: сколько вы получаете там, у себя, в вашем музыкальном пространстве?
Услышав ответ, он сморщился, точно под носом у него раздавили клюкву, и нараспев произнёс:
– Мой вам совет: бросайте всё и идите к нам. Вы прирождённый юрист. Большим человеком станете!
И вот он – здесь. Он давно перестал быть Валей; теперь он просто Судья. Орудие в руках правосудия. Безликое, бесполое и бесцветное.
Как отвратительно шумит этот сброд в зале. Ему казалось, что толпа душит его. Зачем они пришли сюда? Из любви к справедливости? Или из праздного любопытства? Испокон веков повторяется одно и то же: хлеба и зрелищ. А что движет этим восторженным стариком Гомилиусом – полуребёнком, полуфанатиком? Взгляните-ка на него: взмок, точно после спортивного забега, щёки пылают, глаза блестят. «И всё из-за чего? Из-за Гекубы? Что ему Гекуба? Что он Гекубе, чтоб о ней рыдать?» – вспомнились ему строки из Гамлета. Как там дальше?.. «А я, тупой и вялодушный дурень, мямлю, как ротозей, своей же правде чуждый…» Судья ухмыльнулся. Как похоже! Словно о нём писал Шекспир. Да, полно, Шекспир ли это?.. А может, Марло?.. Ещё одна неразрешённая загадка истории.
И вообще: что здесь происходит?..
Ах, да, Моцарт.
Моцарт. Он же сын Божий. А потому обречён. Того распяли, этого отравили. Как же иначе? Всё предопределено в этом мире.
Сам того не ведая, он уже принял сторону обвинения. Его безупречное чувство формы не подвело его. Исход суда был предрешён.
А зал всё галдел и жестикулировал, ёрзал и скрипел стульями. Казалось, о Судье и вовсе забыли: увлеклись собственными домыслами, пересудами, сплетнями и предположениями. В вязком многоголосии переплелись правда и вымысел, цитаты и обрывки мыслей, петые и перепетые анекдоты и байки. Судья опустил руку с молотком на гонг:
– У защиты будут какие-либо существенные дополнения, возражения, ходатайства?
– Нет.
От его вопроса адвокат Стоцкая сжалась в комок и ушла, как в нору, вглубь кафедры. Ну, ладно. Не хочешь – не надо. Как говорится, была бы честь предложена. Чем меньше ненужных формальностей, тем лучше. И так все устали до чёртиков. Только старый профессор с неиссякающим энтузиазмом взирает на своего визави, словно удивляясь чему-то. На какое-то мгновение Судья почувствовал, как между ними что-то замкнулось, и будто пробежала искра. Он вздрогнул, опустил глаза и закрыл папку с документами.
Первый день суда нарисовал точку.
Глава VI. Болезнь
Весь вечер Судья чувствовал себя разбитым. Беспокоила спина; острая боль из поясницы простреливала в левую ногу: обострился застарелый ишиас. В висках теснило и пульсировало: не иначе, зашкаливало давление. Он с трудом отыскал тонометр, заголил предплечье и натянул манжетку. Так и есть! Сто восемьдесят на сто. Судья выдавил из пузырька две таблетки и кинул в рот, запив вчерашней водой из мутного стакана.
Дневное заседание не выходило у него из головы. Настырный звон колокольчика, несмолкающее бормотанье толпы, возбуждённые возгласы, скрип стульев, тяжёлый стук судейского молотка – всё это слилось в один навязчивый и монотонный звук, который клином внедрился в его сознание, мучая и угнетая его.
Судья включил телевизор. Шли новости. Журналисты эксгумировали давно забытый сюжет и препарировали его с новым, неослабевающим интересом: вновь ожили тени бывших крутых отщепенцев, один из которых оказался отравлен полонием, а другой задушен шарфом. История была проста, как день: только идиот мог не догадаться, кто отправил к праотцам горе-политиков. Судья брезгливо поморщился и поднёс зажжённую спичку к газовой конфорке. Вспыхнул юркий огонёк, и в доме сразу стало уютнее. Захламлённое логово старого волка приобрело мягкие приглушённые очертания. Зачем ему чистота и порядок?.. Жена умерла, дети разъехались. Недолго и ему, старому вдовцу, мыкаться на этом свете. Как-нибудь перебьётся.
А теперь вот, откуда ни возьмись, ещё одна болячка: Моцарт. Она ныла и саднила сильнее спины. Похоже, так просто не отделаться! Вся беда в том, что он плохо ориентируется в сути вопроса – вот что! Бултыхается, словно рыба в мутной воде. Так его любой подцепит на крючок! Каким-то неясным, едва обозначенным в его сердце ощущением, именуемым то ли «шестым чувством», то ли интуицией, Судья улавливал некую фальшь во всей этой истории. Эта фальшь витала повсюду: он осязал её кожей, чуял носом старого ушлого лиса, слизывал с губ языком. «Грязь, ложь, дерьмо», – с отвращением процедил он сквозь зубы, сплюнул и отёр рот ладонью.
Он открыл старинный запылённый буфет, достал бутылку с водкой, налил себе всё в тот же стакан и опрокинул его. Сразу стало легче; боль отпустила, и голова перестала гудеть.
Ах, Моцарт, Моцарт! Сколько прекрасных воспоминаний связано с этим именем!
…Взволнованное колыханье скрипок, учащённое биение ритма. Он в зале академической Капеллы слушает Соль-минорную симфонию. Трепет этой неземной – и вместе с тем такой человечной! – музыки передаётся ему. Гармония зала – пурпурный бархат кресел и драпировок, полуциркульные арки портала, таинственный блеск цветных стёкол на венецианских окошечках рождают ощущение лёгкости и счастья. Но главное – это музыка. Она укачивает, она уносит в какие-то неведомые и прекрасные, сладостно-волнующие пространства, она делает тело невесомым, а душу наполняет ощущением райского блаженства.
…А вот он в ложе Кировского театра на представлении «Волшебной флейты». И – то же ощущение детского, безмятежного счастья. Смешной пузатый Папагено, весь в перьях, обвешанный клетками, с замком на губах мычит свою прелестную мелодию. Комичные звери, приплясывая, поют упоительное «Ла-рала-ла», звенят волшебные колокольчики, ласкают ухо мелодичные переливы сладкозвучной флейты. Царица Ночи – совсем не страшная, толстая, но всё равно красивая, захлёбывается своими руладами где-то на самом верху ажурной оркестровой паутины, так что дух захватывает и хочется кричать от восторга.
…А сейчас он за пультом – дирижирует «Маленькой ночной серенадой». Господи, откуда этот невысокий худенький человек в пудреном паричке со смешной косичкой, живой, как ртуть, ребячливый и неуёмный, брал свои божественные мелодии?! Он рассыпал их направо и налево щедрыми пригоршнями, черпая из некоего неиссякаемого неземного источника. Из двенадцати нот – тех самых, которые навязли в ушах за десятки столетий, он создавал всё новые и новые неповторимо прекрасные музыкальные образы, и не было конца его феноменальной фантазии! Он обжигал, как солнце, лучами своей ослепительной гениальности. От его музыки вырастали крылья, в неё хотелось броситься, как в горный водопад, подставить лицо и пить, разбрызгивая хрустальные струи.
Это было до того, как Вовочка оговорил и выжил его. Тогда ещё была жива мать. Безнадёжно больная, она лежала в комнате, где стоял рояль. Когда он садился за инструмент и начинал играть, глаза её открывались, и в них появлялся прежний смысл. Однажды он заиграл Моцарта и вдруг посреди сонаты услышал за спиной её рыдания. Он бросился к ней:
– Что ты, мамочка?..
Она всё всхлипывала, и лишь через несколько минут смогла выдавить:
– Я знаю – это Моцарт! В его музыке есть то, ради чего только и стоит жить!
Он тогда был поражён точностью её мысли. Он бы никогда не смог так ясно сформулировать то, что чувствовал сам. Божественное совершенство, Гармония в высшем смысле этого слова, Абсолют, Рай, воплощённый в звуках.
И тут же топором по темени бухнул вопрос: что же такое могло случиться, что этот светоносный гений умер в расцвете сил, не дожив до своего тридцать шестого дня рождения?! Какая неизлечимая болезнь свела его в могилу? Или не болезнь, а чья-то злая воля убила его? Какая дьявольская сила уничтожила этого божественного ребёнка и стёрла с земли все следы его пребывания на ней? Кто осмелился посягнуть, у кого поднялась рука? Страшная тайна окутывает всё, что связано со смертью и похоронами Моцарта. Завтра врачи будут терзать и мучить его виртуальное тело, перебирать старые рецепты, пересчитывать болячки, спорить из-за диагнозов. А он сам? Готов ли он во всеоружии встретить натиск самоуверенных эскулапов, которым всегда всё ясно, и ныне, и присно, и во веки веков?
Нет, не готов.
Он прошёл в свой кабинет, включил настольную лампу и щёлкнул пультом компьютера. Где-то здесь, в папке с документами сохранена книга Дитера Кернера «Моцарт как пациент». В далёкие семидесятые он познакомился с этим немецким доктором на конференции «Криминалистика и медицина». Они быстро сблизились. Взращенные двумя сходными системами – СССР и ГДР, разные во всём, они были похожи в главном: если кто-то из них начинал копать информацию, его уже ничто не могло остановить. Соображения престижа, личной выгоды, гонорара, угодности или неугодности высшему начальству – всё отступало на задний план и становилось неинтересным. Правда – вот что было важно, вот чему была посвящена напряжённая, кропотливая работа, по сути дела – вся жизнь. На конференции Кернер читал доклад о Моцарте, в котором впервые умно и доказательно изложил версию о том, что Моцарт умер не своей смертью. Судья до сих пор помнит шок, который тогда испытал.
А что сейчас? Как случилось, что он успокоился и всё забыл, не накопал фактов, не вскрыл нарыв и не выпустил гной наружу? «Ах, Моцарт, Моцарт, ты, право, недостоин сам себя!»[8]
Он ухмыльнулся, поёрзал мышью по столу и отыскал нужный файл. Статью Кернера он сохранил в оригинале, на немецком языке. Наверное, за эти годы её уже успели перевести. Надо было бы найти русский вариант: легче будет читать. Но ему не терпелось; к тому же, он привык никому не верить. «Первоисточник, только первоисточник», – бурчал он себе под нос, листая страницы объёмной работы. Он прокрутил текст от начала к концу и, напружинившись, словно готовясь к удару, стал медленно читать, то и дело останавливаясь и возвращаясь к уже прочитанному:
«<…> Таким образом, остаётся вероятность одного единственного диагноза: хроническое ртутное отравление. Боли в спине, матовость кожных покровов, депрессии, обмороки, преувеличенная подвижность, нервозность вкупе с повышенной возбудимостью и бледностью принадлежат к типичной симптоматике, чётко описанной в токсикологии как «erethismus mercurialis», что в переводе означает «ртутная возбудимость». В конце длительной фазы хронического отравления обозначился токсический нефроз и финальная уремия, в дальнейшем ртутный тремор. К картине болезни, сегодня именуемой «каломельной», причисляют такие симптомы, как повышение температуры, сыпь и раздражение мозговых оболочек – все эти симптомы в последние дни и часы наблюдались у Моцарта. Постоянное чувство холода, которое испытывал Моцарт, также относится к классическим признакам подобного рода отравлений. Финальная стадия ртутной интоксикации приводит к полному отказу почек, и, таким образом, болезнь Моцарта приобретает трагическую идентичность с картиной заболевания, сегодня известного нам как хроническое ртутное отравление. Помимо описанных биографами приступов головокружения и обмороков, сюда добавляются такие типичные для меркуриализма симптомы, как сохраняемая до конца работоспособность, отсутствие жажды, сильный отёк тела, возникший в результате отказа почек, затем рвота и галлюцинации, а также раздражение мозговых оболочек <…>»[9]
Лоб Судьи покрылся крупными каплями холодного пота. «Совсем как у Моцарта», – отметил он и, резко скрипнув стулом, поднялся из-за компьютера. Ему стало не по себе. Он вернулся в столовую, налил себе ещё водки и выпил залпом. Заложив руки за спину, он двинулся вперёд по комнате, натыкаясь на мебель и качаясь из стороны в сторону, словно маятник.
«Значит, всё-таки отравили! Это правда. Кожей чувствую, что правда», – он стиснул зубы и сделал кулаком выпад дзюн-цуки, целясь в поддых невидимому сопернику. От его неловкого движения скатерть съехала набок, стакан упал со стола и разбился. Не заметив этого, он продолжал метаться по комнате, яростно скрежеща зубами и выкрикивая в темноту: «Извели, уморили, гады, подонки!» Неожиданно он остановился как вкопанный перед зеркалом, с удивлением обнаружив в его тусклой запылённой глади своё отражение. Оно было всклокоченным и диким. «Ну, прямо Бетховен на смертном одре!» – хмыкнул он и вцепился пятернёй в густую нечёсаную шевелюру, словно желая снять с себя скальп.
«Может быть, всё-таки, не подсыпали? Может, сам хватанул где-нибудь? – пронеслось в сознании. – Ребёнком, помнится, он много болел. Заботливые папаша и мамаша, конечно же, пичкали его лекарствами. А ртуть-то тогда, небось, совали в каждый порошок – надо и не надо. Вот и наглотался с какой-нибудь микстурой. И, скорее всего, не один раз».
Он вернулся в кабинет, бухнулся в кресло перед компьютером и принялся судорожно шарить мышью по столу, ища подтверждения своей мысли. «Спокойствие, прежде всего, спокойствие! – урезонивал он сам себя. – Главное – не торопиться! Надо хорошенько во всём разобраться».
Поиски вернули его к началу статьи. Он откинулся на спинку кресла и углубился в чтение.
«Во время этого путешествия нас постоянно сопровождали дождь и ветер. Уже в Линце Вольфганг перенёс катар, но впоследствии, несмотря на раннее вставание, беспорядочное питание, ветер и дождь он, слава Господу, оставался здоров».[10]
Это из письма Моцарта-отца от 16 октября 1762 года. Оно написано в Вене во время первой гастрольной поездки Леопольда с Вольфгангом и Наннерль. А вот послание от 30 октября:
«21-го вечером мы были на приёме у императрицы, и уже тогда наш Вольфганг был не совсем в порядке. Позже, когда мы уехали, и потом, когда он ложился спать, он жаловался на боли в ногах и в спине. Когда он был уже в кровати, я обследовал места, которые у него болели, и обнаружил большие красные пятна, болезненные при прикосновении <…>. У мальчика начался жар, и мы дали ему выпить Шварцпульвер и Марграфпульвер».[11]
«Ага! Вот оно! Я же говорил!» – Судья зашерстил по Интернету и вскоре нашёл, что искал:
«Шварцпульвер – род пороха, химическое соединение».
Он раздражённо грохнул мышью по столу: «Чёрт знает что такое! Нахрен мне твой порох?! Мне порошок нужен!»
Следующая статья оказалась подходящей:
«Говоря о «Чёрном порошке», который представляет для нас интерес в медицинском аспекте, мы подразумеваем смесь серы, древесного угля и селитры. Современный «Чёрный порошок» имеет другой состав».

