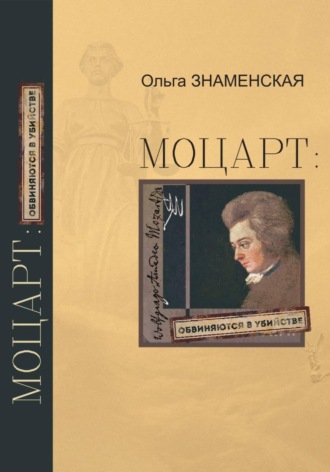
Полная версия
Моцарт: обвиняются в убийстве

Ольга Знаменская
Моцарт: обвиняются в убийстве
Об авторе

Ольга Знаменская – литературный псевдоним музыковеда и органистки Ольги Павловны Минкиной.
Жители Петербурга хорошо знают её как профессионала широкого профиля: они помнят яркие лекции и концерты Минкиной на сцене академической Капеллы им. Глинки, Большого зала Филармонии им. Шостаковича, Дома учёных Академии наук на Неве и других площадках города. Долгие годы она плодотворно сотрудничала со СМИ (на телевидении, радио и в городской печати). На протяжении нескольких десятилетий преподавала орган и историю музыки в ведущих музыкальных учебных заведениях: Консерватории им. Римского-Корсакова, специальной музыкальной школе при Консерватории, хоровом училище им. Глинки, СПбГУ им. Герцена.
Минкина получила блестящее музыкальное образование, окончив Санкт-Петербургскую Консерваторию, аспирантуру института Истории Искусств и ассистентуру-стажировку Московской государственной Консерватории им. Чайковского. Стажировалась у многих ведущих органистов мира. Доктор философии (PhD). С 1985 года регулярно выезжала за рубеж, играя до 100 концертов ежегодно в Германии, Франции, Испании, Италии, Швейцарии, Австрии, Дании, Финляндии, и т. д. Читала лекции в крупнейших институтах и университетах Европы (в том числе на музыковедческом факультете Мюнстерского Университета).
В последние годы активно проявляет себя на писательском поприще. Её перу принадлежат научно-популярные книги «Русская музыка для органа», «Музыка как терапия», «Глен Гульд», публицистический роман «Групповой портрет с органом», сборник повестей и рассказов «Острова», а также ряд публикаций в журналах Санкт-Петербурга.
Ещё раз о гениях и злодеях
И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме…
Осип МандельштамРоман Ольги Знаменской – гневный и страстный голос человека и музыканта в защиту гения, который не умел защитить себя сам.
Со времени написания Пушкиным маленькой трагедии «Моцарт и Сальери» (1830) прошло почти 200 лет. Однако до сих пор некоторым особо «озабоченным» индивидуумам не даёт покоя эта тема. Оправдать Сальери стараются все, кому не лень, и всеми доступными и недоступными способами. Пишут, к примеру, что наш А.С. разобиделся на композитора-итальянца на букву С. за то, что тот написал некую оперу, в которой уничижительно и оскорбительно изобразил Петра I. Никогда не слыхал не только этой означенной оперы, но и вообще никакой музыки господина капельмейстера на букву С.
Я считаю, что имя композитора Сальери известно только благодаря Пушкину.
А он впрямь обрёл бессмертие,В веках бесследно не исчез.В энциклопедиях проверьте,Возьмите том на букву С.Сальери. Имя вы назвали,Но как-то странно оттого,Что вы ни разу не слыхалиЗвучанья музыки его…(Леонид Хаустов)Имена многих западноевропейских композиторов я знаю с детства: Бетховен, Шуберт, Бах, Гайдн, Глюк, Шопен, Штраус и т. д… И наши – Чайковский, Мусоргский, Скрябин, Рахманинов, полагаю, тоже известны всему мировому сообществу.
Но, полагаю, не будь А.С., сегодня имя главного капельмейстера знали бы только учёные архивисты. Лично я (оговорюсь, далёкий от музыки человек) поначалу считал имя господина С. вымышленным именем героя трагедии, образом плохого завистливого и злого человека. Сегодня фамилия С. действительно стала именем нарицательным, а не собственным, подобно Каину или Бруту. Мы, естественно, не можем знать с абсолютной достоверностью, был ли тот, другой, или третий такими, какими они нам представлены и представляются. Но мы вполне вправе воспринимать их, как некие образы-символы, отвечающие за поступки своих прототипов, возможно, и не в такой степени греховных и страшных. Герострат – например. Возможно он и не поджигатель, однако попался на чём-то нехорошем, и загремело имя его в веках.
Некоторые господа даже сподобились утверждать, что Моцарт завидовал Сальери. Мне сразу смешно. Это означает, что авторы этих гипотетических теорий сами способны на такое. Сами, несчастные, завидуют более успешным товарищам по цеху. Лично я, к примеру, никогда не завидовал ни богатым, ни успешным, ни достигшим славы, ни…, да, в общем, никому. Мне и в голову бы не пришла такая нелепая мысль. О зависти самого господина С. есть неоспоримые свидетельства. Они присутствуют во многих источниках, указанных в этой книге. Можете убедиться сами.
Роман Знаменской с первых страниц напоминает знаменитые остросюжетные детективы Эрла Стенли Гарднера, разворачивающиеся в суде. Увлечённость автора передаётся читателю.
При всём огромном объёме содержащейся в книге информации, не чувствуется, что книга перегружена. Роман написан с истинно женским изяществом и утончённостью.
Интрига держит читателя в своих нежных и страстных объятиях. С первых же страниц как будто бросаешься в бурный поток и несёшься по нему, то ускоряясь, то сбавляя темп. Ищешь гавань и пристанище – ответы на начавшие «нестерпимо» мучить вопросы.
Понятно, что всё вращается вокруг зала суда, где и происходят основные события. Тем не менее, автору удалось органично включить в ткань произведения и «интермедии», касающиеся посещения Вены, и
«лирическое отступление» об истории двух молодых музыкантов, у которых обнаруживается т. н. «синдром Моцарта».
Считаясь со справедливостью, должен сказать, что сегодня существует термин – «синдром Сальери», это определение откровенно педалируется антагонистами Моцарта и, как ни странно, Пушкина. Незаслуженное обвинение – мешает спокойно жить и пребывать в ином мире. Однако в романе Знаменской никаких незаслуженных обвинений не предъявляется. Обвиняются те, кто это заслужил, и в том, что заслужили.
Не буду раскрывать детективную интригу. Но не могу не привести в подтверждение своих слов стихотворение нашей современницы Калерии Соколовой, оно чётко отражает позицию автора романа –
* * *Моцарт вырос. Он теперь не вундеркинд,а враг, соперник, конкурент.Нет аплодисментов, роз и лентТам, где зависть в беспощадном бунтеНовый обозначила акцент.Моцарт вырос. Те же лица, что – онВидел – улыбались, нынче – злы.Всюду взгляды – острые углы,И камзол в который раз заштопан,Башмаки потёртые малы.Моцарт вырос. Больше он не нуженДля увеселения двора.Не годится новая игра,Как сюрприз на королевский ужин, —Моцарта заменит мишура.(Калерия Соколова)Знаменская, кроме того, что приводит факты, ещё и глубоко чувствует психологию музыканта и субстанцию музыки. Понимание справедливости и чувство справедливости плюс достоверность свидетельств, непредвзятость суждений и осуждений – это основа романа. Никаких голословных обвинений, никаких высосанных инсинуаций. И никаких наклеиваний ярлыков.
Но суд – есть суд, пусть и не «высший» по определению поэта.
Максим ШвецЛюбовь и боль Ольги Знаменской (Минкиной)
Дуй ветер! Дуй, пока не лопнут щёки!
В. Шекспир. «Король Лир» Перевод Б. ПастернакаВетер, ветер – на всём божьем свете!
А. Блок. Поэма «Двенадцать»В мировой литературе ветер – это не одно из явлений стихии, не один из законов физики, не перемещение потоков воздуха в ту или иную сторону, в мировой литературе ветер – это символ: времени; пространства; скорости; возрождения; перемены; непокоя; небытия; непостоянства, изменчивости человеческой судьбы («Судьба людская, ты как ветер»)[1]. С одной стороны ветер – грозная, разрушительная сила, с другой – дыхание самой жизни.
В священном календаре ацтеков второй день каждого месяца обозначается знаком «ветер». У ацтеков это был день для избавления от вредных привычек. Ацтеки верили, что в день ветра необходимо предаваться размышлениям о смысле жизни, о божественном промысле.
Ветер – это живительное дыхание божества, голос Бога.
Ветхий Завет начинается с рассказа о том, как Господь в образе ветра носился над водой.
…Роман «Моцарт: обвиняются в убийстве» начинается с фразы: «Ветер! Этот проклятый ветер…<…> справа и слева, сверху и снизу». В романе от ветра не уйти, не укрыться, не спрятаться. Ветер, как шампур помидорину, пронизывает весь роман. Ветер всюду – в главе 9-й: «Ветер, опять этот проклятый ветер!» (сетует прозябший Моцарт); в главе 11-й: «Опять этот ветер» (ожидаемо сообщает Ольга Минкина). Правда, в конце романа ветер с «проклятого» меняется на ветер «фен», что, собственно, едва ли лучше?[2]
Впрочем, я – не о ветре.
Я о любви и боли Ольги Знаменской.
…Когда это случилось? В тот момент, когда Ольга Знаменская засела за эссе, чтобы воздать дань памяти и должную хвалу великому пианисту Глену Гульду?
В ту минуту, когда была поставлена последняя точка в романе-сюите в восьми частях «Групповой портрет с орга́ном»?
В те дни, когда писалась удивительно вкусная повесть «Острова»?
Ни тогда, ни тогда, и ни тогда.
Это не случается – это живёт в тебе, это сопровождает тебя; это растёт в тебе, это мучает тебя… И когда уже – невмоготу, когда уже – критическая масса, тогда: вспышка – взрыв – признание.
…Любви без боли не бывает! Любовь без боли – это, в лучшем случае, влюблённость.
Роман «Моцарт: обвиняются в убийстве» – это чаша, переполненная любовью и болью Ольги Знаменской. Любовью и болью к Моцарту, к истреблённым гениям, к Отечеству.
Роман-обвинение Ольги Знаменской – роман многоплановый, многослойный. Каждый слой требует отдельного анализа. Возможно, таковые анализы и последуют от специалистов спустя время.
Я же отмечу –
Ещё никто не писал так о Моцарте. С такой истовой любовью и мучительной болью. И оттого роман так обжигает…
И ещё: все мы маленькие Сальери.
И это тоже обжигает.
И не случайно в финале романа – собор, обращение к Господу, омовение водой (дождь идёт вечером, ночью, утром) и… как после молитвы – надежда и просветление…
Владимир КудрявцевОт автора
На протяжении 227 лет необычные обстоятельства кончины одного из самых ослепительных гениев всех времён и народов – Вольфганга Амадея Моцарта продолжают будоражить человечество. Подобно основной философической дилемме («что первично: материя или сознание?..») или гамлетовской дихотомии мышления («быть или не быть?..»), роковой вопрос «кто убил Моцарта?» высверливает зияющую дыру в сознании, которую невозможно заткнуть никакими доводами и объяснениями. Смерть Моцарта – это та непреходящая боль, та «трофическая язва», которая не залечивается, не поддаётся анестезии, не заглушается транквилизаторами.
Подобно тому, как человечество делится на верующих и атеистов, идеалистов и материалистов, оно распадается на тех, кто считает, что Моцарт был убит, и тех, кто уверяет, будто он умер своей смертью.
Автор принадлежит к первым и пытается обосновать свою позицию в предлагаемой книге.
Однако объективность требует признать, что при всём желании однозначно ответить на поставленный вопрос – как утвердительно, так и отрицательно – невозможно. Даже если мы, вняв увещеваниям одного из самых страстных исследователей – Майкла Лоренца ринемся в архивы и проведём там не один десяток лет в неустанной работе, мы вряд ли сумеем вычислить обстоятельства гибели Моцарта с той точностью, с которой вычисляют «икс» в алгебраическом уравнении. Жизнь Моцарта и его смерть – это уравнения со многими неизвестными.
Как и каждый человек, Автор оставляет за собой право на ошибку. Автор будет даже рад, если обстоятельства опровергнут его уверенность в криминальной подоплёке описываемых событий. Возможно, впоследствии жизнь распорядится по-своему и прольёт свет на обстоятельства жизни и смерти великого Моцарта. Возможно, тело его будет найдено, и тогда явное перестанет быть тайным. Автор почти уверен в том, что рано или поздно это случится. Как говорится в стихотворении немецкого поэта-романтика Адальберта фон Шамиссо, «Die Sonne bringt es an den Tag» – «Солнце прольёт на это свет».
Но пока что информация, оказавшаяся в руках у Автора, вылилась в эту книгу. Она написана в формате романа: это позволило Автору быть свободным в выражении своих мыслей, рассуждений и аргументов, а также симпатий и антипатий. Однако каждое слово, каждое утверждение и каждая ссылка в случае необходимости могут быть подтверждены Автором документально. Автор отвечает также за достоверность переводов, сделанных им лично.
В заключение Автор предлагает Читателю взглянуть на проблему в ином ракурсе. Если даже блаженные останки великого Моцарта будут найдены, если вновь открывшиеся обстоятельства точно укажут на его истинного убийцу (или убийц), снимет ли это ответственность с тех людей, которые его окружали, с тех десятков и сотен аристократов и бюргеров, которые, зная, что перед ними – гений, не пошевелили пальцем, чтобы выдернуть его из трясины повседневных неурядиц и бедствий?.. Кто виноват – отравитель, подсыпавший яд в бокал гения, или толпы обывателей, равнодушно взирающих, как их национальное достояние идёт ко дну?.. А, может быть, именно они вольно или невольно подталкивали его к краю пропасти?..
Автор надеется, что Читатель, пролиставший эту книгу, внимательно оглядится по сторонам и прислушается: а вдруг, где-то рядом с ним творит и страдает больной и обиженный Моцарт?..
Так пусть же наша протянутая рука не позволит повториться трагедии, которая совершилась 227 лет тому назад!
Предисловие
Ветер.
Этот проклятый ветер!
Интересно, в Вене бывает безветренно?!
Я кашляю, хриплю, ищу хронически неуловимый платок. Ха! Будет здорово, если Вена угробит меня, как угробила по меньшей мере десяток прославленных композиторов. Я поднимаю воротник, засовываю руки глубже в прорези карманов. Как мне укрыться от этого промозглого сквозняка, который сифонит безостановочно и беспощадно, справа и слева, сверху и снизу, выдувая последние силы и остатки здравого смысла, истребляя всякую привязанность к жизни?!
Где он набирает свою скорость и мощь, свою ледяную смертоносную свежесть? В рукавах Дуная, который здесь быстр и широк? Или на горе Каленберг, в облезлых пучках виноградника, который, как остатки спутанных волос на лысине великана, жалко топорщится и грозит улететь от первого сердитого дуновенья?
Я захлопываю дверцу машины и иду вдоль каменной стены к приземистым воротам. Этот забор из дешёвого красного кирпича, выцветший, облезлый и местами осыпавшийся, мог бы ограждать психушку или тюрьму. Он кажется бесконечным, он навевает уныние и чувство безнадёжности.
В точку. Эта стена вокруг кладбища Сан-Маркс. Того самого, где похоронен Моцарт.
Я позволяю воздушным завихрениям засосать меня в дырку ворот. Наверное, этим же путём сюда доставляют гробы с бренными останками тех, кто прежде был человеком. Впрочем, сюда уже давно никого не доставляют. Кладбище имеет статус памятника, и последние похороны состоялись здесь Бог весть когда. Но одно я знаю точно: двести двадцать три года и сорок дней назад в эти ворота въехала телега, на которой лежал гроб с телом Моцарта.
Я медленно иду по центральной алее. Грунт на ней неухоженный и неровный, местами на поверхность выступает древняя булыжная кладка. Того и гляди, оступишься и подвернёшь ногу. Справа и слева – ряды каменных памятников, вернее, того, что когда-то ими было. Сегодня это пожелтевшие, грязные, поросшие мхом надгробные плиты – вытянутые прямоугольники со сколотыми краями, облупившиеся, завалившиеся набок или вовсе рассыпавшиеся в прах. Они напоминают мне гнилые зубы знакомого лютеранского пастора. Чувствуется, что их давно не касалась заботливая рука: нет никого, кто бы пришёл посадить цветы, а потом – чтобы полить их, чтобы смести пыль со стёртых надписей и пожалеть о нём, сердечном, и помянуть добрым словом.
Злой ветер кидает в лицо прошлогодние листья. Их никто не собрал, и они мечутся между могил, усиливая впечатление заброшенности и бесконечного одиночества.
С каждым шагом мой пульс стучит всё сильнее. Ну, где же, когда же?.. Вот, сейчас, вот, за поворотом… И, наконец, удар в самое сердце: кривой указатель с надписью – «Могила Моцарта».
Я хватаю ртом воздух и готовлюсь заплакать. Но где же, наконец, где же?!..
Передо мной ровная поляна. Тут и там – раскидистые деревья. На переднем плане – одинокая инсталляция: обломок колонны и притулившийся внизу, обнимающий её ангелок-путто. И надпись: Моцарт.
Три пучка вереска. (Такой же растёт у меня в саду. Я купила его ввиду крайней дешевизны и неприхотливости). Апельсин и конфетка, положенные чьей-то доброй рукой.
И всё.
Это всё.
Всё, чего удостоился Моцарт – один из самых ослепительных гениев, когда-либо живших на земле. Всё, чем смогли отблагодарить его потомки. Всё, чем Австрийское государство сочло необходимым увенчать могилу человека, ценность которого для мира значительно перевешивает его собственную. Всё, на что расщедрилось человечество в благодарность за ту россыпь божественных откровений, которыми он их осчастливил.
Да полно, здесь ли он?! Ведь могилу так и не нашли. Правда, однажды вдруг возник такой спонтанный порыв: всё перерыли, перекопали, вытряхнули чьи-то кости и череп, расшумелись, состряпали какую-то экспертизку, растревожили, разбудили надежду… Всё напрасно, оказался не тот. Не он.
Но где же тогда ОН?..
Растерянно оглядываюсь вокруг: «Где ты, Моцарт?!» Напрягая все свои силы, безмолвно кричу: «Где ты? Отзовись, откликнись!»
Нет ответа.
Иду по общипанной прошлогодней траве, вслушиваюсь и всматриваюсь, бужу в себе экстрасенса, жду – когда же он вспыхнет во мне, тот непередаваемый внутренний трепет, который подскажет: здесь!
Но его нет.
Я вспоминаю, как в церкви святого Фомы в Лейпциге меня вдруг охватила нервная дрожь небывалой силы. Меня словно посадили на электрический стул и пропустили через него разряд в тысячу вольт. Я мгновенно поняла, почувствовала: Он был здесь, мой Бах! Это Его космическая сила, Его Божественная энергия пронзили меня насквозь. Каков же был Он раньше, если сейчас, оставаясь в этих стенах лишь фантомно, в виде неясной тени, Он способен был вызвать во мне такую реакцию?!
Сегодня моё сердце молчало.
Но как, как это могло случиться?! Привезли, свалили в общую яму. За гробом – никого. Только старик-могильщик да кладбищенская лошадёнка. И ветер. Пронзительный декабрьский ветер.
Хочется кричать, рвать на себе волосы. Кататься по земле, выть, биться головой о надгробные плиты.
Увы. Не поможет.
Как такое могло произойти?! Кто виноват?! Кого судить сегодня за смерть и исчезновение с лица земли того, кто был сыном Божиим от музыки, ослепительным солнцем, чудом из чудес, одним словом – Моцартом? Кого поставить к позорному столбу, с кого спросить?.. Кто ответит, кто заплатит?..
…Так и ушла я с кладбища Сан-Маркс, унося в душе ядерную бомбу этих вопросов.
Бомбу, которая рано или поздно должна была взорваться.
Глава I. Суд
Большая зала Исторического суда была до отказа заполнена публикой. Сотни людей, спрессованных в рядах и междурядьях, жмущихся по двое и по трое на узких деревянных стульях, застывших в проходах, забившихся в оконные и дверные проёмы, казались огромной бесформенной массой, которая колыхалась, дышала, скрипела, шуршала и излучала жадное, голодное любопытство.
За окном сиял пронзительный майский день. Запылённые стекла старинного особняка не могли испортить роскошной петербургской перспективы: вскрывшаяся из-подо льда чернильно-синяя Нева торопилась унести осколки белоснежных айсбергов, от одного взгляда на которые начинали болеть зубы; за ней открывалась стрелка Васильевского острова с античным портиком Военно-морского музея, обрамлённым росчерками Ростральных колонн, а рядом змеилась ломаная горизонталь Петропавловской крепости, увенчанная протыкающей небо золочёной рапирой Петропавловского собора.
Ждали начала слушаний по делу Моцарта и Сальери. Ввиду смерти обоих фигурантов и отсутствия родственников, правоохранительные органы вынуждены были утвердить институт представителей. Представителем истца была я.
Именно я подала этот иск и тем самым инициировала судебный процесс, который ещё вчера казался невозможным. Чиновник, принимавший документы, долго мурыжил меня по поводу ответчика: ввиду недоказанности вины Антонио Сальери сам факт иска ставился под вопрос. Честно говоря, у меня тоже имелись сомнения на этот счёт, но выхода не было. Ибо, как известно, нет иска – нет суда. А суд мне был нужен.
В левом углу зала, отгородившись от всех большим портфелем, словно не замечая присутствия толпы, застыл мой оппонент – представитель Сальери. Это был некто Лаузов, пианист, директор одного из солидных концертных залов. Его красивое, бледное, словно напудренное, лицо казалось застывшей маской. Чёрные очки ещё больше подчёркивали этот эффект. Я исподтишка разглядывала его, пытаясь уловить хотя бы тень волнения в его точёном профиле. Вот он поднял руку и провёл ею по коротким иссиня-чёрным вьющимся волосам. «Ага! Нервничает!» – довольно констатировала я и мысленно встала в «стойку», приводя себя в боевую готовность.
Рядом с представителем ответчика группировались историки и музыковеды. Они громко переговаривались, перебивая друг друга и бурно жестикулируя. Среди них я узнала академика Боркина, специалиста по западноевропейской музыке, и нескольких «моцартоведьм»: сильно постаревшую Аллу Раухенберг, Елену Коршунову с её знаменитой лысиной, наспех прикрытой жидкой волосяной подушечкой, и мою бывшую однокурсницу Ирину Кубареву. Заметив, что я смотрю в их сторону, она помахала мне рукой, а её собеседницы замолкли и учтиво наклонили убелённые сединами головы.
За музыковедами разместились композиторы. Их было много; они тоже вели себя непринуждённо и шумно, будто находились не в суде, а на заседании художественного совета. Вице-президент Союза композиторов и мой добрый друг Борис Введенский втихомолку попыхивал сигаретой и сквозь приспущенные очки, будто сквозь лорнет, разглядывал женщин. Огромный, похожий на добродушного бегемота Ованесов лучился младенческой радостью и сиял пухлыми румяными щеками. Угрюмый, похожий на Мефистофеля Грюнблат, напротив, брызгал сарказмом и слюной в сторону своего визави, Михаила Задорожного. Старый, готовый вот-вот рассыпаться в прах Кожевников что-то писал на листе нотной бумаги: наверное, сочинял.
Справа от центрального прохода в передних рядах разместились медики. В основном, это были женщины. Их можно было сразу же вычислить по усталым неухоженным лицам, за которыми угадывались ночные дежурства, бесконечная прогрессия неразрешимых проблем, рабочие и домашние неурядицы. Неряшливо одетые и наспех причёсанные, они вели себя сдержанно, но по-хозяйски: исподтишка осматривали присутствующих, видимо, привычно определяя, кто из них болен, а кто здоров.
Дальше шумела и волновалась разномастная толпа: тут были журналисты с фотоаппаратами, киношники с камерами, музыканты и прочий образованный люд, желающий поучаствовать в шоу, а заодно пощекотать нервы гробокопательством и прикосновением к тайне, казавшейся давно заплесневелой и присыпанной пылью столетий.
В центре зала на подиуме, за длинным столом, будто орёл в курятнике, восседал судья. Он был ещё в штатском платье и без парика. Его усталое морщинистое лицо выглядело нахмуренным и недовольным. Он перебирал лежавшие на столе бумаги и методично поворачивал голову то вправо, то влево, делая вид, что просматривает их (сквозь висящие на кончике носа очки), а на самом деле тайком наблюдая за публикой (поверх очков). Видно было, что он тянет время. Предстоящее дело казалось ему смутным и небезопасным и сулило мало хорошего, независимо от того, каким мог оказаться его исход. Краем уха я слышала, что в далёком прошлом он был музыкантом, и это вселяло надежду, по крайней мере, на обстоятельность процесса.
Прямо пред судьёй, по обе стороны прохода, громоздились две кафедры. Одна из них предназначалась для прокурора, другая для защитника. Эти главные действующие лица судебного театра уже успели облачиться в свою «спецодежду»: оба были в мантиях и париках. Видимо, в них они чувствовали себя увереннее. Прокурор был моим давним приятелем. Зная, как важна эта фигура в коварной игре, именуемой судом, я заранее позаботилась о том, чтобы мне не подсунули какого-нибудь продажного сутягу. Виктор Кудряшов был талантливым оратором и кристально честным человеком. Именно таким должен быть прокурор.
Адвокат был мне неизвестен. Я оглянулась на дверь, на которой красовалась табличка с именами участников процесса, и прочитала: «Защитник Елена Стоцкая». Женщина! Этого я не ожидала. Впрочем, какая разница?.. В таком облачении трудно распознать представительницу слабого пола. В конце концов, в суде все лишены пола и возраста. Такое уж гиблое место.

