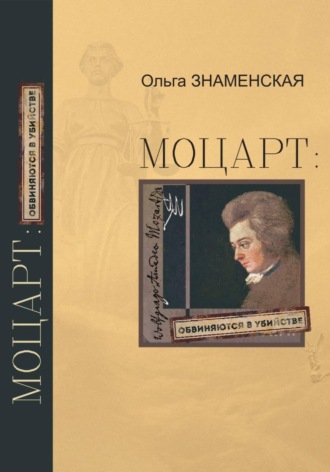
Полная версия
Моцарт: обвиняются в убийстве
Гомилиус снял очки и закрыл книгу, из которой была изъята цитата. Его лицо без очков казалось совсем детским и беззащитным, но глаза при этом горели огнём восторга и вдохновения.
– Юный Моцарт, наряду со своими достижениями пианиста, скрипача и органиста, поражал людей также и другими сторонами своего дарования. В концертах и светских собраниях он не только играл с листа итальянские и французские сонаты и арии, но и транспонировал их в другие тональности. Это предполагает совершенное владение искусством генерал-баса, которое сегодня практически утрачено. Он мог также экспромтом саккомпанировать певцу итальянскую каватину, бас которой был ему неизвестен, и, повторяя несколько раз куплет, всё время заново импровизировал сопровождение. Но что важнее всего – он постоянно демонстрировал мастерство свободной импровизации: искусство, которое тогда было в расцвете, а нынче почти совершенно утрачено.
– Детей повсюду встречал ошеломительный успех. Их представляли коронованным особам, их принимали короли и курфюрсты, их баловали, ласкали, заваливали подарками. Правда, уже тогда Леопольд Моцарт был скептичен. Он часто повторял, что предпочёл бы скромный гонорар очередным карманным часам или табакерке, которых накопилось немало, в то время как с деньгами по-прежнему было туго.
– Но главное заключалось даже не в сногсшибательной виртуозности, которой поражал публику чудо-ребёнок. Самое ценное таилось в его крепнущем день ото дня композиторском гении. Уже тогда количество сочинений юного маэстро перевалило за несколько сотен. Его плодовитость была поистине непостижима. Если вести отсчёт от первых опусов (Леопольд начал их нумеровать, когда сыну исполнилось четыре года), за неполные тридцать лет он написал более шестисот произведений. Среди них двадцать опер, балет-пантомима, девятнадцать месс, шесть кантат, Реквием, четыре литании, две вечерни, оратория, около пятидесяти симфоний, двадцать семь концертов для фортепиано с оркестром, концерты для двух и трёх фортепиано с оркестром, рондо для фортепиано с оркестром, пять концертов для скрипки с оркестром, рондо для скрипки с оркестром, концерты для двух скрипок, концерт для скрипки и альта с оркестром, концерты для флейты, гобоя, кларнета, фагота, валторны, для флейты и арфы с оркестром, серенады и дивертисменты для оркестра (в общей сложности сорок одно произведение), всевозможные пьесы для оркестра, двадцать восемь квартетов, квинтеты, трио и дуэты, тридцать пять сонат для скрипки и фортепиано, девятнадцать сонат для фортепиано, пятнадцать вариационных циклов, многочисленные рондо, фантазии и прочие пьесы, семнадцать сонат для органа и струнных инструментов, свыше пятидесяти арий, ансамбли, хоры, песни, музыка к драматическим постановкам и ещё десятки произведений, перечислить которые просто не хватит времени.
Последние фразы докладчик читал на непрерывном «крещендо»[5], пытаясь перекрыть голосом непрерывно растущий гул в зале. Это ему плохо удавалось. Люди жужжали, как роящиеся пчёлы; несколько человек встали со своих мест и покинули помещение; кто-то громко выкрикнул «Хватит!». Гомилиус поперхнулся очередной тирадой и замолк, растерянно оглядываясь по сторонам.
Его давно уже никто не слушал. Он перевёл дыхание. Казалось, изо рта и из ушей у него валит пар. «Спокойно, спокойно! Не горячись. Всё в порядке! Они просто не в состоянии вместить всей информации», – мысленно подбодрила я его. Будто услышав мои слова, профессор кашлянул, приосанился, пригладил ладонью редкие седые букли и направил взор в сторону представителей правосудия, в замешательстве переводя его с судьи на прокурора и обратно. Судья выстукивал на зелёном сукне стола какой-то ему одному ведомый ритм, выставив вперёд нижнюю челюсть и угрюмо глядя прямо перед собой. Прокурор с каменным лицом перекладывал бумаги с места на место. Пауза длилась несколько мгновений, потом судья очнулся и выдавил из себя многозначительное:
– М…да-а-а…
Никто не понял, что должно было означать это скупое междометие. Словно отвечая на немой вопрос в глазах Гомилиуса, прокурор повторил вслед за судьёй, но с железной интонацией в голосе:
– Да. Согласен. Всё это очень впечатляет. Скверно лишь то, что это не имеет никакого отношения к делу. Вы меня разочаровываете, уважаемый профессор. Я просил вас о конкретике, а вы продолжаете кормить нас своими восторгами, как тинейджер. Поймите же: мы в суде, а не на уроке музыкальной литературы. Обвинению нужны факты и доказательства!
– А это что, не факты?! – взвился Гомилиус. – Не бомжа какого-нибудь угрохали, а гения из гениев!!! Какой ущерб понесло человечество?!.. Кто ответит, кто оплатит?!..
– Ну, хорошо, хорошо, успокойтесь! – примирительным тоном остудил его судья. – И всё же, давайте ближе к сути. Гениальный мальчик, заботливый отец… Или просто безжалостный менеджер?.. Пока не могу ответить на этот вопрос, не разобрался. Но каким образом, объясните мне, этот гений с высот Олимпа скатился в ту самую пропасть, о которой вы говорили?.. Книжки-то я читаю, не совсем тёмный и необразованный. Сам когда-то музыке учился, кое-что помню! Так вот: как возник прецедент, этот чудовищный нонсенс?.. Божественный чудо-ребёнок исчез, вместо него появился нищий, никому не нужный, безработный музыкант!
– В том-то и дело, Ваша честь, что я сам этого не понимаю. Думаю, что и никто не понимает.
Зал отреагировал на его слова взрывом язвительного смеха, который должен был означать: «Если ты ничего не понимаешь, зачем людям голову морочить?.. Эксперт хренов!..»
Гомилиус понял намёк и смутился. Прокурор поморщился. Судья постучал ладонью по столу:
– Тише, господа, тише!.. Итак, факты и ещё раз факты. Вы можете их предъявить?..
– Попробую. Только позвольте мне…
Гомилиус замешкался, сошёл с кафедры и принялся рыться в толстенной сумке, оставленной на стуле. Прошло несколько минут, а он всё ещё не мог найти того, что искал. Он вытаскивал из бездонного чрева своего портфеля кипы бумаг, бросал на них быстрый косой взгляд и снова принимался за поиски.
Судья смотрел на него сквозь приспущенные очки. Прокурор хмурился. В зале вновь раздалось тихое хихиканье.
– Вот! Нашёл.
Гомилиус торжествующе поднял над головой какие-то листки и величественно прошествовал на кафедру. В экстазе он не заметил последней ступеньки и споткнулся о неё, едва не свалившись с подиума. Зал взорвался громовым хохотом.
– Всё-всё-всё, – раздражённо затрезвонил судья. – Готовы, господин профессор?.. Ну, так мы вас слушаем.
Глава III. Начало
Музыка вошла в мою жизнь очень рано. Иногда мне кажется, что она родилась вместе со мной.
В семье много музицировали. Дедушка держал ложу в Мариинском (тогда Кировском) театре, и мама знала наизусть весь оперный репертуар. Она постоянно что-то напевала, а после рассказывала мне затейливые сюжеты оперных либретто. Тётя играла на рояле. Вначале она всегда тренировала технику, разучивая гаммы. Обычно я пряталась под огромным бильярдным столом и оттуда наблюдала за процессом; но иногда устраивалась у неё за спиной, следя как заворожённая за тем, как бегают пальцы, расходятся и снова сходятся руки. Кипы старинных потрёпанных нот пахли сладостной тайной: на них чёрной каллиграфией было выведено нечто непонятное, вроде «Тидеманъ Саратовъ» или «Юргенсонъ и сынъ».
Летом меня вывозили на дачу в Левашово. Огромный старинный дом, почерневший от времени, со множеством затейливых башенок и мезонинов, распластался, словно спрут, по бескрайнему неухоженному участку. Трава была в мой рост, в цветах можно было заблудиться. Оттуда я вынесла три ярких воспоминания, которые навсегда врезались в мою память.
В жаркие дни мне ставили таз с водой, у которого я проводила время вместе с пластиковыми уточками и рыбками. Кукол у меня не было, поэтому, когда у соседской девочки завелась огромная заводная красавица, она показалась мне феей. Кукла закрывала и открывала глаза и говорила «мама». Девочка была меньше своей куклы. Она с трудом таскала её за собой, никому не давая к ней прикоснуться.
Помню, как однажды мы сидели на корточках друг напротив друга, и противная девчонка дразнила меня, всё время наклоняя куклу, так что та беспрестанно мяукала: «Мау-мау-мау». Я подошла и хотела погладить фею по шёлковым волосам, но маленькая хозяйка зажала её между ног и стиснула, что было силы. Тогда я взялась за куклину голову и потянула к себе. Внутри что-то хрястнуло, и голова отскочила, оставшись у меня в руках.
Девчонка заорала так, что в ушах у меня защемило от боли. Не переставая истошно вопить, она затопала ножками к выходу, а я в растерянности осталась стоять с куклиной головой в руках.
Через некоторое время девочка появилась за ручку со своей мамой, которая тоже надсадно кричала и требовала позвать родителей.
«И.о.» родителей в этот день была бабушка. Она спокойно слушала вопли соседки и брань, из которой я не поняла ни слова. Помню только, как они стоят у стены, на которой висит картина «Девятый вал», женщина истошно кричит и размахивает руками, а бабушка согласно кивает головой.
От этого женщина быстро успокоилась и ушла, а бабушка подошла ко мне, погладила по головке и сказала:
– Ну, иди, деточка, играй!
И я побрела прочь, унося в душе смутное чувство бабушкиной святости.
Второе воспоминание было связано с небесным явлением, которое оказалось моей мамой.
Если я не сидела рядом с тазом, то возилась в песочнице за калиткой. Как-то раз, застыв в позе лягушки (это была моя любимая поза) над своими куличиками, я вдруг увидела, что по улице плывёт существо неземной красоты: белый сарафан с огромными подсолнухами, прелестное лицо с милым и нежным рассеянным выражением глаз в обрамлении каштановых кудрей, плавные, словно парящие движения… Вроде как бы я знала, что это моя мама, но божественная сущность этого создания была столь очевидна, что я в первый момент постеснялась проявить свой собственнический инстинкт, и лишь спустя несколько мгновений бросилась к ней с распростёртыми руками и криком радости.
Третье потрясение, испытанное в том же Левашово, было вызвано Моцартом.
Я всё так же по-лягушачьи копошилась в той же песочнице, когда меня вдруг накрыло, словно океанской волной, россыпью незнакомых звуков. Видимо, они доносились из нашего радио, но тогда мне показалось, что это взорвался воздух вокруг меня. Поток звуков был головокружительно быстрым, он захлестнул меня с головой, оторвал от земли, опрокинул, закрутил и понёс в потустороннее звуковое пространство, в котором не было ничего, кроме этой волшебной музыки. Её необъяснимая, совершенная гармония пронзила моё детское сердечко насквозь; мне казалось, что оно разорвётся, не сумев вместить этого огромного, бесконечного совершенства, этой надрывной красоты, в которой сладость и боль, счастье и слёзы смешивались воедино.
Когда радио смолкло, я побежала в дом, чтобы узнать – что это было?.. Извержение вулкана?.. Девятый вал?.. Вспышка на солнце?.. Космический вихрь?.. Нет: это был «Турецкий марш» из ля-мажорной сонаты Моцарта.
Так Моцарт ворвался в мою жизнь.
Много позже, когда я уже училась в специальной школе при Консерватории, мне предстояло вновь пережить шок от соприкосновения с музыкой Моцарта.
В шестом классе к нам пришла необычная учительница по музыкальной литературе. Замечательным было уже её имя, состоящее, казалось бы, из несочетаемых элементов: Эсфирь Израилевна Баранова. Удивительной была и её методика преподавания, а точнее, полное отсутствие таковой. Она могла целую четверть подряд рассказывать нам о первых двух тактах оперы «Борис Годунов», а потом за пятнадцать минут объяснить всю оставшуюся партитуру. Она могла просто так, без предупреждения, не явиться на урок, и, когда мы, растерянные, брошенные на произвол судьбы и потому вовсе не радовавшиеся своей свободе, отправлялись бесцельно бродить по школе, то вдруг неожиданно сталкивались с ней у дверей столовой. Она, с пакетом пирожков в руках, не глядя на нас и даже, кажется, нас не узнав, произносила механическое «Здрассс…» в ответ на наше ошеломлённое «Здравствуйте, Эсфирь Израилевна!» и шла мимо, оставив нас стоять в полном шоке. Она рядилась в немыслимые кофточки, состиранные до цвета половой тряпки, место которым было на ближайшей помойке, а на чулках у неё красовалась обязательная дырка. Но её профиль под наспех приглаженной, перекисно-блондинистой шевелюрой поразительно напоминал о Моцарте, а большие выпуклые глаза смотрели так серьёзно, так вдумчиво, что позволяли подозревать о какой-то коснувшейся её, нам неизвестной трагедии. И вот эта безалаберная, придурковатая, не от мира сего Эсфирь Израилевна так рассказывала нам о музыке, как мне никогда и ни от кого впоследствии не приходилось слышать. Она вынимала из музыкального произведения самую суть, она поворачивала наши глаза в его сердцевину, заставляя понять то, что без неё мы никогда бы не поняли.
Чтобы избавить себя от преподавательского бремени, Эсфирь Израилевна давала нам темы для докладов. Мы готовились, потом по очереди докладывали, а она слушала и комментировала. Иногда она прекращала свои комментарии и погружалась в какую-то прострацию, и тогда мы позволяли своему Пегасу носиться, как угорелому, по бескрайним просторам школьного курса музыкальной литературы.
Но, Боже мой, что это были за темы!.. Мне, например, досталась такая: «Верил ли Моцарт в Бога? Доказать на основе Реквиема».
И вот я, тринадцатилетняя дурёха, взялась за глыбу, поднять которую было под силу не каждому доктору наук.
Надо сказать, училась я отлично. При этом я не была эдакой вымученной отличницей, часами мусолившей учебник до его полного растерзания. Я была залихватской всезнайкой, самоуверенной до наглости, приводившей учителей в коматозное состояние своими «всеобъемлющими» познаниями, которые на самом деле были весьма поверхностными, наспех надёрганными из дополнительной литературы, которую я глотала тоннами, с тем, чтобы потом, в классе, что называется, «блеснуть».
В дополнение к урокам музлитературы нам полагались часы для прослушивания музыки. В ближайший день по расписанию я отправилась в кабинет звукозаписи и попросила Нонну, музыкального техника, включить мне Реквием Моцарта. Вместе со мной потянулись Ирка Баскина и Полька Шевлягина: они, как маленькие рыбки рядом с китом, старались всегда держаться ближе ко мне, чтобы облегчить свою школьную участь. Старенькая виниловая пластинка закрутилась, затрещала, и из неё полилась музыка.
Точнее, это была уже не музыка. Вдруг запульсировали, задышали скрипки; будто с перебоями, спазматически заработало чьё-то больное сердце. Заколыхалось и завибрировало какое-то смутное, тёмное и неясное пространство, которое мгновенно выдернуло меня из материального мира и перенесло в некую параллельную реальность. И вдруг где-то в самом низу, во мраке этой пульсирующей бездны глухо и утробно зазвучал фагот. Призрачным эхом отозвался бассетгорн, за ним второй. Они предвещали смерть, они уже отпевали кого-то. А потом неожиданно – острая вспышка боли, крик отчаяния, мольба о спасении. Холодная погребальная медь: тромбоны – как приговор, как гвозди в крышку гроба. В ответ заныли, застонали скрипки, забилась и заметалась изломанная страданием душа, боясь оторваться от тела. Вот к духовому составу присоединился хор, надвигаясь несокрушимой стеной на нежную измученную субстанцию, не пуская её биться и трепетать перед огненным призраком смерти… Но внезапно будто луч света пронзил давящую, безнадёжную темень: это ангельское сопрано славило и благодарило Бога. А Бог – вот Он, тут как тут, будто говорит нам: «Что, испугались?!.. А грешить вы не боялись?! Жить без Бога, в скверне, суете и тщеславии не страшно?! Возмездия, вот чего вы страшитесь! И вам его не избежать!»
…Да нет, это не Бог, это церковь пугает нас так. А Бог – Он всемилостив, Он никого не карает. Слышите, как жалобно молят тоненькие голоса: «Сальва ме! Помилуй мя!» Но спасения нет: страшно зияет адская бездна, поглощая тела грешников. И плачет, бьётся слабая человеческая плоть, пытаясь скрыться от жуткой неизбежности. Вырваться, убежать, подняться с колен! Вздохнуть в последний раз! Вверх, к небу, к Нему, к Творцу, создавшему нас, а после нами же безжалостно поруганному, оболганному и забытому. К Нему, к Нему! Вот Он, уже близко, смотрите, как сияет Его бесплотный Предвечный Свет!..
Увы – не взлететь, не спрятаться, не надышаться. Никнет больное тело, придавленное тяжестью бренного бытия, уступая натиску смерти. И тогда, наконец, чистая и невесомая душа отрывается от истерзанной больной плоти и растворяется в этом Предвечном Свете…
* * *Прозвенел звонок, и Нонна остановила пластинку. Я поднялась со стула. Вернее, это была уже не я. Я пришла сюда ребёнком, а уходила абсолютно взрослым, зрелым человеком. Тем, которым остаюсь до сего времени.
Выйдя из кабинета звукозаписи, я направилась в библиотеку. Ирка и Полина метнулись за мной:
– Ты куда?! У нас же сейчас физика!
Я не слышала их. Изъяв с полок всю литературу о Моцарте, я несколько пришла в себя и вернулась к реальной жизни.
Урок физики был уже в полном разгаре, когда я появилась на пороге, сгибаясь под тяжестью двух десятков книг. Нина Георгиевна бросилась ко мне:
– Ты в состоянии?..
Понимай так: во время переклички на вопрос: «А где же Знаменская?..» – девчонки выдали что-то вроде, – «Она сейчас не в состоянии».
Я бросила кипу книг на парту и плюхнулась на стул. Нина Георгиевна с искренней заботой склонилась ко мне:
– Деточка, с тобой всё в порядке?.. Ты в состоянии?..
Я кивнула, и через минуту уже тянула руку, вызываясь решить трудную задачку.
С этого дня я стала жить с Моцартом, как живут с близким человеком. Мой дядя Лёня, художник, нарисовал по моей просьбе его портрет. Я повесила его над кроватью и теперь засыпала и просыпалась с Моцартом, как люди, живущие без электричества, засыпают и просыпаются с солнцем.
Солнце моей жизни – Моцарт.
Глава IV. Опала
– Леопольд Моцарт справедливо полагал, что маленький провинциальный Зальцбург тесен для его гениального сына. Поэтому нет ничего удивительного в том, что он пытался заблаговременно решить проблему его дальнейшего трудоустройства за пределами родного города.
По тону Гомилиуса я поняла, что он настроен решительно. Он пригладил остатки седых волос на голове, а вместе с ними и непокорные эмоции, застегнул все до одной пуговицы на сюртуке, тем самым словно заделав щели и амбразуры в своей крепости (чтобы врагам некуда было пускать отравленные стрелы), и двинулся в атаку на правосудие.
– Ещё во времена юности Вольфганга отец возобновил переписку с итальянским композитором Падре Мартини, обещавшим походатайствовать о достойном месте в Италии. Однако обращение к эрцгерцогу Фердинанду вызвало противоположный эффект. 12 декабря 1771 года появилось знаменитое письмо Марии Терезии, в котором она высокомерно убеждает сына никогда не принимать участия в судьбах «никчемных людей подобного рода». Позволю себе его процитировать: «Вы спрашиваете меня, не взять ли вам на службу молодого зальцбуржца. Не знаю, не думаю, чтобы Вы нуждались в композиторе или в других бесполезных людях. Тем не менее, если Вам это доставит удовольствие, я не стану Вам препятствовать. Однако если я говорю об этом, то лишь для того, чтобы Вы не обременяли себя никчемными людьми и никогда не тащили людей подобного сорта к себе на службу. Это принижает уровень вашей обслуги, когда подобные люди носятся по свету, как нищие; кроме того, у него большая семья»[6].
– Многие исследователи жизни и творчества Моцарта полагают, что именно это письмо решило судьбу Вольфганга Амадея, и я с ними совершенно согласен. По сути, это был приговор. Сегодня трудно поверить, что императрица удосужилась потратить своё драгоценное время на то, чтобы уничтожить карьеру мальчика, находящегося на противоположном конце сословной лестницы. Если она увенчивала собой придворную пирамиду, то «разночинец» Моцарт болтался где-то глубоко внизу, так что сверху ей трудно было его даже рассмотреть. И, в то же время, факт написания письма свидетельствует о том, что молодой Моцарт был для неё реальной знаковой единицей. Остаётся только гадать, какую опасность видела она в начинающем композиторе?.. Чем он мог так восстановить её против себя, что она не пожалела сил и времени, чтобы его потопить?..
– Не скрою: я много думал о причинах, вызвавших написание этого документа. Одно из трёх: либо её настроил основной работодатель Моцартов, который был раздражён их постоянными отлучками, либо ей что-то нашептали придворные, либо в ней внезапно вспыхнула некая природная антипатия, породившая впоследствии прямой антагонизм. Первую причину я сразу же отклоняю: престарелый Сигизмунд Шраттенбах, бывший в то время князем-архиепископом Зальцбурга, относился к юному Моцарту крайне доброжелательно, и даже, можно сказать, гордился его успехами. Он никогда не чинил препятствий гастрольным поездкам и участиям в междугородних проектах. Отсутствие Вольфганга не злило его, а, скорее, льстило его самолюбию: ещё бы – среди его подданных завёлся гений! Как раз в декабре 1771 старик занемог и вскоре скончался, а его преемник – граф Иероним фон Коллоредо, ставший впоследствии лютым врагом Моцарта, ещё не успел взойти на престол. Так что с этой стороны опасаться наговора было нечего. А вот второе и третье обоснование кажутся мне вполне реальными. Конечно же, растущая не по дням, а по часам гениальная одарённость мальчика не могла не пугать придворных музыкантов. Ещё бы: не ровен час, так и место потерять можно! Вот и болтали они направо-налево небылицы о Леопольде и его выдающемся сыне. Не хочу здесь произносить всех гадостей, которые витали тогда в воздухе; желающие сами могут поинтересоваться в источниках.
– Что особенно могло раздражить императрицу? То, что её подданные не довольствуются местами службы, предоставленными им свыше, а осмеливаются сами выбирать себе суверена? То, что мальчик позволял себе говорить с ней, как с равной? Или его острый не по рангу язык? Может, некто передал ей колкие шуточки, отпущенные по её адресу, заведомо приукрасив их? Или её разозлил контраст между ослепительной гениальностью юноши-Моцарта и посредственностью её собственных детей? Так или иначе, но она поставила барьер на пути молодого композитора, который он так и не смог перескочить.
– И поехало. Первое же обращение к эрцгерцогу Леопольду Флорентийскому не принесло результатов. Все последующие годы с неотвратимой неизбежностью повторялась та же история. В 1777 году молодой Моцарт предлагает себя Мюнхенскому курфюрсту Карлу Теодору, но тот либо осознанно, либо по расслабленности не замечает этого. Попытки получить должность в Аугсбурге также ни к чему не привели. В Хоэнальтхайме Вольфганг надеется устроиться при дворе князя Крафта Эрнста фон Эттинген-Валлерштайна. Вотще. В 1778 году он ходатайствует о месте при дворе принцессы Нассау-Вальбургской. Но та берёт под своё крыло пассию Моцарта Алоизию Вебер, а Моцарту отказывает. В Париже Вольфганг обдумывает предложение занять пост королевского органиста в Версале, однако не подозревает, что этой перспективе не суждено осуществиться из-за вмешательства Георга III, который так же, как Мария Терезия, является его непримиримым противником.
– На горизонте вновь маячит постылый провинциальный Зальцбург. 17 января 1779 года новый архиепископ Иероним Коллоредо зачисляет Вольфганга на службу в качестве концертмейстера и придворного органиста с годовым окладом 450 флоринов (35 флоринов в месяц). Все последующие годы Моцарт совершает судорожные попытки устроиться на постоянную службу где-нибудь подальше от Зальцбурга: увы, так же безуспешно, как прежде.
– Осенью 1781 года по Вене распространился слух, что император берёт Вольфганга в штат. Этот слух вскоре достиг Зальцбурга и весьма обрадовал Леопольда. Но радость была преждевременной: эту должность вскоре занял Сальери.
– В 1782 году Моцарт активно включился в организацию «Променад-концертов», которые проходили в Аугартене. Его первое выступление прошло успешно, однако, тем дело и закончилось. Он твёрдо рассчитывал получить место преподавателя у принцессы Элизабет. Однако всемогущий Сальери отдал его некоему Зуммеру. Он попытался устроиться на службу к Алоису Лихтенштейну, организовавшему в своём имении регулярные концерты духовной музыки. Напрасно! Из этого тоже ничего не вышло.
– После успешной премьеры «Похищения из Сераля» бедняга уверен, что место при дворе ему обеспечено. Но он вновь обманут в своих ожиданиях. Тогда он начинает предпринимать попытки отъезда за границу, надеясь устроить свою жизнь в Англии или Франции. С этой целью он повторяет французский язык и совершенствует английский. Не пригодилось: надеждам не суждено было осуществиться.
– 7 декабря 1787 года Моцарта назначают на должность «императорского придворного камер-музыканта» с окладом 800 флоринов в год. «Слишком много за то, что я делаю, и слишком мало за то, что я мог бы сделать», – с сожалением констатирует Моцарт. Танцы для императорских балов, музыка «на случай», бирюльки для карманных часов и табакерок – вот то, чего от него ждут. Это была первая и единственная подачка, которую австрийские Габсбурги кинули ему со своего стола. У него впереди оставались ровно четыре года, чтобы в полной мере насладиться щедротами монаршей фамилии.

