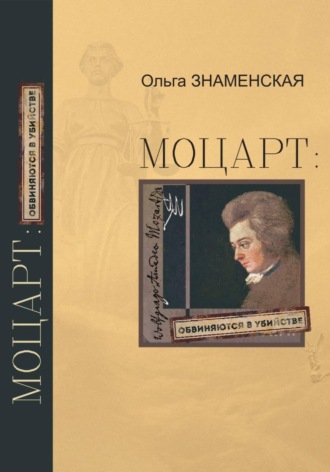
Полная версия
Моцарт: обвиняются в убийстве
– Господин… эээ… Почобут, вы свободны, – Судья указал палкой от гонга в сторону двери. – Всё-всё-всё! До свидания!
Последней репликой он пресёк непреклонное желание сторонника сифилитической версии внедрять свою идею.
В зале вновь поднялся невообразимый шум. Но Судью, казалось, он больше не раздражал. Он застыл, уставясь невидящим взглядом прямо перед собой. Потом вдруг резко скрипнул стулом, плеснул фалдами мантии и вознёсся, как Фемида, над бушующей толпой:
– Перерыв!
Глава VIII. Наследники Гиппократа
В судейской было накурено и тесно. Сквозь мутное, сто лет не мытое окно в комнату вливался синий майский свет с Невы, густо разбавленный солнцем. Его прямые лучи, как шампура, нанизывали на себя клубы густого сигаретного дыма. Набирая обороты, настойчиво шумел электрический чайник; за перегородкой, сооружённой из шкафа, стучали клавиши компьютера.
Судья распластался в большом кожаном кресле и, прикрыв глаза ладонью, дремал. В полусне до него доносился звон посуды и позвякиванье чайных ложечек, скрип стульев, стон половиц под тяжёлой поступью секретарши-Валькирии, клацанье кнопок клавиатуры и монотонное зуденье приглушённой человеческой речи. Вот оборвалась трель закипающего чайника, и послышалось бульканье кипятка в заполняемых чашках.
– Господи, эскулапы-то наши, ну, просто курам на смех! – колдуя над столом, комментировала секретарша. – Стыдоба одна. Тыща диагнозов, и всё мимо!
– Что вы хотите, Марья Филипповна, двести с лишним лет прошло! – урезонивал помощник прокурора Мамонтов, принимая из её рук чашку с горячим чаем.
– Причём тут годы! Случись всё это сегодня, они бы так же пальцем в небо тыкали.
– И не говорите, голубушка, по себе знаю: бессовестные лгуны и невежды, – подкудахтывал секретарь защиты Кошелев, тощий и вертлявый человечек неопределённого возраста. – Тёщу мою так вот и уморили. Ещё не старая женщина была. Всё хворала, кашляла. Но, пока дома лечилась – травки там всякие, ингаляции, – терпимо было. А как отдалась этим неучам, и поставили ей диагноз – рак, так и покатилось. Рукой на всё махнула, скуксилась совсем. Я на неё глядел, удивлялся: ну, какой тут рак?.. Румяная, полная, аппетит хороший. Раковые больные, они ведь как выглядят? Тощие да жёлтые, точно восковые. А тут всё наоборот. Убеждал её: не верь, мать, не сдавайся! Сделали рентген, вызвали нас с женой – тычут пальцем: вот она, говорят, опухоль. В центральном бронхе. Ну, тут и мы сникли, перестали сопротивляться. Прошло три месяца, померла бабуля. Я говорю жене: потребуй – пусть делают вскрытие. Она послушалась, сунулась в поликлинику, а там ей: да что, да чего, да зачем? И так всё ясно. Она упёрлась: делайте вскрытие, и всё тут! Ну, они сдались, сделали, выдают нам заключение о смерти: рак. Мы только переглянулись и плечами пожали. А через день к нам домой вдруг санэпидстанция заявилась. Опрыскали всё хлоркой, мебель и картины перепортили. Чёрные баночки подставляют, велят в них плевать. Мы глаза вытаращили: с чего это вдруг?! А они нам в ответ: «У вашей покойницы туберкулёз обнаружен в открытой форме». Мы опешили: а как же рак?! Свидетельство о смерти?! Молчат. Ну, я разозлился, пошёл к прозектору, схватил его за грудки: «Вы что, – говорю, – оборзели совсем?! Знаешь, чем это пахнет?! Отвечай, как на духу: отчего бабуля померла? Рак или не рак?!» А он мне: «Да там рака и в помине не было! У неё не опухоль, а каверна в центральном бронхе была».
– Ну и ну! Так вы в суд подавайте, просите компенсацию!
– Нам только суда не хватает! Мы теперь от туберкулёза лечимся. Хватанули-то по полной программе! А таблетки – они ведь тоже не безвредные.
Слушатели качали головами, поддакивали, хрустели засохшим печеньем.
– Вот у меня приятель недавно помер, сорок три года, – печально констатировал Мамонтов. – Он холостой был, один жил. Звонит как-то раз, просит: «Приезжай, Серёга, худо мне совсем».
– Пил, что ли?..
– Какой там, пил! Капли в рот не брал! В общем, приезжаю – у него температура, боль в пояснице, рвота. Ну, думаю, почки! А он как раз на диспансерном учёте состоял по поводу хронического пиелонефрита. Он мне говорит: «Вколи мне антибиотик!» А я боюсь: не врач ведь! Ему всё хуже и хуже. Боли по всему животу пошли. Вызвал «Скорую». Приехали – посмотрели, пощупали: «Перитонит». Повезли в больницу. На следующий день прихожу – он в реанимации. Лечащий врач глаза прячет: «Состояние тяжёлое. Прооперировали, перитонит проветрили, должно полегчать». Я ему: «А что с почками?..» «С какими почками?» – удивляется. – «До почек мы не добрались». «Как это, – говорю, – не добрались?! Он же почечный больной, хроник! Мы и «Скорую»-то из-за болей в почках вызвали!» «Посмотрим», – отвечает уклончиво. Ну, и посмотрели. На следующий день помер мой приятель. Почки отказали.
– Кошмар! В какое время живём! Даже в медицине нельзя быть уверенной! – запричитала Филипповна.
– Какая уж тут уверенность! Вон, видели – на «Маяковской» девочки рядами стоят, дипломами торгуют: «диплом хирурга», «диплом терапевта», «диплом педиатра», – вторил ей секретарь защиты.
– Сваливать надо отсюда, пока не поздно. Борька постоянно это твердил, приятель мой покойный! – зло процедил сквозь зубы Мамонтов.
Судья нервно зашевелился в своём кресле и сменил позу, но глаз не открыл. За шкафом бросили печатать, и к разговаривающим присоединился голос адвоката Поликина.
– Сваливать!.. Там, что, лучше, что ли?..
– Да уж, небось, получше! – ехидно ввинтила Филипповна. – Зато у нас-то хуже некуда. Садитесь, Александр Викторович, вот Ваша чашка. Мне приятельница одна – она в больнице санитаркой работает – рассказывала: им раз плюнуть – на тот свет человека спровадить!
– Ну, это Вы уж хватанули, любезнейшая! – хохотнул помощник прокурора.
– Ничего не хватанула! У них система такая: если пациент залежался, а родственников у него нет – ну, там, старушка какая-нибудь одинокая – так они ей – бац! – пузырёк воздуха через капельницу пускают. Трудно, что ли? Вынул пипетку из раствора и сразу снова опустил. Вот и вся процедура! Газовая эмболия обеспечена. Считай часы! А на вскрытии всё шито-крыто.
– Вы какие-то медицинские ужастики рассказываете! Это всё из разряда Вашего воображения.
– Да, кабы воображение, так ничего, ан нет, это всё правда! – не унималась женщина.
– Сомневаюсь я, чтобы это было правдой. Надо ведь, чтобы этот пузырёк воздуха в артерию попал, а это не факт, что случится. А вот за кордоном людей сознательно умерщвляют, это точно! – влил свою мрачную ноту в общую криминальную тональность Александр Викторович.
– Ни за что не поверю, чтоб за границей такое было! – скривила скептическую гримасу Филипповна.
– Вы за границей-то часто бывали, милая? – усмехнулся адвокат.
– Не была и не собираюсь!
– А я там полжизни провёл. Много историй могу порассказать. Например, об одном знакомом аптекаре. Он в своей аптеке оступился, с лесенки упал, копчик разбил, а медики тамошние ему эти треснувшие косточки удалить решили, да только перепутали: здоровые удалили, а разбитые оставили. У него все нижние этажи разом отказали. Так и провёл он свои лучшие годы (ему всего тридцать шесть было) в инвалидном кресле, можно сказать, на стульчаке. А то вот ещё случай. Один знакомый профессор-немец рассказывал, как в хосписах и клиниках стариков умерщвляют по желанию близких родственников. Потом их мгновенно кремируют, и всё – никто ничего не докажет. Я не верил, думал, что он сгущает краски. А потом сам с этим столкнулся, так теперь не только верю – знаю.
Все притихли и уставились на Поликина. Тот закрутил сигарету, выдохнул на слушавших столб дыма и продолжал:
– По служебным делам мне часто приходилось бывать в южном Тироле. Я любил эти поездки. Там и работа не в тягость: красота вокруг, горы, озёра. У меня приятель – адвокат из местных. У него неслабый такой офис имелся, и клиентура – о-го-го, один другого круче! Всё политики да банкиры. Мы с ним на горных лыжах вместе катались. Трассы там обалденные! Он владел домиком на одном из самых престижных склонов. Когда я в Россию возвращался, мы созванивались и договаривались о новой встрече. Как-то раз в ноябре он долго не проявлялся. Я подождал пару недель, а потом сам его набрал. Мне ответил женский голос. Я попросил позвать Герхарда, а в ответ услышал: «Он при смерти». Я не поверил: совсем нестарый ещё мужик был, лет шестидесяти. Стал расспрашивать. Оказалось вот что: он на лыжне ногу повредил, стали лечить, и на фоне этой терапии у него вдруг открылось аутоиммунное заболевание. Теперь лежит в клинике, можно сказать, в безнадёжном состоянии. Я поблагодарил за информацию (это дочка его была), поразмыслил немного и решил лететь. Зачем, спрашивается, мне свои планы ломать?..
– Прилетаю на место, дай, думаю, зайду к нему в клинику, может, ещё жив. Оказалось, жив. Узнал меня. Правда, реагировал вяло, но на умирающего совсем не походил. Я встретился с лечащим врачом, тот объяснил, что в этот день прекратили делать диализ и вводить искусственное питание. В общем, жить ему оставалось считанные часы. Родственники – а у него, кроме жены, пятеро взрослых детей имелось – уже с ним простились. Стал и я прощаться. «Что ж ты, салага, – говорю, – решил всё бросить? Такая красота вокруг, снег выпал, горы белизной сверкают на солнце, нас ждут!» Он мне отвечает еле слышно: «Теперь всё это уже не имеет смысла». А у самого в глазах слёзы. «Э, нет, – думаю, – рано тебе ещё в покойники записываться!» И стал его убеждать: «Ты, дескать, поднапрягись, жизнь – она ведь такая бабёнка, если ты сам не захочешь её бросить, она от тебя не уйдёт!»
– На следующий день звоню, спрашиваю – жив или помер. Мне отвечают: жив, ночью сам встал в туалет, но по дороге за стул зацепился, упал. Подняли, починили, помыли, сейчас сидит в кресле, кушает. «Ах, вот оно что, – ухмыляюсь, – а как же диализ?» Я хоть и не врач, но понимаю, что к чему. Диализ – такая шутка, которую не отменяют. Либо диагноз липовый, либо он и не нужен был вовсе. Пошёл к нему опять. Гляжу – он не один. Жена рядом с постелью сидит, одной рукой под одеялом шарит, а во второй – пузырёк с каким-то снадобьем держит. Не понравилось мне это. Она на меня как-то странно смотрит, как на врага. Она и раньше меня недолюбливала. С мужем они жили врозь, но, стоило мне задержаться в его альпийском домишке, она – тут как тут. Видно, подозревала, что я на их недвижимость посягаю. Вышла она из палаты, а Герхард мне и говорит: «Забери меня отсюда. Она меня угробить хочет». «Зачем?!» – удивился я. «Ненавидит она меня. Хочет мою практику старшему сыну передать. А то ему уже под сорок, а он вроде как неудачник, своего дела у него нет».
– «Ага, – думаю, – это уже ближе к теме». Вечером позвонил одному знакомому функционеру. Он крутую должность в правительстве занимал. Спрашиваю: «Скажи, Манфред, так и так, сдаётся мне, тут одного моего друга преждевременно на тот свет спровадить хотят. Что делать?» А Манфред мне отвечает так откровенненько: «К сожалению, наши законы таковы, что, если родственники не хотят ухаживать за престарелым больным, на нём можно поставить крест. Так что, или найди консенсус с роднёй, или прощайся со своим другом». «Ничего себе! – думаю. – Гуманные у вас законы!». И решил не сдаваться. Каждый день вместо того, чтобы на лыжах кататься, с утра и до вечера просиживал в палате у Герхарда. Караулил. Несколько раз выводил его на улицу. Один раз даже в контору к нему съездили для поднятия настроения. А напоследок на склоне побывали! Он лыжи, конечно, не надевал, но на закат солнца полюбовался!
– В общем, совсем воскрес мой приятель. Родственники всё время рядом увивались, носы по ветру держали. Волками на меня смотрели. Ещё бы: наследство уже, считай, в руках у них было, а теперь уплывало в никуда! Через две недели выписали его домой. Я уехал. А ещё через неделю помер мой Герхард. Дома, на руках у жены. Звоню, спрашиваю: «Как так?! Ведь всё, вроде, о'кей было?..» А она мне: «Панариций открылся». Такие вот дела. Панариций. А вы говорите – там, там…
Рассказчик сделал глубокую затяжку и, как локомотив начала двадцатого века, со свистом и под большим напором выдавил из себя густой завиток дыма. Его коллеги сидели молча, обмякнув то ли от выпитого чая, то ли от рассказа, и тоже по очереди пускали пар изо рта, так что вскоре с трудом стали различать лица друг друга.
Судья больше не притворялся спящим. Его выпуклые глаза, наполовину прикрытые тяжёлыми веками, точно у ящерицы, были устремлены в одну точку. Морщины на потемневшем лице стали ещё глубже, и весь он, неухоженный, взъерошенный, измятый, казался похожим на большую старую обезьяну. И только тот, кто знал его много лет, мог догадаться, что этот изношенный, одинокий, больной человек напряжённо и неотрывно думает о чём-то невероятно важном, о том, как распутать узел, намертво затянутый злыми людьми на горле у простодушного и беззащитного гения.
Глава IX. «Вкус смерти на губах»
…Ветер. Опять этот проклятый ветер! Задирает полы камзола, срывает шляпу – не удержать, треплет волосы, точно хочет снять скальп! Ещё и дождь в придачу: хлещет, как из ведра, и всё в лицо, так зло и безжалостно! Забыл взять зонтик. И то – что в нём проку? Первый яростный порыв ветра вывернет его наизнанку и сломает, как щепку!
…Какой ненастный выдался октябрь. Лето оказалось таким быстротечным! Ещё бы чуть-чуть, ещё немножко! Душа и тело так просят тепла, ласкового солнца, беззаботного веселья! Как чудно они танцевали с Констанцей в их последний совместный вечер в Бадене! Воздух был словно бархатным, и духовой оркестр вдали играл пленительную мелодию. Как это… там-та-ра-рим, там-там!
…Он боялся наступающей зимы. Холод парализовывал его. Ему казалось, что ледяные могильные объятия смыкаются на его груди и давят, душат его. Пусть уж лучше дождь, пусть осыпаются с деревьев листья и летают вокруг, как огромные ночные бабочки. Пусть мокрая пожухшая трава непричёсанным, облезшим париком топорщится на лужайках, только бы не видеть, как голое, чёрное, пористое тело земли корчится, промерзает насквозь, скатывается мелкими крупинками и покрывается твёрдой карамельной наледью!
…Что это?.. Мокрый снег. Только не это! Снег в октябре. Он становится всё гуще и гуще, валит крупными мокрыми хлопьями, падает на мостовую, постепенно пряча её под белой плёнкой. Это что-то напоминает ему… Ах, да! Так натягивают простыню на лицо покойника.
…Раньше он так любил снег! Как кувыркались они с маленьким Томасом и Констанцей в непрочных венских сугробах, как радовались и смеялись, лепили снежки и до умопомрачения разбрызгивали вокруг себя комочки мокрого белого счастья. А Бимперль лаял до хрипоты и пытался их поймать. Сейчас он покрывается дрожью от одного этого воспоминания.
…Часы на соборе святого Стефана пробили восемь раз. Ещё совсем не поздно. Отчего же улицы в центре города словно вымерли?.. Это всё снег виноват. Хотя нет, вот, два приличных господина всё время идут позади него. Хорошо, всё-таки не так боязно. Да-да, что вы думаете, лихих людей в такую пору полным-полно на улицах Вены!
…Какой отвратительный булыжник на этой мостовой! Местами он торчит вкривь и вкось, как гнилые зубы у дряхлого старика, а местами совсем провалился. Кругом выбоины и ямы. Ноги насквозь мокрые: видно, тонкие подошвы башмаков прохудились, такое впечатление, что идёшь босиком. Ну вот, опять поскользнулся и шлёпнулся в лужу!..
…Теперь надо отряхнуться и застегнуть пряжки на ботинках. Вот так! Два господина, шедшие следом, тоже зачем-то остановились на углу Ам Грабен и Зайлергассе и теперь рассматривают какую-то витрину. Странно, ведь эта лавка давно уже не работает.
…Скорее, скорее! Кто-то словно гонит и толкает его изнутри. Это вовсе не дождь, нет! Ему всегда не терпелось скорее достичь цели. Друзья шутили, что он подвижен, как ртуть. Ртуть-муть-не забудь… Меркур-помпадур-каламбур… А он просто торопился объять необъятное. Ведь мир так прекрасен и так многообразен! Он полон любви, красоты и гармонии. Он полон музыки! Музыка повсюду – в воздухе, в небе, в солнечных лучах, в улыбке ребёнка, в поцелуе Констанцы. Он должен был успеть запечатлеть её, эту музыку, которая всё время звучала внутри него. Она, как горячий подземный источник, пробивалась сквозь толщу забот, унижений, нищеты, болезней и разочарований.
…Теперь он знает, что мир состоит не только из добрых и красивых вещей. Он полон злобы, зависти, обмана, предательства и безбожия. Но музыка всё равно переполняет его душу. Он уверен: музыка – от Бога. Этот великий бесценный дар Господь дал людям, чтобы скрасить их пребывание на грешной земле. Но они не слышат её: они переполнены алчностью, корыстью и злобой. Эти низменные инстинкты кипят и клокочут в них, как травяное варево в ведьмином горшке. Как можно услышать музыку сквозь звон золотых монет, свист хлыста и нецензурную брань?
…Уже совсем близко. Поворот на Лилиенгассе, теперь налево и ещё раз налево. Особняк на Домгассе, где они несколько лет назад снимали квартиру в бельэтаже, остался далеко позади. Отец всё ворчал: зачем Вольфганг сменил такое респектабельное жилище на какую-то дыру в тёмном переулке? Ах, отец, отец! Ты так и ушёл из жизни, не поняв и не простив меня! А теперь я обречён вечно носить этот камень на сердце. Если бы ты знал, как теснит, как душит он меня, того и гляди, раздавит!
…Ну, вот и Раухенштайнгассе, вот и наши ворота. Интересно, где эти двое?.. Отстали. Наверное, тоже спешат домой, к тёплому очагу. Теперь надо отыскать ключ в дырявых карманах.
…Боже мой, как холодно в доме! Видимо, Лорхен не удосужилась истопить. Да и то сказать: где взять дрова? Я их не купил. Купил-притупил. Дрова-булава. Когда Станци была дома, они танцевали менуэт, чтобы согреться. Ха-ха-ха! Милая Станци. Станци – танцы – померанцы… Менуэт – крокет – пистолет…
…Лорхен, Лорхен! Исчезла. Испарилась. Неужели я такой страшный? Что она, собственно говоря, делала в нашей спальне?.. И за что я, спрашивается, плачу служанке деньги? За то, чтобы она в моё отсутствие ошивалась в моей комнате, а, завидев меня, тотчас скрывалась за углом? Лорхен! Бесполезно звонить в колокольчик. Иди сюда, паршивая лентяйка! Прячется. Играет со мной в кошки-мышки.
…В кухне так же темно и холодно, как на улице. Надо зажечь свечу. Груда немытой посуды. Наверное, она стоит здесь с момента отъезда Констанцы. Негодная лентяйка! Обязательно вычту у неё из жалованья. Впрочем, я ей уже давно не плачу.
…Кстати, о кошках и мышах. На столе полно мышиного помёта. Ах, вот где вы пробавлялись, мошенники! Сегодня всю ночь мешали мне спать, шуршали и грызли моё имущество. Смотрите, нынче сидите тихо, а то я науськаю на вас кота!
…Моё – но теперь уже не моё. Всё наше имущество заложено. Иначе как бы я смог оплатить лечение Констанцы?..
…Еды нигде никакой. Ну, и Бог с ней. Есть совсем не хочется: всё время тошнит. Откуда эта тошнота? Почему она никогда не проходит? Чем я мог отравиться? Может, этот старый мошенник Дайнер подсыпает мне что-то в вино? Или не Дайнер, а кто-то другой. Но кто?.. Неужели Сальери?.. Не может быть. Он, конечно, мерзавец, но не убийца. Ведь мы же коллеги, жрецы искусства!
…Ну вот, я уже потихоньку начинаю сходить с ума: разговариваю сам с собой. А с кем же мне ещё разговаривать? Станци в Бадене, Зюс вместе с ней. Служанка – и та сбежала. Проклятые деньги! Это всё из-за них. Точнее, из-за их отсутствия. Надо выпить немного вина, чтобы согреться. Вот так. А теперь – за работу. Прежде всего, надо написать Констанце. Но где же, разрази вас гром, чернильница?! Куда она запропастилась?! Тысячу раз просил не трогать мою чернильницу! Нет, я её уволю, непременно, уволю! Вот, приедет Станци, и тогда… Ага, вот она! Почему-то стоит на тумбочке. Как странно пахнут эти чернила! Наверное, нерадивая Лорхен опять что-то в неё просыпала!
«Дорогая моя, любимая, драгоценнейшая жёнушка! – С чрезвычайным наслаждением получил твоё чудное послание от 1Зго; – но сейчас отвечаю лишь на твоё предыдущее письмо от 9-го <…>. В первую очередь, перечислю все письма, которые тебе написал, и потом твои, что получил. – Я писал тебе 5-го, 8-го, 9-го, 10-го, 13-го, 16-го, 17-го, 22-го, 23-го, 24-го и 28-го, – следовательно, всего 11 писем. А от тебя получил 5-го, 8-го, 9го, 13-го в 9 утра и в восемь вечера, и 23-го, – всего только шесть! Видишь, есть перерыв, наверное, потерялось одно твоё послание – и из-за этого мне пришлось несколько дней оставаться без писем! – если и ты жила в таком же ожидании, то, должно статься, потерялось и одно из моих писем; – но Бог милостив, мы, наконец, пережили эти удары судьбы; – только сжав тебя крепко в своих объятьях, я расскажу, каково мне пришлось тогда! – ну же, расскажи сейчас – ты ведь знаешь, как я люблю тебя!»[26]
…Фу ты, откуда здесь взялось это старое письмо?.. Наверное, Станци нечаянно вложила в конверт вместе со своим… Нет, сегодня он будет писать иначе. Его душа настолько переполнена любовью, что она, как музыка, неудержимо льётся из-под пера:
«Дорогая, бесценная моя жёнушка! – С неописуемым восторгом получил Твоё последнее письмо, из которого могу заключить, что Ты в добром здравии и хорошем расположении духа… – Теперь после первого письма я уже снова жду не дождусь второго, чтобы узнать, как на тебя действуют ванны… О Боже! как бы я обрадовался, если бы Ты приехала ко мне!..»[27]
«Теперь я хочу только одного – чтобы мои дела наконец наладились и я смог бы снова быть с Тобой, ты не поверишь, как мне Тебя не хватало всё это долгое время! – мне не передать тебе того, что я испытываю, это такая пустота – от которой мне прямо-таки больно – это какая-то тоска, которая никогда не утоляется, а значит никогда не прекращается – всё длится и длится, и день ото дня всё растёт; стоит мне только подумать, как веселились и ребячились мы в Бадене, когда были вместе – и какие грустные, томительные часы приходится мне переживать здесь – тогда меня и моя работа не радует, ведь я так привык порой прерваться и перекинуться с тобой парою слов, а тут этого удовольствия я, увы, лишён – а коли подойду к клавиру, чтобы спеть что-нибудь из оперы, то тут же вынужден прерваться – чтобы слишком не расчувствоваться <…>»[28]
«Любимая, драгоценная моя жёнушка! Не предавайся меланхолии, прошу Тебя! – я надеюсь, что деньги, посланные мной, Ты уже получила – всё-таки для Твоей ноги будет полезнее, если ты продолжишь принимать ванны, принимай их, раз так – в субботу надеюсь уже обнять Тебя, а может быть и скорее. Как только завершу дела, сразу к Тебе – ибо мне так хочется найти отдохновение в Твоих объятиях; – да мне это просто необходимо – ибо внутренняя тревога, озабоченность и связанная с нею непрестанная беготня могут изрядно вымотать любого. Мне не хватает только – Твоего присутствия – мне кажется, я не дождусь этого мгновения; я бы и сейчас уже с такой радостью пустил Тебя сюда ко мне <…>»[29]
«Ты же не сможешь доставить мне большей радости, чем если будешь довольна и весела – ведь если только я твёрдо знаю что у тебя всё благополучно – тогда все мои усилия милы мне и приятны; – ибо самое безвыходное и отчаянное положение, в котором только я могу оказаться, становится всего лишь мелочью, если я знаю, что ты здорова и весела. – Итак, пусть же у тебя будет всё хорошо – думайте и говорите обо мне почаще – люби меня вечно как я тебя люблю, и будь навеки моей Станци Марини, как и я останусь навеки твой Сту! – Кналлер-паллер-шнип-шнап-шнур-Шнепеперль. снай!»[30]
«Если бы только у меня была весточка от Тебя! – Adieu, дорогая жёнушка, люби меня, как люблю Тебя я, мысленно целую Тебя 2000 раз <…>»[31]
Он вложил письмо в конверт, запечатлел на нём бесчисленные поцелуи и, окрылённый, снова схватился за перо. Его буквально распирало от чувств, но теперь они воплощались в музыке.
Он писал так же быстро, как двигался и говорил. Его перо летало над нотными строчками, оставляя за собой ажурную вязь нотных знаков, аббревиатур и символов. Мелким, каллиграфическим почерком он фиксировал поток музыкальных звуков, который изливался из его сознания. Он делал это быстрее, чем переписчик мог бы скопировать уже готовое музыкальное произведение. Но иногда даже его лёгкая рука не поспевала за мыслью, и тогда он пропускал целые строчки, фиксируя лишь самое главное, а остальное – он знал это – он всегда сможет воспроизвести по памяти. Временами он что-то увлечённо напевал, дирижируя левой рукой, а правой продолжая записывать наплывающие мелодии. Их было так много, что он, казалось, сам не справлялся с ними. Мелодии вытесняли одна другую; предыдущая ещё не успевала кончиться, как её сменяла новая, вновь родившаяся.
Так прошло несколько часов. Была уже глубокая ночь, когда он задул свечу и отправился спать. Он облачился в ночной шлафрок, сделал несколько менуэтных па, чтобы хоть чуть-чуть разогреть озябшее тело, и юркнул под одеяло в ледяную постель, такую чужую и постылую без Констанцы.
* * *…Зима. За окнами падает снег. Маленькие решётчатые окошечки, такие милые, с детства знакомые до мелочей. Вот в этом он, играя в мяч, нечаянно разбил стекло, и Папа позже заменил его. А здесь он ножичком нацарапал своё имя: Вольферль. Папа сильно ругал его за это. Мама никогда не ругает, зато Папа очень строгий. Вот Бимперль встал на задние лапы и смотрит в окно; а вот они с Наннерль отталкивают друг дружку и высовывают руки в форточку: кто поймает больше снежинок?..

