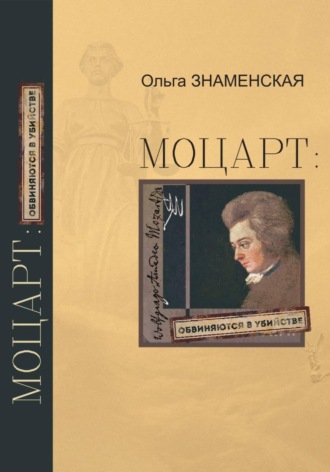
Полная версия
Моцарт: обвиняются в убийстве
Я ещё раз окинула взглядом зал заседаний, как Кутузов Бородинскую панораму. Это было моё поле боя. Здесь вот-вот начнётся битва не на жизнь, а на смерть. Битва за Моцарта. Битва, которую я обязана выиграть.
Часы на стене показывали без пяти минут десять. По центральному проходу побежали служки, таща под мышками папки с документами. Судья поднялся с места и вышел из зала, чтобы переоблачиться и через несколько мгновений предстать перед публикой уже в ином, важном и всесильном образе. Всё суетное, человеческое должно раствориться в тусклом свете люстр, чёрная мантия и тяжёлый парик призваны породить новую сущность: некое подобие Вседержителя, бестрепетного творца человеческих судеб, мудрого и справедливого Судию.
В воздух взметнулся судебный молоток, и присутствующих обожгло металлическим звоном гонга. Дверь в судейскую комнату распахнулась:
– Встать! Суд идёт!
Глава II. Вундеркинд
Зал всколыхнулся и вздыбился тёмной людской волной. Все встали. В дверях обозначилась фигура судьи: в мантии и парике он казался выше и значительней. Казалось, парик скрыл не только лысину, но и усталые морщины на сером лице, а мантия спрятала старческую сутулость и придала осанке горделивую выправку. Теперь он уже не был простым смертным, он был – Господь Бог, Высший Судия, призванный отделить зёрна от плевел, правых от виноватых, грешников от праведников.
Он прошествовал на подиум, и публика шумно опустилась на свои стулья. Волна отхлынула, гул толпы прокатился и смолк.
Гонг вторично полоснул по нервам присутствующих, и стало совсем тихо. Зал замер, и на фоне этого внезапного оцепенения особенно рельефно обрисовался торс судьи, словно отрезанный гильотиной стола. Он стоял, как Ника Самофракийская на мраморной лестнице Лувра (только с головой!) – огромный, довлеющий над всеми, подчинивший себе окружающее пространство. В руках он держал новую глянцевую папку, пока ещё совсем лёгкую. В ней был подшит один единственный лист формата А-4, на котором несколько фраз сухим канцелярским языком излагали суть трагедии, вот уже несколько столетий будоражившей весь мир. Именно туда был устремлён напряжённый блеск его очков.
– Слушается иск по делу Моцарта и Сальери. Согласно обвинению, предъявленному в иске, австрийский композитор Сальери Антонио в 1791 году в Вене отравил своего коллегу, австрийского же композитора Моцарта Вольфганга, по собственному побуждению или чьему-то приказу, а позже инициировал похороны оного «по третьему разряду», то есть, в соответствии с установлением того времени, в общей безымянной могиле, так что впоследствии ни тело, ни могила Моцарта не могли быть найдены и оказались утрачены для потомков. Иск заявлен от лица пострадавшего, то есть Моцарта Вольфганга, ввиду его кончины, произошедшей в 1791 году, его самозаявленным представителем, органисткой, музыковедом, писателем Знаменской Ольгой Павловной. В качестве предмета иска представитель истца выдвигает одно единственное требование: восстановление исторической справедливости и признание вины за упомянутым Сальери без какой-либо материальной компенсации со стороны представителей последнего. В качестве представителя ответчика утверждён самозаявленный же Лаузов Игорь Ефремович, пианист, заслуженный артист РФ. В соответствии с действующим законодательством, в ходе слушания дела и в процессе выяснения обстоятельств данный иск может быть расширен, дополнен и изменён, в нём могут появиться новые фигуранты и, следовательно, новые ответчики.
Судья перевёл дух и на мгновение опустил папку. Привычным взглядом поверх очков он внимательно обвёл зал, проверяя реакцию присутствующих.
– Для изложения сути дела приглашается представитель экспертной комиссии музыковедов Гомилиус Пётр Алексеевич, доктор искусствоведения, профессор, декан музыковедческого факультета Академии истории искусств.
Гомилиус поднялся с места и подошёл к центральной кафедре, отведённой для выступающих. Это был высокий худой старик с ослепительной розовой лысиной, осенённой, точно нимбом, белоснежным пухом седых волос. Я почувствовала, как сердце мне заливает горячая волна нежности. «Мой, мой Гомилиус, добрый, хороший старик! – пронеслось в уме. – Ты всё ещё мой! Как я люблю тебя!»
Пётр Гомилиус преподавал у нас на первом курсе историю зарубежной музыки. Мы сразу же прониклись к нему уважением и любовью. Говорил он блестяще: быстро, вдохновенно, с лёгкостью жонглируя научными дисциплинами, стилями и иностранными языками. История музыки в его изложении вызывала восторг, равно как и он сам. Я сразу же решила, что пойду к нему защищать диплом. Мы знали, что при Сталине он был репрессирован вместе со всей семьёй, отсидел срок, потом долго жил на выселках. После смерти Сталина его вернули в Ленинград – едва живого, измождённого, с кучей хронических заболеваний. Он жил в коммунальной квартире где-то на Васильевском, занимая комнатку девять метров, с окном, упирающимся в стену соседнего дома. Тюрьма и ссылка не сломили его: он был всегда бодр, подтянут, остёр на язык и до невероятия правдолюбив. Ничто на свете не могло заставить его солгать, польстить, утаить истину. Ничто – ни соображения карьеры, ни дарвинистский инстинкт выживания. На кафедре его боялись; он знал, что его работы не печатают, студентов зажимают, и все блага цивилизации, которые распределялись централизованно – дачные участки, отдельные квартиры, путёвки в санаторий, денежные премии и т. д. – проходят мимо него. Он всё понимал, но никогда ничего для себя не требовал. Я закончила под его руководством Академию и вместе со знаниями унаследовала его судьбу. Его участие в этом процессе было предопределено с самого начала. Оно гарантировало мне сильную, беспристрастную поддержку, мощный авангард и несокрушимую атаку.
– Уважаемые дамы и господа, Ваша честь, – начал Гомилиус, и его громкий и не по возрасту звонкий голос заставил меня приободриться, – прежде всего, я хочу внести ясность в вопрос о происхождении Моцарта. Иоганн Хризостом Вольфганг Теофил Моцарт никогда не был австрийским композитором. Он родился в семье Иоганна Георга Леопольда Моцарта и Анны Марии Вальбурги Моцарт, в девичестве Пертль. Отец – уроженец Аугсбурга, следовательно, шваб. Мать появилась на свет в окрестностях Зальцбурга, где родился и сам Вольфганг. Зальцбург же, как гласит история, на протяжении шести столетий принадлежал Баварии, затем в течение пятисот лет в качестве самостоятельного княжества входил в состав Священной Римской Империи. В 1806 году город на короткое время был передан Австрии, чтобы в 1810 году вновь отойти к Баварии. Лишь после Венского Конгресса, 1 мая 1816 года земля Зальцбург окончательно вошла в состав Австрийской империи. Таким образом, Моцарт был немцем. Он сам неоднократно повторял это в своих письмах, называя Германию своей родиной.
Гомилиус вскинул голову и задиристо оглядел зал. Ответом ему был прокатившийся по рядам лёгкий бриз взволнованного шёпота. Судья встрепенулся, защитник оторвала взгляд от бумаг, покрывающих её колени, прокурор моргнул. Я навострила уши: речь профессора могла оказаться ещё сильнее приправленной перцем, чем я ожидала. Гомилиус между тем сделал артистический жест и продолжал:
– Я позволил себе привести это уточнение, чтобы уже на старте обнажить одну из фальсификаций, связанных с именем Моцарта. Осмелюсь заметить, что таких фальсификаций существует множество. Потому в начале своего выступления я считаю необходимым остановиться на фактах, казалось бы, известных и очевидных, но, тем не менее, требующих особого рассмотрения. – Итак, Моцарт родился 27 января 1756 года в Зальцбурге, где его отец занимал должность вице-капельмейстера при дворе архиепископа Иеронима фон Шраттенбаха.
– Мальчику не было и двух лет, когда он стал проявлять феноменальные музыкальные способности. Он подолгу перебирал клавиши клавесина, выискивая гармоничные созвучия. Именно в это время появились первые пьески, которые можно считать осознанными композициями. Первые же пронумерованные опусы юного Моцарта относятся к четырёхлетнему возрасту. Это маленькие менуэты и другие простейшие композиции, которые впоследствии были опубликованы.
– Доказательства феноменальной одарённости чудо-ребёнка Моцарта, кажущейся невероятной даже на фоне выдающихся музыкальных способностей других композиторов, проявившихся в раннем возрасте (скажем, у его современников Глюка, Гайдна, Бетховена, Шуберта и других), в огромном количестве содержатся в воспоминаниях. Позволю себе зачитать фрагменты из письма придворного трубача города Зальцбурга Иоганна Андреаса Шахтнера, написанные им уже после смерти Вольфганга Амадея 24 апреля 1792 года по просьбе его сестры Наннерль:
«<…> Как только он начал увлекаться музыкой, все его чувства для всех остальных занятий всё равно что умерли. И даже ребяческие шалости и баловство надлежало сопровождать музыкой, чтобы они могли стать для него интересными; если мы, Он и Я, несли для забавы игрушки из одной комнаты в другую, то всякий раз тот из нас, кто шёл с пустыми руками, должен был по этому случаю петь и играть на скрипке какой-нибудь марш <…>.
<…> Однажды в четверг, после службы, я шёл с господином Papa (Леопольдом Моцартом, – О.З.) к Вам домой; мы застали четырёхлетнего Вольфгангерля, когда он возился с пером.
Papa: Что ты делаешь?
Вольфг: Концерт для клавира, первая часть скоро будет готова.
Papa: Дай посмотреть.
Вольфг: Ещё не готово.
Papa: Ну и хорош, должно быть, концерт. Позволь посмотреть.
Papa отнял у него и показал мне пачкотню из нот, которые по большей части были написаны поверх чернильных клякс <…>. Сначала мы засмеялись над этой очевидной галиматьёй, но тут Papa обратил внимание на главное, на ноты, на композицию, он долгое время оставался неподвижным и рассматривал лист, наконец, из его глаз полились слёзы, слёзы изумления и радости. «Смотрите, господин Шахтнер, – сказал он, – всё сочинено верно и по правилам, только это нельзя использовать, ибо сие столь исключительно трудно, что ни один человек не был бы в состоянии сыграть оное».
Вольфгангерль вмешался: «Потому что это – концерт, нужно упражняться до тех пор, пока не получится, смотрите, это должно быть так!» Он заиграл, но сумел показать ровно столько, чтобы мы могли узнать, чего он хотел <…>.
Вы можете помнить, что у меня была очень хорошая скрипка, которую блаженной памяти Вольфгангерль из-за мягкого и полного тона всегда называл масляной скрипкой <…>. Однажды, вскоре после того как Вы вернулись из Вены (в начале 1763 года), он играл на ней и не мог вдоволь нахвалить мою скрипку; через один или два дня я опять пришёл навестить его и застал его как раз за тем, что он занимался своей собственной скрипкой; он тотчас спросил: «Что поделывает Ваша масляная скрипка?», затем продолжал играть на скрипке свою фантазию, наконец, немного задумался и сказал мне: «Господин Шахтнер, Ваша скрипка настроена на половину четверти тона ниже, чем моя, если только Вы оставили её так, как было, когда я последний раз играл на ней». Я засмеялся этому, но Papa, который знал исключительную восприимчивость к звукам и память ребёнка, попросил меня достать скрипку и посмотреть, прав ли он. Я сделал это, и всё оказалось верным.
Немного ранее этого, в один из первых дней, когда Вы вернулись из Вены, и Вольфганг привёз с собой маленькую скрипку, полученную им в Вене в подарок, пришёл наш прежний, очень хороший скрипач <…> господин Венцль, который был новичок в композиции; он принёс с собой шесть трио <…>. Мы играли эти трио; Papa играл на альте партию баса, Венцль – первую скрипку, а я должен был играть вторую. Вольфгангерль попросил, чтобы ему позволили играть вторую скрипку, однако Papa сделал ему выговор за его дурацкую просьбу, ибо он <…> ещё не получил наималейшего наставления в игре на скрипке, и Papa полагал, что он совсем не сможет играть. Вольфганг сказал: «Чтобы играть вторую скрипку, ведь не надо сначала учиться», и, когда Papa настоял, чтобы он тотчас ушёл и больше не мешал нам, Вольфганг начал плакать и вместе со своей скрипочкой засеменил прочь. Я попросил, чтобы ему позволили играть со мной; наконец Papa сказал: «Играй с господином Шахтнером, но так тихо, чтобы тебя не было слышно <…>» И вот Вольфганг заиграл на скрипке вместе со мной. Вскоре я заметил с изумлением, что я здесь совсем лишний; я тихонько отложил свою скрипку и посмотрел на Вашего господина Papa, у которого во время этой сцены по щекам катились слёзы удивления и радости <…>»[3].
Гомилиус перевёл дух, снял очки и отложил в сторону печатный текст, который до этого держал перед глазами.
– Позволю себе прокомментировать то, что вы сейчас услышали. Способностью уловить различие в настройке двух музыкальных инструментов даже на одну четверть тона обладает далеко не каждый взрослый профессиональный музыкант. Общепринятой и общеупотребимой является настройка клавишных инструментов по одной второй тона. Именно половина тона считается тем модулем, тем «общим знаменателем», на который ориентируются как композиторы, так и изготовители всех без исключения музыкальных инструментов, как темперированных, так и нетемперированных, а, тем более, музыканты-исполнители. Червертьтоновые сдвиги в музыкальных композициях встречаются редко и используются либо специально как особо выразительный эффект в исключительных случаях, либо непреднамеренно, и тогда свидетельствуют скорее о дефекте слуха исполнителя, не сумевшего придерживаться «правильной» полутоновой настройки. Тот факт, что ребёнок сумел определить различия в одну восьмую тона между двумя скрипками, да к тому же ещё услышанными им не непосредственно друг за другом, а с промежутком в нескольких дней (что свидетельствует также о феноменальной слуховой памяти), является бесспорным доказательством того, что перед нами находится организм, располагающий уникальным слуховым аппаратом.
– Но ещё более поразителен случай с написанием маленьким Моцартом клавирного концерта. Позволю себе отнять время у почтенной аудитории и объяснить ей, что представляет собой сонатная схема, в соответствии с которой строились все концертные формы того времени. Эта схема включает в себя три раздела: экспозицию, разработку и репризу. Не случайно наш корифей отечественного музыкознания Борис Владимирович Асафьев сравнил эту схему с диалектической триадой «тезис – антитезис – синтез». В экспозиции насчитывается несколько тем: так называемая главная партия, звучащая в основной тональности произведения, связующая часть, подводящая нас ко второй теме и осуществляющая модуляцию в побочную тональность, побочная партия, изложенная в тональности доминанты основной тональности (если концерт в мажоре) или в параллельной тональности (если концерт в миноре), и заключительная часть, завершающая экспозицию и утверждающая побочную тональность. В разделе, именуемом разработкой, происходит развитие изъятых из основного тематизма мотивов, их преобразование и динамизация как с интонационной, так и с ладо-тональной точки зрения…
Здесь выступление Гомилиуса было прервано нарастающим гулом, который, подобно морскому шквалу, пронёсся по рядам и вылился в общий взрыв неуёмного хохота. Гомилиус поднял руку, призывая зал успокоиться, и с кажущейся невозмутимостью продолжал говорить, сознательно провоцируя публику на ответную реакцию.
– В репризе происходит повторение всех прозвучавших в экспозиции тем, но при соблюдении подчинения основной тональности. То есть, связующая часть не модулирует, а остаётся в основной тональности, а побочная тема и заключительная часть тоже проводятся в основной тональности, таким образом демонстрируя её главенство, а также полную и окончательную победу синтеза в вышеназванной триаде.
Зал вторично взорвался хохотом, заставив Гомилиуса замолчать. Послышались ироничные возгласы: «Уважаемый профессор, кажется, решил преподать нам урок анализа музыкальных форм!» «Профессор, оставьте ваши разработки и скорее переходите к репризе!» Прежнее напряжение спало, уступив место всеобщей раскованности. Судья удивлённо вскинул голову и схватился за массивный колокольчик, призывая всех успокоиться. Гомилиус словно ждал этого. Он отвесил судье низкий поклон.
– Ваша честь, я сознательно совершил этот аналитический экскурс, чтобы показать присутствующим, с чем мы имеем дело. Только мои коллеги, которых большинство в этом зале, – широким театральным жестом он обвёл окружающее пространство, – могут понять суть проблемы. Принципы сонатной формы и сонатного цикла мы, музыковеды, объясняем старшеклассникам в специальной музыкальной школе при Консерватории – заметьте, особо одарённым и тщательно отобранным детям! – на протяжении полугода. А четырёхлетнему гению по имени Вольфганг Амадей Моцарт этого никто никогда не объяснял. Он САМ воспринял и воспроизвёл архитектонику этой сложнейшей формы на основании прослушанных произведений.
Зал отозвался плеском аплодисментов, словно мы находились не в суде, а в Большом зале Филармонии. Судья вторично схватился за колокольчик и добрых десять минут потрясал им, безуспешно призывая всех успокоиться. Гомилиус артистично держал паузу. «Блестяще!» – мысленно восхитилась я.
Постепенно всё стихло.
– Я думаю, присутствующим понятно, что мы имеем дело с чудом. Даже если бы Моцарт не написал ни одного сочинения, он всё равно остался бы этим чудом. В нём природа явила абсолютный физический феномен, не говоря уже о феномене духовном. Но об этом речь впереди. А пока что я позволю себе продолжить перечень фактов, свидетельствующих о сверхъестественной гениальности Моцарта.
– Случай со скрипкой не нуждается в комментариях. Любой школьный учитель музыки скажет вам, сколько усилий требуется от ученика и от педагога на прохождение начального пути обучения этому инструменту. Эту пытку может выдержать далеко не каждый. Помните эпизод из детства великого итальянского скрипача Никколо Паганини? В детстве отец запирал его в чулан и жестоко бил, чтобы мальчик занимался. Далеко не каждый начинающий скрипач смог стать хотя бы подобием Паганини, но свою порцию мучений получил каждый. А маленького Моцарта никто не заставлял. Разумеется, Леопольд, превосходный скрипач и педагог, автор учебного пособия, показывал ребёнку, как на ней играют. Но одно дело показать, а другое – добиться, чтобы что-то получилось. Скажите мне, господа скрипачи, сколько лет проходит, прежде чем вы услышите от своих учеников мало-мальски сносную интонацию, которую можно воспринимать, не затыкая уши?
Гомилиус обернулся к залу. Ответом ему был глухой ропот, прокатившийся по рядам.
– Вот именно. А здесь всё произошло само собой. Даже отец, знавший возможности своего сына, не ожидал этого. Ребёнок просто сел и заиграл партию взрослого дяди, которую тот учил. Учил, да так и не выучил.
– То же самое произошло и с органом. Наверняка все присутствующие знают, что в техническом отношении это один из самых сложных инструментов. Мало того, что у него несколько клавиатур для рук – мануалов, у него ещё есть педаль – особая клавиатура, на которой играют ногами. А справа и слева от мануалов торчат так называемые «шпильхильфе» – вспомогательные кнопки и рычаги, с помощью которых органист меняет силу и окраску звука. Понятное дело, что обучение на этом инструменте длится годами. Однако в итоге далеко не каждый может справиться с эдаким гигантом. А шестилетний Вольфганг, которого подпустили к органу, заиграл на нём с такой лёгкостью, как будто учился всю жизнь: он чередовал мануалы, нажимал педальные ноты и сам себе регистровал. То есть, делал то, что под силу не каждому взрослому органисту. Разве это не чудо?
– Но, пожалуй, самый ошеломляющий случай произошёл в Ватикане во время первого итальянского путешествия Моцартов. По сложившейся традиции на страстной неделе в соборе святого Петра исполнялось «Мизерере» Грегорио Аллегри. Партитуру я держал в руках: она впечатляет. Мало того, что произведение изначально предназначалось для девятиголосного хора, так ещё и голоса во многих местах расслаиваются, так что формат А-1, в котором напечатан текст, едва вмещает все партии. Это сочинение только и звучало, что один единственный раз в году: мало того, что красиво, так ещё и сложно для исполнения. А ну как ловкий композитор подслушает, да и слижет приглянувшиеся контрапункты?! Плагиат в те времена был обычным явлением. Вот и придумал Папа такую уловку: прятать партитуру за семью замками, а извлекать только по случаю.
– Вышло так, что Леопольд с Вольфгангом попали в Ватикан именно на Пасху. Прослушав этот столь драгоценный опус один единственный раз, Вольфганг записал его по памяти с точностью до единой ноты. Через некоторое время в ходе аудиенции отец с сыном преподнесли Его Святейшеству переписанный раритет. Папа отказывался верить: ещё бы, ведь случившееся было равнозначно чуду. Чудо! Это слово всё чаще и чаще слышалось за спиной юного Вольфганга.
Последние слова докладчика утонули в невообразимом шуме. Особенно нервничали врачи:
– Такие случаи известны в истории! Молодой Бальтескьеро мог с одного раза запомнить и воспроизвести многостраничную цепочку математических формул!
– А наши разведчики в годы Великой Отечественной войны частенько запоминали данные, выраженные десятичными дробями на нескольких листах. Это ещё почище музыки будет!
– Эйдетическая память. Далеко ходить не надо: ею обладал старший Соллертинский. Пролистав книгу, он словно фотографировал её глазами и потом мог безошибочно сказать, на какой странице находится нужная фраза.
– Гений подобен флюсу: сверхспособности в одной области неминуемо должны обернуться умственной заторможенностью в другой.
– Отнюдь! – Палец Гомилиуса вонзился в автора последней реплики. – Отнюдь. Мальчик был без ума от математики! Как-то раз во время одной из гастрольных поездок его надолго оставили одного в гостиничном номере. Вернувшись, родные обнаружили, что пол и стены испещрены математическими формулами, нарисованными мелом. Это маленький Вольфганг коротал время, решая математические головоломки.
– Бедный ребёнок! Жертва своей гениальности. Как и все вундеркинды, он был лишён банальных детских радостей!
– А вот и нет! – азарт Гомилиуса, казалось, достиг своей высшей точки. – Он был ребячлив и шаловлив, как все дети. Однажды после концерта во время праздничного чествования наших музыкантов мальчик вдруг исчез. Все присутствовавшие принялись искать его и, наконец, обнаружили под клавесином с кошкой!
– Ха-ха-ха! Ребёнок был не лишён чувства юмора! Говорят, он обещал Марии Антуанетте на ней жениться!
В многоголосие зала врезался властный колокольчик и голос судьи:
– Тише, тише, уважаемые! Не расплёскивайте преждевременно ваши эмоции! Они вам ещё пригодятся.
В такт его крику со своего места поднялся прокурор. Он громко прокашлялся в ладошку, и зал мгновенно стих, устрашённый суровой, безрадостной миной этого «по умолчанию» опасного фигуранта судебного заседания.
– Я полагаю, безусловная гениальность чудо-ребёнка по имени Моцарт давно доказана. Этот мотив можно развивать до бесконечности – на лекциях, в телепередачах, на уроках в школе. Можно написать на эту тему докторскую диссертацию. Или, хотя бы, кандидатскую. Мы же не для этого здесь собрались. Мы собрались, чтобы расследовать обстоятельства убийства. Поэтому, уважаемый докладчик, переходите от красивых слов к фактам. И дай нам Бог успеть их все рассмотреть.
Гомилиус одёрнул пиджак и понимающе кивнул:
– Согласен, Ваша честь! Но это уже следующая страница в моём повествовании.
– Перелистывайте её, дорогой профессор, перелистывайте! Всё прекрасное и доброе вполне может обойтись без суда. Поэтому переходите к злому.
Гомилиус вынул платок, отёр вспотевшую лысину и бросил локти на кафедру, словно укрепляя позиции перед новой атакой. – Видите ли, Ваша честь, только осознав в полной мере масштаб явления, именуемого «Вольфганг Амадей Моцарт», а также обрисовав картину его начального триумфа, можно измерить глубину пропасти, в которую он угодил. Поэтому я позволю себе продолжить. Когда мальчику исполнилось шесть лет, отец повёз детей на гастроли. Вена, Мюнхен, Кёльн, Аахен, Берлин, Брюссель, Париж, Версаль, Лондон, Кентерберри, Гаага, Антверпен, Ллиль, Гент, Лион, Дижон, Цюрих, Лозанна… Разумеется, это только крупные города: между ними лежали десятки более мелких, которые маленький Моцарт безоговорочно покорил. Столичные газеты пестрели сенсационными заголовками и статьями наподобие этой:
«Сегодня, в четверг, 30 августа в 6 часов вечера состоится концерт, в котором девочка одиннадцати и мальчик семи лет будут давать концерты на клавесине и рояле. Девочка исполнит труднейшие пьесы великих мастеров, а мальчик, кроме всего прочего, сыграет концерт на скрипке, а также во время симфоний будет аккомпанировать на клавире; затем на клавиатуре, полностью покрытой сукном, он будет играть поверх сукна так же хорошо, как если бы он имел перед глазами открытую клавиатуру; потом на расстоянии он точнейшим образом назовёт все звуки, которые кто-либо окажется в состоянии задать ему, либо в аккордах на клавире, или на всех мыслимых инструментах: колоколах, стаканах, часах, etc. Напоследок он будет фантазировать не только на клавире, но и на органе до тех пор, пока пожелают слушать, используя, в том числе, наитруднейшие тональности, какие ему смогут задать, дабы показать, что он владеет также искусством игры на органе, которое совершенно отличается от искусства игры на клавире…»[4].

