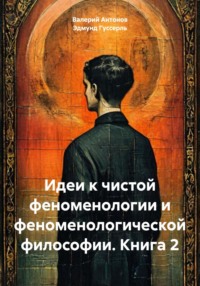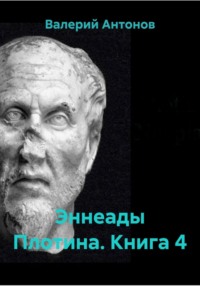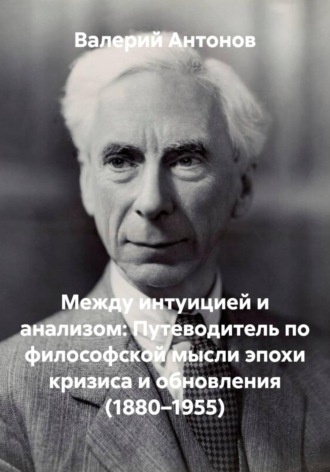
Полная версия
Между интуицией и анализом: Путеводитель по философской мысли эпохи кризиса и обновления (1880–1955)
Не следует понимать эти замечания как свидетельство какого-либо пренебрежения Кольриджа к Природе. Напротив, Кольридж испытывает отвращение к «хвастливой и сверхстоической враждебности Фихте к Природе, рассматриваемой как нечто безжизненное, безбожное и вообще профанное»[13861]. И он проявляет глубокую симпатию к философии Природы Шеллинга, а также к его системе трансцендентального идеализма, в которой, как он говорит, «я впервые нашёл родственный отклик на многое из того, чего я достиг собственными усилиями, и мощную поддержку в том, что мне осталось сделать»[13871]. Строго говоря, Кольриджу нелегко отклонить обвинение в плагиате; он утверждает, что и он, и Шеллинг черпали из одних и тех же источников: сочинений Канта, философии Джордано Бруно и спекуляций Якоба Бёме. Однако влияние Шеллинга кажется вполне очевидным в той линии мысли, которую мы кратко изложим далее.
«Всякое знание покоится на совпадении объекта и субъекта»[13881]. Но хотя субъект и объект соединены в акте познания, мы можем спросить, какой из них первичен. Следует ли исходить из объекта и пытаться добавить к нему субъекта? Или исходить из субъекта и пытаться найти путь к объекту? Иными словами, следует ли утверждать приоритет Природы и пытаться добавить к ней мысль или рассудок, или утверждать приоритет мысли и пытаться вывести из неё Природу?[13891] Кольридж отвечает, что ни то, ни другое невозможно. Высший принцип следует искать в тождестве субъекта и объекта.
Где находится это тождество? «Лишь в самосознании духа обнаруживается требуемое тождество объекта и репрезентации»[13891]. Но если дух в принципе есть тождество субъекта и объекта, он каким-то образом должен растворить это тождество, чтобы стать сознающим себя в качестве объекта. Следовательно, самосознание может возникнуть только через акт воли, и «следует мыслить, что свобода должна быть принята в качестве основания философии и никогда не может быть выведена из неё»[13901]. Дух становится субъектом, познавая себя как объект, только через «акт объективации себя для себя самого»[13911].
Таким образом, кажется, что Кольридж начинает с постановки вопросов, которые задаёт Шеллинг; затем даёт ответ Шеллинга, а именно, что должна постулироваться изначальная тождественность субъекта и объекта; и, наконец, переходит к идее Фихте об «Я», которое конституирует себя как субъект и объект через изначальный акт. Однако Кольридж не намерен резко останавливаться на «Я» как конечном принципе, особенно если под этим понимать конечное «Я». На самом деле, Кольридж высмеивает «эгоизм» Фихте[13921]. Вместо этого он настаивает, что для достижения абсолютного тождества субъекта и объекта, идеального и реального, как конечного принципа не только человеческого познания, но и всей реальности, мы должны «возвысить нашу концепцию до абсолютного Я, великого и вечного Я есмь»[13931]. Кольридж критикует Cogito, ergo sum Декарта и ссылается на различение Канта между эмпирическим и трансцендентальным «Я». Но затем он утверждает, что трансцендентальное «Я» – это абсолютное «Я есмь Сущий» из Книги Исхода[13941] и Бог, в котором конечное «Я» должно одновременно и потерять себя, и обрести.
Очевидно, всё это весьма туманно и неопределённо. Однако в любом случае ясно, что Кольридж противопоставляет спиритуалистическую интерпретацию человеческого «Я» материализму и феноменализму. И очевидно, что именно эта интерпретация «Я», по его мнению, обеспечивает необходимую основу для утверждения, что разум способен постигать сверхчувственную реальность. Действительно, в своём эссе о вере Кольридж определяет её как верность нашему собственному бытию, поскольку наше бытие не является и не может стать объектом чувственного опыта. Наше моральное призвание требует подчинения аппетита и воли разуму; и именно разум постигает Бога как тождество воли и разума, как основание нашего существования и как бесконечное выражение идеала, к которому мы как моральные существа стремимся. Иными словами, перспектива Кольриджа была по сути религиозной, и он стремился соединить философию и религию. Возможно, как отмечает Милль, он пытался превратить христианские таинства в философские истины. Но важным элементом миссии идеализма, как её понимали его более религиозные последователи, было именно предоставление метафизического основания христианской традиции, которая явно казалась лишённой философской поддержки.
В области социальной и политической теории Кольридж был консерватором в том смысле, что выступал против иконоборчества радикалов и желал сохранения и реализации ценностей, присущих традиционным институтам. Правда, в течение некоторого времени он, как и Вордсворт с Саути, был увлечён идеями, вдохновлёнными Французской революцией. Однако он отошёл от радикализма своей юности, хотя его поздний консерватизм проистекал не из отвращения к переменам как таковым, а из веры в то, что институты, созданные национальным духом на протяжении истории, воплощали подлинные ценности, которые людям надлежит стремиться понять. Как говорит Милль, Бентам требовал «уничтожения существовавших до тех пор институтов и верований», тогда как Кольридж требовал, «чтобы они стали реальностью»[13951].
(II) Томас Карлейль (1795–1881) принадлежал к поколению, следующему за Кольриджем; но он был гораздо менее систематичен, чем последний, в изложении своих философских идей, и, без сомнения, многие сегодня находят совершенно нечитаемой его бурную прозу «Sartor Resartus». Тем не менее, он был одним из каналов, по которым германская мысль и литература привлекли внимание англичан.
Первоначальная реакция Карлейля на немецкую философию была не особенно благоприятной, и он высмеивал тёмность Канта и претензии Кольриджа. Однако в своём отвращении к материализму, гедонизму и утилитаризму он пришёл к тому, чтобы видеть в Канте блестящего врага Просвещения и его последствий. Так, в своём эссе «О состоянии немецкой литературы» (1827) он хвалил Канта за то, что тот шёл изнутри вовне, вместо того чтобы следовать локковскому пути, состоявшему в исхождении из чувственного опыта и попытке построить на этой основе философию. Кантианец, по Карлейлю, видит, что фундаментальные истины постигаются интуитивно в самой внутренней природе человека. Иными словами, Карлейль сближается с Кольриджем, используя кантовское ограничение мощи и границ рассудка как основание для утверждения способности разума интуитивно постигать базовые истины и духовные реальности.
Для Карлейля характерно живое чувство тайны мира и его природы как видимости чувственной реальности или как покрова, наброшенного на неё. В эссе «О состоянии немецкой литературы» он пишет, что конечная цель философии – интерпретировать феномены или видимости, перейти от символа к символизируемой реальности. И эта точка зрения выражена в «Sartor Resartus»[13961] под маркой философии одежд. Эта теория может быть применена к человеку как микрокосму. «Что есть человек для вульгарного логика? Двуногий всеядный, носящий брюки. Что есть человек для чистого разума? Душа, дух, божественное явление… Он глубоко сокрыт под этим странным одеянием»[13971]. И эта аналогия может быть применена и к макрокосму, миру в целом. Ибо мир есть, как предсказывал Гёте, «живое видимое одеяние Бога»[13981].
В эссе «О состоянии немецкой литературы» Карлейль прямо связывает свою философию символизма с Фихте, поскольку тот интерпретирует видимую вселенную как символ и чувственное проявление всепроникающей божественной Идеи, постижение которой есть необходимое условие всякой подлинной добродетели и свободы. И действительно, нетрудно понять пристрастие Карлейля к Фихте. Ибо, рассматривая – как он это делает – человеческую жизнь и историю как постоянную борьбу между светом и тьмой, между Богом и злом, борьбу, в которой каждый человек призван участвовать и сделать важнейший выбор, естественно, что он привлекается моральной серьёзностью Фихте и его идеей Природы как всего лишь поля, на котором человек осуществляет своё моральное призвание, поля препятствий – так сказать, – которые человек должен преодолеть в процессе достижения своего идеального конца.
Эта перспектива помогает понять озабоченность Карлейля героем, проявившуюся в его лекциях 1840 года «О героях, почитании героя и героическом в истории». Противопоставляя материализму и тому, что он называет «философией выгоды и потери», он утверждает идеи героизма, морального призвания и личной преданности. Действительно, он не стесняется говорить, что «живительное дыхание всякого общества [есть] не более чем эффект “культа героя”, поклонного восхищения истинно великим. Общество основано на культе героя»[13991]. Более того, «Всемирная история, история того, что человек совершил в мире, есть, в конечном счёте, история “великих людей”, которые действовали здесь»[14001].
Эта настойчивость на роли «великих людей» в истории ставит Карлейля рядом с Гегелем[14011] и предвосхищает в некоторых аспектах Ницше, хотя культ героя в политической сфере – это идея, которую мы, вероятно, рассматривали бы сегодня с иными чувствами. Тем не менее, ясно, что Карлейля особенно привлекали в его героях их серьёзность и преданность, а также их свобода от морали, основанной на гедонистическом расчёте. Например, хотя он был сознавал недостатки и дефекты характера Руссо, сделавшие его «печально умалённым героем»[14021], Карлейль настаивает, что этот маловероятный кандидат в герои обладал «первой и главной характеристикой героя: глубокой серьёзностью. Настолько серьёзный, насколько это возможно, если вообще кто-либо был таковым; серьёзный как никто из французских философов»[14031].
3. Феррье и отношение субъект-объект
Несмотря на публичные заявления обоих, было бы бесполезно искать у Кольриджа и Карлейля систематического развития идеализма. Если мы хотим найти первопроходца в этой области, нам следует обратиться к Джеймсу Фредерику Феррье (1808–1864), занимавшему кафедру моральной философии в Университете Сент-Эндрюса с 1845 года до своей смерти и чья философия принимает решительно систематический характер.
В 1838–1839 годах Феррье опубликовал в журнале Blackwood's Magazine серию статей под названием «Введение в философию сознания». В 1854 году вышла его основная работа «Основания метафизики», примечательная тем, как автор развивает свою доктрину в серии положений, каждое из которых, за исключением первого фундаментального, должно строго логически выводиться из предыдущего. В 1856 году он опубликовал «Шотландскую философию», а его «Лекции по греческой философии и другие философские работы» появились посмертно в 1866 году.
Феррье утверждал, что его философия шотландская до мозга костей. Это не означает, что он считал себя сторонником шотландской философии здравого смысла. Напротив, он резко критиковал Рида и его последователей. Во-первых, философ не должен прибегать к множеству недоказанных первых принципов, а должен использовать дедуктивный метод, присущий метафизике, а не произвольный экспозиционный приём. Во-вторых, шотландские философы здравого смысла склонны смешивать метафизику с психологией вместо обращения к строгому логическому рассуждению[14041]. Что касается сэра Уильяма Гамильтона, то его агностицизм относительно Абсолюта был неуместен.
Заявляя, что его философия шотландская до мозга костей, Феррье хотел дать понять, что не заимствовал её у немцев. Хотя его система не раз рассматривалась как гегельянская, он утверждал, что никогда не был способен понять Гегеля[14051]. Более того, он сомневался, что немецкий философ способен был понять самого себя. И в любом случае, Гегель исходит из Бытия, тогда как его собственная философия берёт в качестве отправной точки познание[14061].
Первый шаг Феррье состоит в поиске абсолютной отправной точки метафизики в положении, устанавливающем неизменный и существенный элемент всякого познания и которое не может быть отрицаемо без противоречия. Такой отправной точкой является то, что «всякий интеллект, познавая что бы то ни было, должен сопровождаться апперцепцией себя самого, как основания или условия своего познания»[14071]. Объект познания – изменчивый фактор. Но я не могу познать ничего, не зная, что это я познаю. Отрицать это – абсурдно. Утверждать это – значит признать, что не существует познания без самосознания, без определённого знания о «я».
Отсюда следует, продолжает Феррье, что ничто не может быть познано иначе как в отношении к субъекту, к «я». Иными словами, объект познания по сути есть «объект для субъекта». И Феррье приходит к выводу, что ничто не может быть мыслимо иначе как в отношении к субъекту. Откуда следует, что материальная вселенная немыслима как существующая без отношения к субъекту.
Критик, возможно, склонен заметить, что Феррье на самом деле говорит лишь то, что я не могу думать о вселенной, не думая о ней, или что я не могу познавать, не познавая её. Если он не говорит больше этого; если, в частности, он совершает переход от эпистемологического аспекта к утверждению онтологического отношения, то, кажется, следует солипсистский вывод, а именно, что существование материального мира немыслимо, если не сделать его зависящим от меня самого как субъекта.
Однако Феррье хочет удержать два положения. Первое: мы не можем мыслить вселенную как «отделённую от всякого Я. Невозможно осуществить такую абстракцию»[14081]. Второе: каждый из нас может отделить вселенную от себя самого, в частности. Из обоих положений следует, что хотя «каждый из нас может отпрячь вселенную (так сказать) от себя, он может сделать это лишь запрягая её мысленно в какое-либо другое Я»[14091]. Это существенный шаг для Феррье, потому что он хочет утверждать, что вселенная немыслима, если только она не существует в синтезе с божественным интеллектом.
Таким образом, первая часть «Оснований метафизики» призвана доказать, что абсолютным элементом познания является синтез субъекта и объекта. Однако Феррье не сразу приходит к этому окончательному выводу. Вместо этого он посвящает вторую часть «агнойологии», теории «незнания». Можно сказать, что мы пребываем в состоянии неведения относительно противоречий необходимых истинных положений. Но это, несомненно, не признак несовершенства интеллекта. Что касается незнания, нас можно назвать незнающими лишь по отношению к тому, что в принципе познаваемо. Следовательно, мы не можем быть незнающими, например, относительно материи «самой по себе» (без отношения к субъекту). Ибо она немыслима и непознаваема. Кроме того, если исходить из предположения, что мы незнающи относительно Абсолюта, то следует, что Абсолют непознаваем. Таким образом, агностицизм Гамильтона несостоятелен.
Но что такое Абсолют или, как говорит Феррье, Абсолютное Существование? Это не может быть ни материя сама по себе, ни дух сам по себе. Ибо ни то, ни другое немыслимо. Следовательно, это должен быть синтез субъекта и объекта. Тем не менее, лишь один такой синтез необходим. Ибо хотя существование вселенной немыслимо иначе как «объект для субъекта», мы уже видели, что вселенная может быть отпряжена или отделена от любого данного конечного субъекта. Таким образом, «существует одна, и не более чем одна, строго необходимая Абсолютная Сущность; и эта сущность есть высший, бесконечный и вечный Интеллект в синтезе со всеми вещами»[14101].
В качестве комментария уместно обратить внимание на достаточно очевидный факт, что утверждение «не может быть субъекта без объекта и объекта без субъекта» аналитически истинно, если термины «субъект» и «объект» понимаются в их эпистемологическом смысле. Также верно, что никакая материальная вещь не может быть помыслена иначе как «объект для субъекта», понимая под этим, что никакая материальная вещь не может быть помыслена, не будучи конституирована («интенционально», как сказали бы феноменологи) как объект. Но это, кажется, мало что добавляет к утверждению, что о вещи нельзя думать, если её не думают. И отсюда не следует, что вещь не может существовать, если о ней не думают. Феррье мог бы, конечно, возразить, что мы не можем логично говорить о вещи как существующей независимо от её осмысления. Ибо сам факт говорения о ней означает её осмысление. Если я пытаюсь мыслить материальную вещь X как существующую вне отношения субъект-объект, моя попытка терпит неудачу из-за того, что я мыслю об X. В таком случае, однако, вещь, кажется, необратимо запряжена, как говорит Феррье, в меня как субъекта. И как же я могу её отпрячь? Если я пытаюсь отпрячь её от себя самого и запрячь в какого-либо другого субъекта, конечного или бесконечного, не становится ли этот другой субъект, согласно предпосылкам Феррье, «объектом для субъекта», где субъектом являюсь я сам?
Я не намерен намекать, что материальная вселенная действительно могла бы существовать независимо от Бога. Скорее, дело в том, что вывод о невозможности такого существования на самом деле не следует из эпистемологических предпосылок Феррье. Вывод, который, кажется, следует из них, – солипсизм. И Феррье избегает этого вывода, лишь апеллируя к здравому смыслу и нашему знанию исторических фактов; то есть, поскольку я не могу всерьёз предположить, что материальная вселенная является лишь объектом для меня как субъекта, я должен постулировать вечный, бесконечный субъект: Бога. Но из предпосылок Феррье, кажется, следует, что «Бог сам по себе», будучи помысленным мной, должен быть «объектом для субъекта», где я – субъект.
4. Критика феноменализма и гедонизма Джоном Гротом
Среди современников Феррье следует упомянуть Джона Грота (1813–1866), брата историка. Профессор моральной философии в Кембридже с 1855 по 1866 год, в 1865 году он опубликовал первую часть «Философских исследований». Вторая часть вышла посмертно в 1900 году. Его «Исследование утилитарной философии» (1870) и «Трактат о моральных идеалах» (1876) также были опубликованы после его смерти. Конечно, сегодня Грот ещё менее известен, чем Феррье, хотя его критика феноменализма и утилитаристского гедонизма не лишена ценности.
Критика феноменализма, проводимая Гротом, может быть объяснена следующим образом: один из главных элементов позитивистского феноменализма – это первоначальная редукция объекта познания к ряду феноменов, а затем применение такого редуктивного анализа к субъекту, эго или «я». Таким образом, субъект сводится к своему собственному объекту. Или, если угодно, субъект и объект сводятся к ряду феноменов, принимаемых за базовую реальность, конечные сущности, из которых ментальным процессом могут быть реконструированы «я» и физические объекты. Однако можно показать, что такая редукция «я» или субъекта несостоятельна. Во-первых, нельзя разумно говорить о феноменах, не соотнося их с сознанием. Ибо то, что является, является перед субъектом внутри сферы, так сказать, сознания. Мы не можем выйти за пределы сознания; его анализ показывает, что оно по сути включает отношение субъект-объект. В примитивном сознании субъект и объект присутствуют смутно или виртуально и постепенно дифференцируются в развитии сознания, пока не возникает явного признания мира объектов, с одной стороны, и «я» или субъекта – с другой, причём особенно такое признание «я» развивается через опыт усилия. Таким образом, поскольку субъект присутствует изначально как один из существенных полюсов, даже в примитивном сознании, он не может быть правомерно сведён к объекту, к ряду феноменов. В то же время, изучение существенной структуры сознания показывает, что мы не имеем дело с «замкнутым в себе» «я», от которого, как в философии Декарта, необходимо перебросить мост к не-«я».
Во-вторых, важно отметить, как феноменалисты упускают из виду активную роль субъекта в конструировании артикулированной вселенной. Субъект или «я» характеризуется целеполагающей активностью: он имеет цели. И в преследовании этих целей он конструирует единства среди феноменов, не в том смысле, что налагает априорные формы на массу несвязанных и хаотичных данных[14111], но скорее в том смысле, что он конструирует свой мир экспериментальным путём, посредством процесса самокоррекции[14121]. Таким образом, опять же по этой причине, в силу активной роли «я» в конструировании мира объектов, ясно, что оно не может быть сведено к ряду феноменов, к его непосредственным объектам.
В области моральной философии Грот яростно выступал против эгоистического гедонизма и утилитаризма. Он критиковал их не за учёт человеческой чувствительности и стремления к счастью. Напротив, сам Грот признавал в науке о счастье – «эвдемонике», как он её называл, – часть этики. Он выступал против исключительной концентрации на поиске удовольствия и последующего пренебрежения другими аспектами человеческой личности, особенно способностью человека к концептуализации и преследованию идеалов, трансцендирующих поиск удовольствия и могущих требовать самопожертвования. Так, к «эвдемонике» он добавил «аретику», науку о добродетели. И он настаивал, что моральная задача состоит в объединении низших и высших элементов человеческой природы на службе моральным идеалам. Ибо наши действия являются моральными, когда они переходят из сферы чистой спонтанности – как при следовании импульсу к удовольствию – в сферу обдуманного и волевого, где импульс поставляет динамический элемент, а интеллектуально постигнутые принципы и идеалы – регулирующий.
Очевидно, что критика Гротом утилитаризма за забвение высших аспектов человека при исключительной концентрации на поиске удовольствия лучше применима к бентамовскому гедонизму, чем к версии утилитаризма, переработанной Дж. С. Миллем. Однако в любом случае речь шла не столько о том, чтобы указать, что утилитаристский философ не мог бы предоставить адекватную теоретическую рамку для таких идеалов. Основная идея Грота заключалась в том, что это могло быть разрешено только через радикальный пересмотр концепции человека, унаследованной Бентамом от таких авторов, как Гельвеций. Гедонизм, согласно Гроту, не мог объяснить сознание долга. Ибо такое сознание возникает, когда человек, концептуализируя моральные идеалы, чувствует необходимость подчинить свою низшую природу высшей.
5. Возрождение интереса к греческой философии и рост интереса к Гегелю: Б. Джоуэтт и Дж. Х. Стирлинг
Можно без труда увидеть связь между идеалистическим восприятием неадекватности бентамовского понятия человеческой природы и возрождением интереса к греческой философии, имевшим место в университетах, особенно в Оксфорде, на протяжении XIX века. Мы уже видели, что Кольридж считал свою философию фундаментально платонической по вдохновению и характеру. Но возрождение платоновских исследований в Оксфорде особенно ассоциируется с именем Бенджамина Джоуэтта (1817–1893), который стал членом Баллиол-колледжа в 1838 году и занимал кафедру греческого языка с 1855 по 1893 год. Недостатки его знаменитого перевода «Диалогов» Платона сейчас не важны. Факт в том, что на протяжении своей долгой педагогической карьеры он мощно способствовал возрождению интереса к греческой мысли. И не лишено значения, что Т. Х. Грин и Э. Керд, оба видные фигуры идеалистического движения, были его учениками. Интерес к Платону и Аристотелю естественно склонял мысль от гедонизма и утилитаризма к этике собственного совершенствования, основанной на метафизически структурированной теории человеческой природы.
Возрождение интереса к греческой мысли сопровождалось растущим уважением к немецкому идеалистическому мышлению. Сам Джоуэтт интересовался последним, особенно мыслью Гегеля[14131], и способствовал стимулированию изучения немецкого идеализма в Оксфорде. Однако первая масштабная попытка прояснить те, казавшиеся Феррье едва ли постижимыми, глубины Гегеля была предпринята шотландцем Джеймсом Хатчисоном Стирлингом (1820–1909) в его двухтомной работе «Секрет Гегеля», вышедшей в 1865 году[14141].
Стирлинг увлёкся Гегелем во время поездки в Германию, особенно во время пребывания в Гейдельберге в 1856 году; результатом стал «Секрет Гегеля». Несмотря на замечания, что если автор и знал секрет Гегеля, то тщательно хранил его при себе, книга знаменует в Англии начало серьёзных исследований гегельянства. По мнению Стирлинга, философия Юма была кульминацией Просвещения, тогда как Кант[14151], взяв ценное из мысли Юма и применив его к развитию новой линии размышления, довёл Просвещение до зрелости и одновременно превзошёл и трансцендировал его. Тем не менее, хотя Кант заложил основания идеализма, именно Гегель возвёл и завершил здание. И понять секрет Гегеля – значит понять, как он сделал эксплицитной доктрину конкретного универсального, которая была имплицитна в критической философии Канта.
Примечательно, что Стирлинг видел в Гегеле не только современного философа, подобно тому как Аристотель был вершиной греческой мысли, но и величайшего интеллектуального защитника христианской религии. Без сомнения, он приписывал Гегелю чрезмерно высокую степень теологической ортодоксии; но его отношение служит иллюстрацией религиозного интереса, характеризовавшего идеалистическое движение до Брэдли. По Стирлингу, Гегель стремился доказать, среди прочего, бессмертие души. И хотя мало свидетельств того, что Гегель проявлял большой интерес к этой теме, интерпретация Стирлинга может быть понята как отражение акцента, который ранние идеалисты делали на конечном духовном «я», акцента, гармонировавшего с их склонностью сохранять более или менее теистическую перспективу.