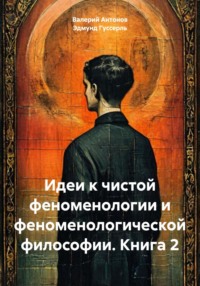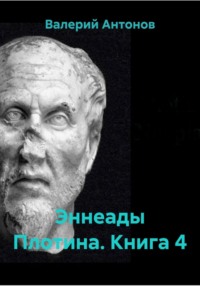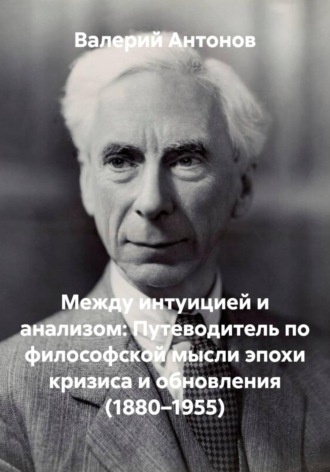
Полная версия
Между интуицией и анализом: Путеводитель по философской мысли эпохи кризиса и обновления (1880–1955)
Социолог изучает рост, структуру, функции и продукты человеческих обществ. Возможность социологической науки дана тем фактом, что социальные феномены представляют собой упорядоченное отношение причины и следствия, которое позволяет предсказание; что не отменяется фактом, что социальные законы являются статистическими, а предсказания в этой области приблизительными. «Только половина науки является точной наукой». Требуется возможность обобщения, а не количественная точность. Что касается полезности социологии, Спенсер утверждает, несколько расплывчато, что если возможно воспринять порядок в структурных и функциональных изменениях, через которые проходит общество, «знание такого порядка едва ли не повлияет на наши суждения о том, что является прогрессивным и ретроградным, что желательно, что выполнимо, что утопично».
Рассматривая борьбу за существование в общем эволюционном процессе, мы находим очевидные аналогии между неорганической, органической и сверхорганической (социальной) сферами. Поведение неодушевлённого объекта зависит от отношений между его собственными силами и внешними силами, которым он подвергается. Подобным образом, поведение органического тела есть результат объединённых влияний его внутренней природы и его окружения, будь то неорганическое или органическое. Кроме того, всякое человеческое общество «проявляет ряд феноменов, приписываемых характеру его индивидов и условиям, в которых они существуют».
Несомненно верно, что обе группы факторов, внутренних и внешних, не остаются статичными. Например, человеческая мощь – физическая, эмоциональная и интеллектуальная – развивалась на протяжении истории, в то время как развивающееся общество производило заметные изменения в своём органическом и неорганическом окружении. Более того, продукты развивающегося общества – его институты и культурные творения – являются причиной новых влияний. Более того, чем более развиты человеческие общества, тем больше они будут реагировать друг на друга, то есть сверхорганический фактор будет иметь ещё большее значение. Но, несмотря на возрастающую сложность ситуации, во всех трёх сферах можно различить аналогичное взаимное влияние внутренних и внешних сил.
Хотя существует преемственность между неорганической, органической и сверхорганической сферами, существует также и разрыв. Если есть сходство, есть и различие. Рассмотрим, например, идею общества как организма. Как и в случае органического тела в собственном смысле слова, рост общества сопровождается прогрессирующей дифференциацией структур, ведущей к прогрессирующей дифференциации функций. Но этот пункт сходства между органическим телом и человеческим обществом составляет также пункт расхождения между ними и неорганическим телом. Ибо, по мнению Спенсера, действия различных частей неорганического объекта не могут быть надлежащим образом рассмотрены как функции. Более того, существует важное различие между процессом дифференциации в органическом теле и тем же процессом в социальном организме. Ибо в последнем мы не находим такого типа дифференциации, который в первом приводит к превращению одной части в орган интеллекта, а других частей в органы чувств, в то время как остальные не превращаются. В органическом теле «сознание сконцентрировано в малой части целого», тогда как в социальном организме «оно рассеяно по всему целому: все единицы способны к счастью и несчастью, если не в равной степени, то по крайней мере в приблизительных степенях».
Энтузиаст интерпретации политического общества как организма мог бы, конечно, попытаться найти конкретные аналогии между дифференциацией функций в органическом теле и в обществе. Но это привело бы его к утверждению, например, что правительство аналогично мозгу и что другие части общества должны оставить функцию мышления правительству и ограничиться подчинением его решениям. И это именно тот вывод, которого Спенсер хочет избежать. Он настаивает, таким образом, на относительной независимости индивидуальных членов политического общества и отвергает аргумент, что общество есть организм в смысле того, что оно является чем-то большим, чем сумма его членов, и обладает целью, отличной от целей его членов. «И таким образом, поскольку не существует социального сенсориума, не должно искать благополучие целого, рассматриваемого отдельно от благополучия его членов. Общество существует для блага своих членов; не члены для блага общества». Другими словами, мы можем сказать, что ноги и руки существуют для блага всего тела, но в случае общества нужно сказать, что целое существует для частей. Вывод Спенсера, в любом случае, ясен. И хотя его аргументы иногда бывают туманными и сложными, ясно, что, по его мнению, аналогия организма, применённая к политическому обществу, не только приводит к ложным выводам, но и опасна.
Ситуация, фактически, такова: решение Спенсера применить идею эволюции ко всем типам феноменов заставляет его говорить о политическом обществе, о государстве как о сверхорганизме. Но поскольку он является решительным защитником индивидуальной свободы против требований и злоупотреблений государства, он пытается вырвать жало у этой аналогии, указывая на существенные различия между органическим телом и политическим телом. И он делает это, утверждая, что хотя политическое развитие есть процесс интеграции в смысле роста социальных групп и слияния индивидуальных воль, оно также есть переход от однородности к разнородности, так что дифференциация имеет тенденцию увеличиваться. Например, с прогрессом цивилизации к современному индустриальному государству классовые различия более примитивных обществ имеют тенденцию – так полагает Спенсер – становиться менее жёсткими и даже исчезать. И это признак прогресса.
Позиция Спенсера зависит частично от его тезиса, что «состояние однородности есть состояние нестабильное; и где уже есть некоторая разнородность, имеет место тенденция к большей разнородности». Принимая эту идею эволюционного движения, очевидно следует, что общество с относительно большей дифференциацией будет более развитым, чем то, где дифференциация относительно меньше. В то же время ясно, что точка зрения Спенсера зависит также от ценностного суждения, а именно, что общество, в котором индивидуальная свобода сильно развита, внутренне более достойно восхищения и признания, чем общество, где меньше индивидуальной свободы. В самом деле, Спенсер полагает, что общество, воплощающее принцип индивидуальной свободы, более достойно выживания, чем общества, которые не воплощают этот принцип. И это может быть понято как просто эмпирическое суждение. Но, в любом случае, я считаю, что Спенсер рассматривает первый тип общества как более достойный выживания потому, что его внутренняя ценность выше.
Оставляя в стороне исследования Спенсера о первобытных обществах и их развитии, можно сказать, что он сосредотачивает своё внимание главным образом на переходе от типа милитаристского или воинствующего общества к типу индустриального общества. Воинствующее общество – это в основе «то, в котором армия есть мобилизованная нация, тогда как нация есть армия в неактивном состоянии, и в котором, следовательно, армия и нация имеют общую структуру». Несомненно, что такой тип общества может испытать некоторое развитие. Например, военный лидер становится гражданским или политическим главой, как в случае римского императора; и в конечном счёте армия становится профессиональной специализированной ветвью сообщества, вместо того чтобы совпадать со взрослым мужским населением. Но в воинствующем обществе в целом доминируют элементы интеграции и сплочённости. Первоначальной целью является защита общества, тогда как защита индивидуальных членов имеет значение лишь как средство для достижения первичной цели. Кроме того, в этом типе общества требуется постоянная дисциплина, и «индивидуальность каждого члена настолько подчинена в том, что касается жизни, свободы и собственности, что в значительной степени или полностью он является собственностью государства». Более того, поскольку воинствующее общество стремится к самодостаточности, «политическая автономия стремится сопровождаться экономической автономией». Нацистская Германия, без сомнения, была бы для Спенсера хорошим примером возрождения общества воинствующего типа в новую индустриальную эпоху.
Спенсер не отрицает, что общество воинствующего типа имело существенную роль в эволюционном процессе, рассматриваемом как борьба за существование, в которой выживает наиболее приспособленный. Но он утверждает, что хотя межсоциальный конфликт был необходим для формирования и роста обществ, развитие цивилизации делает войну всё более бесполезной. Общество воинствующего типа становится, таким образом, анахронизмом, и необходим переход к тому, что Спенсер называет обществом индустриального типа. Это не означает, что борьба за существование прекращается, но она меняет форму, превращаясь в «индустриальную борьбу за существование», в которой больше шансов выжить у того общества, которое производит «наибольшее количество лучших индивидов, индивидов лучше приспособленных к жизни индустриального государства». Таким образом, Спенсер пытается избежать обвинения в том, что, дойдя до концепции индустриального общества, он покидает идею борьбы за существование и выживания наиболее приспособленного.
Было бы серьёзной ошибкой предполагать, что под обществом индустриального типа Спенсер понимает просто общество, в котором граждане заняты исключительно и главным образом экономической жизнью производства и распределения. Ибо индустриальное общество, понимаемое в этом узком смысле, могло бы быть совместимо с полным регулированием труда государством. И именно этот элемент принуждения Спенсер стремится исключить. На экономическом уровне Спенсер имеет в виду общество, управляемое принципом laissez-faire. Таким образом, с его точки зрения, коммунистическое и социалистическое государства были бы далеки от воплощения сущности общества индустриального типа. Функция государства состоит в поддержании свободы и индивидуальных прав и, в случае необходимости, в суждении между антагонистическими правами. Не функция государства – позитивно вмешиваться в жизни и поведение граждан, за исключением случаев, когда такое вмешательство требуется для сохранения внутреннего мира.
Другими словами, в индустриальном обществе идеального типа, согласно интерпретации Спенсера, члены, рассматриваемые как индивиды, приобретают большее значение, чем целое, общество как совокупность. «При индустриальном режиме индивидуальность гражданина, вместо того чтобы быть принесённой в жертву обществу, должна быть защищена им. Защита такой индивидуальности становится существенной обязанностью общества.» То есть, кардинальной функцией государства становится справедливое суждение об антагонистических правах граждан как индивидов и предотвращение нарушения свободы одного человека другим.
Тезис Спенсера о всеобщей применимости закона эволюции, очевидно, обязывает его утверждать, что эволюционное движение имеет тенденцию к развитию государства индустриального типа, рассматриваемого Спенсером – несколько оптимистично – как общество по сути мирное. Но тенденции государства к вмешательству и навязыванию правил, проявившиеся в последние десятилетия жизни Спенсера, побудили его выразить страх перед тем, что он назвал «грядущим рабством», и яростно атаковать любую тенденцию государства или какого-либо из его органов считать себя абсолютным. «Великим политическим суеверием прошлого было божественное право королей. Великим политическим суеверием настоящего является божественное право парламентов.» Более того, «функция “либерализма” в прошлом состояла в ограничении полномочий королей. Функция истинного “либерализма” в будущем будет состоять в ограничении полномочий парламентов».
Очевидно, что в этом решительном нападении на «грядущее рабство» Спенсер не мог просто ссылаться на автоматическую работу какого-либо закона эволюции. Его слова явно вдохновлены страстным убеждением в ценности свободы и индивидуальной инициативы, убеждением, которое является отражением характера и темперамента человека, который никогда и ни в какое время своей жизни не склонялся перед авторитетом просто потому, что он установлен. И примечательно, что Спенсер распространил своё нападение на то, что он считал злоупотреблениями государства в отношении частной свободы, до такой степени, что осудил фабричное законодательство, санитарный надзор правительственных чиновников, государственное управление почтой, государственную помощь бедным и государственное образование. Само собой разумеется, он не осуждал реформу как таковую, ни благотворительность, ни существование больниц и школ. Но он всегда настаивал, что такие проекты должны организовываться добровольно, выступая против действий, управления и контроля со стороны государства. Короче говоря, его идеалом было общество, в котором, как он говорил, индивид есть всё, а государство ничто, в противоположность обществу воинствующего типа, в котором государство есть всё, а индивид ничто.
Отождествление Спенсером общества индустриального типа с мирным и антимилитаристским обществом может показаться странным, если мы не утверждаем это как истину по определению. И его защита, доведённая до крайности, политики laissez-faire может показаться нам эксцентричной или, по крайней мере, пережитком устаревшей перспективы. Спенсер, кажется, не понял, как понял Милль, по крайней мере отчасти, и как более полно понял идеалист Т. Х. Грин, что социальное законодательство и так называемое вмешательство государства вполне могут быть необходимы для защиты законных притязаний каждого индивида на достойную человеческую жизнь.
В то же время, неприязнь Спенсера к социальному законодательству (которое сегодня принимается как должное подавляющим большинством граждан в Великобритании) не должна затмевать тот факт, что Спенсер, подобно Миллю, видел опасности бюрократии и любого возвеличивания власти и функций государства, которое имело бы тенденцию подавлять свободу и индивидуальную инициативу. В любом случае, я полагаю, что забота об общем благе ведёт к одобрению государственной деятельности в гораздо большей степени, чем Спенсер был готов принять. Но никогда не следует забывать, что общее благо не есть нечто совершенно отличное от индивидуального блага. И Спенсер, несомненно, был совершенно прав, полагая, что ради блага индивидов и общества в целом граждане должны иметь возможность свободно развиваться и проявлять свою инициативу. Мы можем думать, что это функция государства – создавать и поддерживать условия, позволяющие индивидам развиваться, и что это подразумевает, например, обязанность государства предоставлять все средства образования в соответствии со способностями индивидов ими воспользоваться. Но как только мы принимаем принцип, что государство должно позитивно заботиться о создании и поддержании условий, подходящих для того, чтобы каждый индивид вёл достойную человеческую жизнь в соответствии со своими способностями, мы подвергаемся сопутствующей опасности забыть, что общее благо не есть абстрактная сущность, которой должны безжалостно приноситься в жертву интересы индивидов. И отношение Спенсера, несмотря на его эксцентричные преувеличения, может послужить нам напоминанием, что государство существует для человека, а не человек для государства. Более того, государство есть лишь одна из форм социальной организации: оно не единственная законная форма общества. И Спенсер, конечно, понимал это.
Как уже указывалось, политические взгляды Спенсера были частично выражением эмпирических суждений, связанных с его интерпретацией эволюционного движения в целом, и частично выражением ценностных суждений. Например, его утверждение, что то, что он называет обществом индустриального типа, более достойно выживания, чем другие типы общества, было отчасти предсказанием, что такое общество действительно выживет в силу эволюционного процесса. Но это также было частично суждением, что индустриальный тип общества заслуживает выживания из-за своей внутренней ценности, было только частично суждением. В самом деле, вполне ясно, что в Спенсере позитивная оценка личной свободы была действительно решающим фактором для его представления о современном обществе. Также ясно, что если человек решил, чтобы, насколько это от него зависит, выжил тип общества, уважающий свободу и индивидуальную инициативу, такое решение основывается главным образом на ценностном суждении, а не на какой-либо теории об автоматическом исполнении закона эволюции.
5. Относительная и абсолютная этика.
Спенсер задумал свою этическую теорию как кульминацию своей системы. В предисловии к «Данным этики» он указывает, что его первый очерк «Собственная сфера правительства» (1842) смутно намекал на некоторые общие принципы относительно добра и зла в политическом поведении. И он добавляет, что «всё это время моей конечной целью, той, что лежит за всеми непосредственными целями, было найти научную основу для принципов добра и зла в поведении в целом». Идея сверхъестественного авторитета как основы этики ослабела. Самое насущное теперь – дать морали независимую научную основу, свободную от религиозных верований. И для Спенсера это означает обосновать этику на теории эволюции.
Поведение в целом, включая поведение животных, состоит из ряда действий, направленных на определённые цели. И чем выше мы поднимаемся по шкале эволюции, тем яснее найдём свидетельства существования целенаправленных действий, направленных на благо индивида и вида. Но мы также видим, что телеологическая деятельность такого рода является частью борьбы за существование между различными индивидами одного вида и между различными видами. То есть, каждое существо пытается сохранить себя за счёт другого, и каждый вид поддерживает себя за счёт другого.
Этот тип целенаправленного поведения, в котором проигрывает более слабый, является для Спенсера поведением несовершенно развитым. В совершенном поведении – собственно этическом поведении – антагонизмы между соперничающими группами и между индивидуальными членами одной группы будут заменены сотрудничеством и взаимопомощью. Совершенное поведение, однако, достигается лишь в той мере, в какой воинствующие общества уступают место постоянно мирным обществам. Другими словами, оно не может быть достигнуто устойчивым образом иначе как в полностью развитом обществе, единственном способном преодолеть и превзойти напряжения между эгоизмом и альтруизмом.
Это различение между совершенным и несовершенным поведением служит основой для различения относительной и абсолютной этики. Абсолютная этика есть «идеальный кодекс поведения, который формулирует способ поведения человека, полностью адаптированного к полностью развитому обществу», тогда как относительная этика имеет дело с типом поведения, который в наших нынешних обстоятельствах (то есть в более или менее несовершенных обществах) ближе всего к этому идеалу. По мнению Спенсера, просто ложно, что в любом наборе обстоятельств, требующих от нас целенаправленного действия, мы всегда сталкиваемся с дилеммой между абсолютно хорошим и абсолютно плохим действием. Например, я могу оказаться в таких обстоятельствах, что, как бы я ни поступил, я причиню вред другому человеку. А действие, причиняющее вред другому, не может быть абсолютно хорошим. В таких обстоятельствах, следовательно, я должен попытаться увидеть, какое из возможных действий является относительно хорошим, то есть которое из них, вероятно, причинит наибольшую меру добра и наименьшую меру зла. Я не могу претендовать на то, что моё суждение непогрешимо. Я могу действовать только согласно тому, что кажется мне лучшим, после того как посвятил вопросу всё размышление, которое, по-видимому, требует относительная важность дела. Правда, я могу принимать во внимание идеальный кодекс поведения абсолютной этики, но я не могу честно предположить, что эта норма послужит мне предпосылкой для безошибочного вывода того, что будет относительно лучшим в обстоятельствах, в которых я нахожусь.
Спенсер принимает утилитаристскую этику в том смысле, что он рассматривает счастье как конечную цель жизни и измеряет добро или зло действий по отношению к этой цели. По его мнению, «постепенное развитие утилитаристской этики было, в действительности, неизбежным». В самом деле, с самого начала существовал зарождающийся утилитаризм, в том смысле, что некоторые действия всегда считались хорошими, а другие – вредными для человека и общества. Но в древних обществах этические кодексы были связаны с авторитетом того или иного рода, или с идеей божественного авторитета и санкций, налагаемых обращением к божеству, тогда как со временем этика становилась независимой от неэтических верований, и возникала моральная перспектива, основанная просто на естественных и различимых последствиях действий. Другими словами, эволюционный процесс в области морали способствовал развитию утилитаризма. Следует добавить, однако, что утилитаризм должен пониматься таким образом, чтобы допускать различие между абсолютной и относительной этикой. В самом деле, сама идея эволюции указывает на процесс, ведущий к идеальному пределу. И в таком прогрессе улучшение в добродетели не может быть отделено от социального улучшения. «Невозможно сосуществование совершенного человека и несовершенного общества.»
Поскольку для Спенсера утилитаризм является этикой с научным основанием, понятно, что он желает показать, что это не просто одна из многих взаимно исключающих систем, а что он предоставляет место всем истинам, содержащимся в других системах. Так, он утверждает, например, что правильно понятый утилитаризм принимает точку зрения, настаивающую на понятиях добра, зла и долга, а не на достижении счастья. Бентам мог полагать, что нужно стремиться к счастью непосредственно, применяя гедонистический расчёт. Но он ошибался. На самом деле, он был бы прав, если бы достижение счастья не зависело от выполнения ряда условий. Но в таком случае любое действие было бы моральным, лишь бы оно производило удовольствие. И это представление несовместимо с моральным сознанием. В действительности, достижение счастья зависит от выполнения определённых условий, то есть от соблюдения определённых предписаний или моральных правил. И к чему мы должны стремиться непосредственно, так это к выполнению таких условий. Бентам полагал, что каждый знает, что такое счастье, и что оно более понятно, чем, например, принципы справедливости. Но эта идея противоречит истине. Принципы справедливости легко понятны, тогда как совсем нелегко сказать, что такое счастье. Спенсер защищает, таким образом, то, что он называет «рациональным» утилитаризмом, утилитаризм, который «имеет своей непосредственной целью соответствие определённым принципам, которые, по природе вещей, являются определяющей причиной благополучия».
Более того, тезис о том, что моральные правила могут быть установлены индуктивно путём наблюдения естественных последствий действий, не ведёт к выводу, что теория морального интуиционизма ложна. Ибо существуют так называемые моральные интуиции, хотя они состоят не в чём-то таинственном и необъяснимом, а в «медленно организованных эффектах опыта, полученного расой». То, что изначально было индукцией из опыта, может в последующих поколениях обрести для индивида силу интуиции. Индивид может видеть или чувствовать инстинктивно, что определённое действие хорошо или плохо, хотя эта инстинктивная реакция является продуктом накопленного опыта расы.
Подобным образом, утилитаризм вполне может признать некоторую истину в аргументе, что цель, к которой мы должны стремиться, есть совершенство нашей природы. Ибо эволюционный процесс имеет тенденцию вызывать к жизни высшую форму жизни. И хотя счастье есть высшая цель, «то, что всякая теория о моральном поведении ищет явно или смутно, есть сопутствующий признак этой высшей жизни». Что касается тезиса, что добродетель есть цель человеческого поведения, это не более чем способ выразить доктрину, что нашей непосредственной целью должно быть выполнение условий, необходимых для достижения высшей формы жизни, к которой стремится эволюционный процесс. Достигнув такой формы жизни, её следствием было бы счастье.
Само собой разумеется, Спенсер не мог претендовать на то, что его этическая теория основывается на теории эволюции, не признавая некоторой преемственности между биологической и моральной эволюцией. И он утверждает, например, что человеческая справедливость должна быть развитием до-человеческой справедливости. В то же время, в предисловии, позже изъятом, к частям пятой и шестой «Основ этики», он признаёт, что теория эволюции не служила руководством в желаемой мере.
Однако, кажется, он никогда не понимал, что эволюционный процесс как исторический факт сам по себе не мог установить ценностные суждения, которые он выводил из своей интерпретации. Например, даже если мы утверждаем, что эволюция движется к возникновению определённого типа человеческой жизни в обществе и что такой тип, таким образом, оказывается наиболее приспособленным к выживанию, из этого не следует с необходимостью, что он морально является наиболее совершенным типом. Как видел Т. Г. Гексли, эмпирическая приспособленность к выживанию в борьбе за существование и моральное совершенство не обязательно одно и то же.