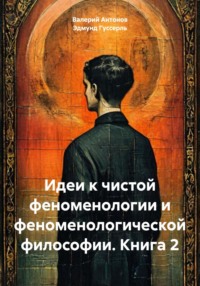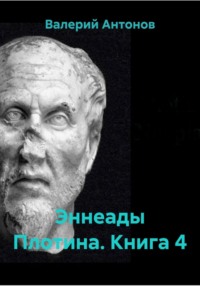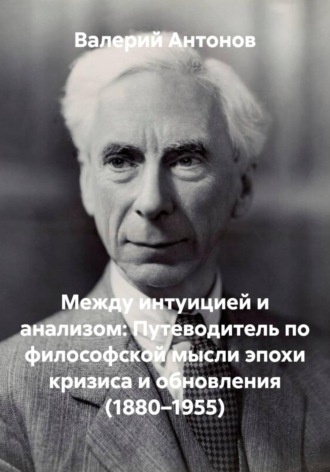
Полная версия
Между интуицией и анализом: Путеводитель по философской мысли эпохи кризиса и обновления (1880–1955)
Из этой тесной связи политического общества и осуществления морального конца человека следует, что «мораль и политическая подчинённость имеют общий источник, при условии, что “политическая подчинённость” отличается от подчинённости раба, поскольку это подчинённость, гарантирующая ряд прав подданному. Этот общий источник есть рациональное признание определёнными человеческими существами – которые могут быть просто детьми одного отца – общего благосостояния, которое есть их собственное, и которое они осознают как своё, независимо от того, склонен ли в какой-либо момент кто-либо из них к нему или нет…»[14421]. Очевидно, что любой индивид может быть не склонен стремиться к тому, что способствует этому благосостоянию или общему благу. Таким образом, необходимы моральные правила или предписания и, в политической сфере, законы. По мнению Грина, следовательно, моральный и политический долг тесно связаны. Реальная основа обязанности подчиняться государственному закону – не страх и не простая целесообразность, но моральная обязанность человека избегать тех действий, которые несовместимы с осуществлением его морального конца, и совершать те, которые требуются для осуществления этого конца.
Это подразумевает, что не может быть права на неподчинение или восстание против государства как такового. То есть, «поскольку действующие законы в любом месте или в любое время осуществляют идею государства, не может быть права их нарушать»[14431]. Но, как признавал Гегель, отнюдь не всегда реальное государство отражает идею или идеал государства; и данный закон может быть несовместим с интересом или реальным благом общества как целого. Таким образом, гражданское неповиновение во имя блага или общего благосостояния может быть оправдано. Очевидно, люди должны принимать во внимание тот факт, что именно во имя публичного интереса законы должны соблюдаться. И защита этого публичного интереса часто будет больше способствовать тенденции к отмене спорного закона, чем к его абсолютному нарушению. Кроме того, человек должен думать, не может ли из неповиновения спорному закону произойти худшее зло, такое как анархия. Но моральное основание политического долга не подразумевает, что гражданское неповиновение никогда не может быть оправданно. Грин устанавливает довольно узкие границы для сферы гражданского неповиновения, говоря, что для его оправдания мы должны быть способны «указать на некий публичный интерес, общепризнанный как таковой»[14441]. Но из того, что он говорит далее, не кажется, что условие «общепризнанный как таковой» хочет полностью исключить возможность определённого права на гражданское неповиновение во имя идеала, большего, чем разделяемый сообществом в целом. Скорее, ссылка является призывом к общепризнанному публичному интересу против закона, принятого не в пользу общественного блага, а в частном интересе отдельной группы или класса.
Учитывая идею Грина о том, что государство существует для содействия общему благу, создавая и поддерживая условия, в которых все его граждане могут развивать свои возможности как личности, понятно, что он не соглашается с атаками на социальное законодательство за нарушение индивидуальной свободы, когда свобода означает возможность делать всё, что угодно, не принимая во внимание других. Некоторые, указывает Грин, говорят, что их права нарушаются, если им запрещают, например, строить дома без учёта санитарных требований или отправлять своих детей на работу, не получивших надлежащего образования. В действительности, однако, никакое право не нарушается. Ибо право человека зависит от социального признания с целью благосостояния общества как целого. И когда общество видит, как оно не видело раньше, что общее благо требует нового закона, например, закона, предписывающего начальное образование, оно перестаёт признавать как право то, что ранее формально считало таковым.
Без сомнения, в определённых обстоятельствах апелляция от менее адекватной к более адекватной концепции общего блага и его требований может принимать форму настаивания на большей мере индивидуальной свободы. Ибо человеческие существа не могут развиваться как личности, если у них нет простора для осуществления такой свободы. Но Грин фактически пытается противостоять догмам laissez-faire. Он не защищает ограничение индивидуальной свободы со стороны государства как таковое. Фактически, социальное законодательство, которое он одобряет, он понимает как устранение препятствий к свободе, то есть к свободе граждан развивать свои возможности как человеческих существ. Например, закон, устанавливающий минимальный возраст, с которого дети могут начать работать, устраняет препятствие к получению образования. Правда, закон ограничивает свободу родителей и потенциальных работодателей, мешая им делать то, что они хотят, без учёта общего блага. Но в этом смысле Грин не готов допускать никаких компромиссов общего блага со свободой. Частные, личные и классовые интересы, как бы они ни маскировались под апелляцию к индивидуальной свободе, не должны препятствовать созданию государством условий, дающих его гражданам возможность развиваться как человеческие существа и жить подлинно человеческими жизнями.
Таким образом, у Грина мы имеем явный пример пересмотра либерализма в соответствии с ощущением необходимости развития социального законодательства. Можно сказать, что он пытается интерпретировать действующий идеал движения, развивавшегося в последние десятилетия XIX века. Можно критиковать формулировку его теории; но, несомненно, это была теория, предпочтительная не только по сравнению с догматизмом laissez-faire, но и по сравнению с попытками сохранить этот догматизм как принцип, делая при этом ряд несовместимых с ним уступок.
В заключение следует отметить, что Грин не упускает из виду факт, что осуществление морального призвания через выполнение обязанностей, присущих нашему «положению» в обществе, может показаться идеалом несколько упрощённым и неадекватным. Ибо «могут быть основания утверждать, что определённые возможности человеческого духа не реализуемы в определённых лицах в условиях какого бы то ни было известного нам общества или общества, которое мы можем позитивно мыслить или которое может существовать на земле»[14451]. Таким образом, если только мы не считаем неразрешимой проблему, поставленную нереализуемыми возможностями, мы можем верить, что личностная жизнь, проживаемая на земле в условиях, препятствующих её полному развитию, продолжается в обществе, в котором человек может достичь своей полной совершенности, «Или мы можем удовлетвориться, говоря, что сознающее и личностное существо, приходящее от Бога, продолжается вечно в Боге»[14461]. Грин говорит так, чтобы слишком себя не обязывать. Но его личная позиция, кажется, гораздо ближе к Канту, который постулировал продолжение жизни после смерти как непрерывный процесс совершенствования, чем к Гегелю, который, кажется, не проявлял интереса к проблеме личного бессмертия, верил он в него или нет.
4. Э. Керд и единство, лежащее в основе различия между субъектом и объектом
Идея единства, лежащего в основе различия между субъектом и объектом, выходит на первый план в мысли Эдварда Керда (1835–1908), члена Мертон-колледжа в Оксфорде (1864–1866), профессора моральной философии в Университете Глазго (1866–1893) и мастера Баллиол-колледжа в Оксфорде (1893–1907). Его знаменитая работа «Критический обзор философии Канта» вышла в 1877 году; а в 1889 году появилось переработанное издание в двух томах под названием «Критическая философия Канта». В 1883 году Керд опубликовал небольшую работу о Гегеле[14471], которая до сих пор считается одной из лучших введений в изучение этого философа. Из других сочинений Керда можно упомянуть «Социальная философия и религия Конта» (1885), «Эссе о литературе и философии» (два тома, 1892), «Эволюция теологии у греческих философов» (два тома, 1904), «Эволюция религии» (два тома, 1893). Две последние работы – это опубликованные версии циклов «Гиффордских лекций».
Хотя Керд писал о Канте и Гегеле и использовал метафизический идеализм как инструмент интерпретации человеческого опыта и как оружие для борьбы с материализмом и агностицизмом, он не был и не претендовал на то, чтобы быть последователем Гегеля или какого-либо другого немецкого философа. В действительности он считал, что любая попытка импортировать философскую систему в чужую страну неуместна[14481]. Бесполезно предполагать, что то, что удовлетворило прошлое поколение в Германии, удовлетворит последующее поколение в Великобритании. Ибо интеллектуалу необходимо меняться вместе с обстоятельствами.
В современном мире, говорит Керд, мы видели, как рефлексирующий интеллект подвергает сомнению спонтанные убеждения человека и разделяет факторы, ранее соединённые. Например, у нас есть расхождение между картезианской отправной точкой, сознающим себя эго, и точкой эмпиристов, объектом как данным в опыте. И расстояние между обеими традициями возросло настолько, что нам говорят, что мы должны свести физическое к психическому или психическое к физическому. Иными словами, нас приглашают выбирать между идеализмом и материализмом, как если бы антагонистические требования обоих не могли быть примирены. Кроме того, существует углублённая пропасть между религиозным сознанием и верой, с одной стороны, и научной перспективой – с другой; пропасть, которая заставляет нас выбирать между религией и наукой, поскольку обе не могут быть примирены.
Когда такие оппозиции и конфликты возникают в культурной жизни человека, невозможно просто вернуться к унифицированному, но наивному сознанию более ранней эпохи. Также недостаточно апеллировать, как Шотландская школа, к принципам здравого смысла. Ибо именно эти принципы были поставлены под вопрос, например, юмовским скептицизмом. Таким образом, рефлексирующий интеллект вынужден обратиться к синтезу, в котором противоположные точки зрения могут быть примирены на уровне, более высоком, чем уровень наивного сознания.
Кант много способствовал выполнению этой миссии. Однако важность его вклада не была понята, по мнению Керда, главным образом по вине самого Канта. Ибо вместо того, чтобы интерпретировать различие между видимостью и реальностью, просто относя его к различным состояниям прогресса познания, немецкий философ представил его как различие между феноменами и непознаваемыми вещами в себе. И именно это понятие вещи в себе должно быть отвергнуто философией, как, в самом деле, и сделали последователи Канта. Когда мы освободились от этого понятия, мы можем увидеть, что действительная важность критической философии заключается в её прозрении того факта, что объективность существует только для сознающего субъекта. Иными словами, действительный вклад Канта состоял в том, чтобы показать, что фундаментальное отношение есть отношение между субъектом и объектом, которые вместе образуют «единство в различии». Как только человек постигает эту истину, он освобождается от искушения редуцировать субъект к объекту или объект к субъекту. Ибо такое искушение имеет своё происхождение в неудовлетворительном дуализме, который преодолевается теорией изначального синтеза. Различие между субъектом и объектом возникает из единства сознания, единства, которое является фундаментальным.
По мнению Керда, сама наука является свидетельством, своим образом, этого «единства в различии». Правда, она концентрируется на объекте. Но в то же время она стремится к открытию универсальных законов и к корреляции этих законов; и таким образом предполагает существование интеллигибельной системы, которая не может быть просто гетерогенной или чуждой мысли, её постигающей. Иными словами, наука свидетельствует о коррелятивности мысли и её объекта.
Хотя одна из миссий, которые Керд отводит философу, состоит в том, чтобы показать, что наука указывает на базовый принцип синтеза субъекта и объекта как «единства в различии», однако сам он концентрируется прежде всего на религиозном сознании. И в этой области он чувствует себя вынужденным выйти за пределы субъекта и объекта к фундаментальному единству и основе. Субъект и объект различны. В самом деле, вся наша жизнь движется между этими двумя терминами, которые существенно различны и даже противоположны друг другу[14491]. Но в то же время они связаны между собой таким образом, что один не может быть мыслим без другого[14501]. И «мы чувствуем себя вынужденными искать секрет их бытия в высшем принципе, чьим единством они в своём действии и противодействии являются выражениями, который они предполагают как свой принцип и к которому стремятся как к своему концу»[14511].
Эта всеобъемлющая единственность, описываемая платоническими фразами как «одновременно принцип бытия всех вещей, которые суть, и принцип знания всех существ, которые знают»[14521], есть гипотеза всякого сознания. И это то, что мы называем Богом. Это не означает, настаивает Керд, что все люди обладают эксплицитным знанием Бога как конечного единства бытия и познания, объективности и субъективности. Эксплицитное знание в этом случае – продукт долгого процесса развития. И в истории религии мы можем видеть главные этапы этого развития[14531].
Первый этап, этап «объективной религии», доминируется знанием объекта, не собственно объекта в абстрактном и техническом смысле слова, но в форме внешних вещей, которыми человек чувствует себя окружённым. На этом этапе человек не может сформировать идею чего-либо, «чего он не может ощупать как существующее в пространстве и времени»[14541]. Можно думать, что у него есть смутное знание единства, которое включает его самого и прочие вещи; но он не может сформировать идею божественного иначе, чем объективируя его в богах.
Второй этап в развитии религии – этап «субъективной религии». На нём человек возвращается от поглощённости Природой к самосознанию. И он мыслит Бога как духовное существо, отдельное от Природы и человека, которое открывает себя прежде всего во внутреннем голосе совести.
На третьем этапе, этапе «абсолютной религии», сознающий себя субъект и его объект, Природа, предстают как различные, хотя существенно связанные и в то же время укоренённые в конечном единстве. И Бог мыслится «как Существо, которое одновременно есть принцип, поддерживающая сила и конец наших духовных жизней»[14551]. Что, однако, не означает, что идея Бога совершенно неопределенна, так что мы чувствуем себя вынужденными принять агностицизм Герберта Спенсера. Ибо Бог открывает себя как через субъект, так и через объект, и чем лучше мы понимаем духовную жизнь человечества, с одной стороны, и мир Природы – с другой, тем больше мы знаем о Боге, «конечном единстве нашей жизни и жизни мира»[14561].
В той мере, в какой Керд выходит за пределы различия между субъектом и объектом к конечной реальности, можно сказать, что он не абсолютизирует отношение субъект-объект, как это делал Феррье. В то же время его эпистемологический подход, то есть через отношение субъект-объект, кажется, ставит проблему. Ибо Керд прямо признаёт, что «строго говоря, есть только один объект и один субъект для каждого из нас»[14571]. То есть для меня отношение субъект-объект есть, в строгом смысле, отношение между моим «я» как субъектом и моим миром как объектом. И объект должен включать других людей. Таким образом, даже если допустить, что с самого начала у меня есть смутное знание фундаментального единства, кажется, следует, что такое единство есть единство моего «я» как субъекта и моего объекта, где другие являются частью «моего объекта». И тогда трудно увидеть, как можно доказать существование других субъектов и тот факт, что существует одно и только одно общее фундаментальное единство. Здравый смысл, возможно, склоняет к мысли, что такие выводы верны. Но речь идёт не о вопросе здравого смысла, а скорее о том, как можно обосновать выводы, раз уж принят подход Керда. Взятая сама по себе, идея фундаментального единства может иметь определённую ценность[14581]. Но выводы, к которым хочет прийти Керд, не даются легко его отправной точкой. И, конечно, спорно, был ли Гегель мудр, исходя из понятия Бытия, вместо того чтобы исходить из отношения субъект-объект.
5. Дж. Керд и философия религии
Про Джона Керда (1820–1898), брата Эдварда, говорили, что он проповедовал гегельянство с кафедры. Богослов и проповедник-пресвитерианин, в 1862 году он был назначен профессором теологии в Университете Глазго, а в 1873 году стал главой университета. В 1880 году он опубликовал «Введение в философию религии», а в 1888 году – том о Спинозе в серии Blackwood's Philosophical Classics. Посмертно появились некоторые другие сочинения, в том числе его «Гиффордские лекции» «Основные идеи христианства» (1899).
В своих аргументах против материализма Джон Керд утверждает не только, что он не способен объяснить жизнь организма и сознания[14591], но также и то, что материалисты, хотя и пытаются свести интеллект к функции материи, молча и неизбежно предполагают с самого начала, что интеллект есть нечто отличное от материи. В конечном счёте, именно сам интеллект должен осуществить редукцию. Аналогичным образом он говорит, что агностик, утверждающий, что Бог непознаваем, своим самым утверждением раскрывает тот факт, что у него есть имплицитное знание о Боге. «Даже утверждая, что человеческий интеллект неспособен к абсолютному знанию, скептик предполагает в своём собственном интеллекте идеал абсолютного знания, по сравнению с которым человеческое знание объявляется несовершенным. Само отрицание абсолютного интеллекта в нас не имеет смысла, кроме как через молчаливую апелляцию к присутствию такого абсолютного интеллекта. Таким образом, имплицитное знание Бога доказывается самим попыткам отрицать его»[14601].
Выраженная в этой конкретной цитате, теория Керда туманна. Но её можно прояснить следующим образом: Керд применяет к частному случаю знания тезис Гегеля о том, что мы не можем быть сознающими конечность, не будучи имплицитно сознающими бесконечность. Опыт учит нас, что наши интеллекты конечны и несовершенны. Но мы не могли бы знать этого иначе, как в свете имплицитной идеи тотального или абсолютного знания, знания, которое было бы, фактически, единством мышления и бытия. Эта имплицитная или виртуальная идея абсолютного знания конституируется в смутно мыслимую норму, рядом с которой наши ограничения становятся для нас яснее. Более того, эта идея является для интеллекта идеальной целью. Таким образом, она действует в нас так, как если бы она была реальностью, и, фактически, является абсолютным интеллектом, чьему свету мы причастны.
Без сомнения, для Керда существенно сохранять идею, выраженную в двух последних фразах. Ибо если бы он просто сказал, что мы стремимся к полному или абсолютному знанию, конституированному как идеальная цель, мы должны были бы прийти к выводу, что абсолютное знание ещё не существует, тогда как Керд хочет прийти к выводу, что, утверждая ограниченность нашего знания, мы имплицитно утверждаем живую реальность. Он должен, следовательно, сказать, что, утверждая ограниченность моего интеллекта, я имплицитно утверждаю существование абсолютного интеллекта, который действует во мне и в чьей жизни я участвую. Таким образом, он использует гегелевский принцип, что конечное может быть понято только как момент жизни бесконечного. Открыто для обсуждения, может ли такое применение гегелевских принципов действительно служить цели, которой Керд их применяет, а именно, поддерживать христианский теизм. Но в любом случае Керд убеждён, что они могут.
Джон Керд также пишет, подобно своему брату, что взаимосвязь субъекта и объекта раскрывает конечное единство, лежащее в основе различия. Что касается традиционных доказательств существования Бога, они подвержены обычным возражениям, если их принимать как аргументы, претендующие на строгую логичность. Напротив, если их понимать как феноменологические анализы путей, «посредством которых человеческий дух приходит к знанию Бога и достигает тем самым осуществления своей высшей природы, такие доказательства имеют большую ценность»[14611]. Возможно, не совсем ясно, в чём заключается эта большая ценность. Керд вряд ли может хотеть сказать, что логически недействительные аргументы имеют большую ценность, если они показывают пути, которыми человеческий интеллект фактически приходил к выводу, рассуждая ошибочно. Возможно, он хочет сказать, что традиционные аргументы имеют ценность как иллюстративные пути того, как человеческий интеллект может стать эксплицитно сознающим знание, которым он уже обладал в имплицитной и тёмной форме. Эта перспектива позволит ему одновременно сказать, что аргументы ставят вопрос, предполагая вывод с самого начала, и что на самом деле это неважно, поскольку они являются средствами сделать имплицитное эксплицитным[14621].
Вместе с Гегелем Джон Керд настаивает на необходимости прогресса от уровня обычного религиозного мышления к идее спекулятивной религии, в которой «противоречия» преодолены. Например, противоположные и одинаково односторонние позиции пантеизма и деизма преодолеваются истинно философской концепцией отношения между конечным и бесконечным, концепцией, характерной для правильно понятого христианства. Что касается специфически христианских доктрин, таких как Воплощение, то способ, которым Керд трактует их, более ортодоксален, чем у Гегеля. Тем не менее, он слишком убеждён в ценности гегелевской философии как союзника в борьбе против материализма и агностицизма, чтобы серьёзно рассматривать опасность того, что, как позднее скажет Мак-Таггарт, союзник в конечном счёте может превратиться в замаскированного врага, поскольку применение гегельянства к интерпретации христианства по самой природе гегелевской системы склонно подразумевать подчинение содержания христианской веры спекулятивной философии и, фактически, связь с определённой системой.
Фактически, однако, Джон Керд не принимает гегелевскую систему целиком и безоговорочно. Скорее, он принимает от неё общие направления мысли, в которых видит внутреннюю ценность и которые, как он верит, могут служить поддержанию религиозной перспективы перед лицом современных тенденций материализма и позитивизма. Таким образом, он представляет собой хороший пример религиозного интереса, характеризовавшего значительную часть идеалистического движения в Великобритании.
6. У. Уоллес и Д. Г. Ритчи
Среди тех, кто способствовал распространению гегельянства в Великобритании, особого упоминания заслуживает Уильям Уоллес (1844–1897), преемник Грина на посту профессора моральной философии Уайта в Оксфорде. В 1874 году он опубликовал перевод с пролегоменами или вводным материалом «Логики» Гегеля из «Энциклопедии философских наук»[14631]. Позже он опубликовал исправленное и расширенное издание в двух томах: перевод появился в 1892 году, а «Пролегомены»[14641], щедро дополненные, в 1894 году. Уоллес также опубликовал в 1894 году перевод с пятью вводными главами «Философии духа» Гегеля, также входящей в «Энциклопедию». Кроме того, он написал том о Канте (1882) для серии Blackwood's Philosophical Classics и «Жизнь Шопенгауэра» (1890). Его «Лекции и эссе о естественной теологии и этике», вышедшие посмертно в 1898 году, ясно показывают сродство его мысли со спекулятивной интерпретацией религии вообще и христианства в частности, проводимой Джоном Кердом.
Хотя мы не можем умножать ссылки на других философов в русле идеалистического движения, есть особый повод упомянуть Дэвида Джорджа Ритчи (1853–1903), которого Грин в Оксфорде обратил в идеализм и который в 1894 году стал профессором логики и метафизики в Университете Сент-Эндрюса. Ибо в то время как идеалисты в целом не соглашались с философскими системами, основанными на дарвинизме, Ритчи поставил своей целью показать, что гегелевская философия может прекрасно ассимилировать дарвиновскую теорию эволюции[14651]. В конечном счёте, говорил он, разве дарвиновская теория выживания наиболее приспособленного не идеально гармонирует с гегелевской доктриной, что реальное разумно, а разумное реально, и что разумное, поскольку оно представляет ценность, торжествует над неразумным? И разве исчезновение наиболее слабого и менее приспособленного к выживанию не соответствует преодолению негативного фактора в гегелевской диалектике?
Правда, признаёт Ритчи, дарвинисты были так озабочены происхождением видов, что не понимали значения эволюционного движения в целом. Необходимо признать тот факт, что в человеческом обществе борьба за существование принимает формы, которые не могут быть адекватно определены биологическими категориями, и что социальный прогресс зависит от сотрудничества. Но именно здесь гегельянство может внести свет, которого не обеспечивают ни биологическая теория эволюции сама по себе, ни эмпиристские и позитивистские философские системы, которые заявляют, что основаны на такой теории.
Тем не менее, хотя Ритчи предпринял ценный попытку примирить дарвинизм и гегельянство, разработка «идеалистических» философий эволюции, «идеалистических» в том смысле, что они стремились показать, что общее эволюционное движение направлено к идеальному термину или концу, должна была осуществляться вне, а не внутри течения неогегельянской мысли.