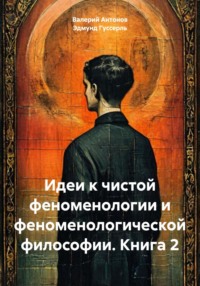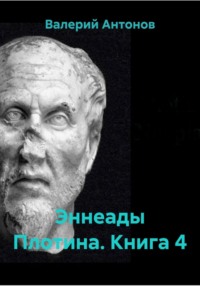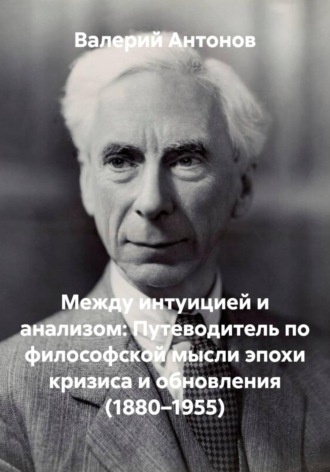
Полная версия
Между интуицией и анализом: Путеводитель по философской мысли эпохи кризиса и обновления (1880–1955)
РАЗВИТИЕ ИДЕАЛИЗМА.
1. Отношение Т. Х. Грина к британскому эмпиризму и немецкой мысли
Часто философы бывают более убедительны, когда критикуют идеи других философов, чем когда излагают собственные теории. И это, возможно, несколько циничное наблюдение, кажется, применимо к Томасу Хиллу Грину (1836–1882), члену Баллиол-колледжа в Оксфорде и профессору моральной философии Уайта в том же университете с 1878 года до своей смерти. В своих «Введениях к “Трактату о человеческой природе” Юма»[14161], опубликованных в 1874 году в издании Юма, подготовленном Грином и Гроузом, он развил впечатляющую и обширную критику британского эмпиризма, хотя его собственная идеалистическая система не менее уязвима для критики, чем идеи, против которых он выдвинул ряд возражений.
С Локка и далее, согласно Грину, эмпиристы исходили из предположения, что задача философа состоит в том, чтобы свести наше знание к его примитивным элементам, исходным данным, а затем реконструировать мир обычного опыта из этих атомарных данных. Однако, если отвлечься от того факта, что не было дано удовлетворительного объяснения того, как интеллект может преодолеть отношение субъект-объект и обнаружить первичные данные, предположительно служащие основой для конструирования интеллектуальных и физических объектов, эмпиристская программа заводит нас в тупик. С одной стороны, чтобы конструировать мир интеллектуальных и физических объектов, интеллект должен вступить в отношение с атомарными первичными данными, с индивидуальными феноменами. Иными словами, он должен осуществить определённую активность. С другой стороны, активность интеллекта необъяснима с эмпиристских принципов, потому что она сама сводится к ряду феноменов. И как она может конструировать саму себя? Кроме того, хотя эмпиризм заявляет, что даёт отчёт о человеческом познании, на самом деле он ничего в этом отношении не делает, потому что интерпретирует мир обычного опыта как ментальную конструкцию из индивидуальных впечатлений; и нет способа узнать, представляет ли эта конструкция объективную реальность или нет. Иными словами, последовательный эмпиризм неизбежно ведёт к скептицизму.
Сам Юм, как его видит Грин, был замечательным мыслителем, который не пошёл на компромиссы и довёл принципы эмпиризма до их логического заключения. «Приняв предпосылки и метод Локка, он очистил их от всех их нелогичных приспособлений к народной вере и экспериментировал с ними на основе приобретённого знания. …В результате эксперимента метод, начавший с претензии объяснить знание, показал, что знание невозможно»[14171]. «Сам Юм вполне отдавал себе отчёт в этом результате, но его преемники в Англии и Шотландии до сих пор, кажется, были неспособны посмотреть ему прямо в лицо»[14181].
Некоторые философы после Юма – и здесь Грин явно имеет в виду шотландских философов здравого смысла – вновь погрузились в чащу некритической веры. Другие продолжали развивать теорию ассоциации идей Юма, по-видимому, игнорируя тот факт, что сам Юм продемонстрировал недостаточность принципа ассоциации для объяснения чего-либо, кроме естественной или почти инстинктивной веры[14191]. Иными словами, Юм представлял одновременно кульминацию и банкротство эмпиризма. И факел исследования «перешёл к более мощному немецкому течению»[14201].
Кант был, так сказать, духовным преемником Юма. «Таким образом, “Трактат о человеческой природе” и “Критика чистого разума”, взятые вместе, образуют настоящий мост между старой и новой философией. Они составляют существенную “пропедевтику”, без которой не может обойтись ни один хороший студент современной философии»[14211]. Это не означает, однако, что мы можем остановиться на философии Канта. Ибо Кант предвосхищает Гегеля или, во всяком случае, нечто подобное гегельянству. Грин согласен со Стирлингом, что Гегель правильно развил философию Канта; однако он не готов принять, что система Гегеля как таковая удовлетворительна. Как говорит Грин, она прекрасна для воскресений спекуляции, но её труднее принять в рамках обыденной мысли. Необходимо примирить суждения спекулятивной философии с нашими обычными суждениями о фактах и с науками. Гегельянство же, взятое само по себе, не может выполнить задачу синтеза различных тенденций и точек зрения современной мысли. Эту работу необходимо проделать заново.
Фактически, имя Гегеля не очень выделяется среди сочинений Грина. Имя Канта гораздо заметнее. Но Грин утверждал, что, читая Юма в свете Лейбница, а Лейбница в свете Юма, Кант смог освободиться от предпосылок обоих. И можно справедливо сказать, что хотя Грин во многом почерпнул свой подход из стимулов, полученных от Канта, он читал его с убеждением, что критическая философия нуждается в развитии, сходном – хотя и не точно таком же – с тем, которое она фактически получила от немецких метафизических идеалистов и в частности от Гегеля.
2. Теория вечного субъекта у Грина; некоторые критические замечания
Во введении к своим «Пролегоменам к этике», опубликованным посмертно в 1883 году, Грин ссылается на искушение трактовать этику как если бы она была разделом естественных наук. Действительно, такое искушение понятно. Ибо рост исторического знания и развитие теорий эволюции предполагают возможность чисто натуралистического и генетического объяснения феноменов моральной жизни. Но что же тогда с этикой как нормативной наукой? Ответ таков: философ, который «решительно принимает свои принципы, после сведения спекулятивной их части (наших этических систем) к естественным наукам, должен одновременно упразднить и практическую, или предписывающую часть»[14221]. Однако тот факт, что редукция этики к разделу естественных наук влечёт за собой упразднение этики как нормативной науки, должен побудить нас пересмотреть предпосылки или условия познания и моральной деятельности. Является ли человек просто дитя Природы? Или в нём есть духовное начало, делающее возможным познание, будь то познание Природы или моральное познание?
Таким образом, Грин считает необходимым начать своё исследование в области морали с метафизики познания. И он говорит прежде всего, что даже если бы мы решили в пользу материалистов все те вопросы о частных фактах, которые были предметом спора между ними и спиритуалистами, остался бы вопрос о том, как нам возможно объяснить факты. «Даже нам придётся признать, что логически в человеке, способном познавать Природу – для которого существует “космос опыта” – есть начало, не являющееся природным и которое не может быть объяснено без ὑστέρον πρότερον[1], как объясняются факты Природы»[14231].
По мнению Грина, сказать, что вещь реальна, значит сказать, что она является частью системы отношений: порядка Природы. Но признание или знание ряда связанных фактов не может само быть рядом фактов. Оно также не может быть естественным развитием из такого ряда. Иными словами, интеллект как активный синтезирующий принцип нередуцируем к факторам, которые он синтезирует. Правда, эмпирическое «я» принадлежит порядку Природы. Но моё признание себя как эмпирического «я» проявляет активность принципа, трансцендирующего этот порядок. В конечном счёте, «интеллект – поскольку этот термин кажется столь же подходящим, как и любой другой, для обозначения рассматриваемого принципа сознания – нередуцируемый ни к чему иному, “творит природу” для нас, в том смысле, что делает нас способными мыслить существование такой вещи»[14241].
Мы только что видели, что для Грина вещь реальна, поскольку она является частью системы связанных феноменов. В то же время он утверждает, что «связанные явления невозможны в отрыве от действия интеллекта»[14251]. Таким образом, Природа создаётся синтезирующей активностью интеллекта. Очевидно, однако, что мы не можем серьёзно мыслить, что Природа как система связанных феноменов является просто продуктом синтезирующей активности любого данного конечного интеллекта. Хотя можно сказать, что каждый конечный интеллект конституирует Природу, поскольку мыслит систему отношений, необходимо исходить из предположения, что существует простой духовный принцип, вечное сознание, которое в конечном счёте конституирует или производит Природу.
Отсюда следует, что мы должны мыслить конечный интеллект как причастный жизни вечного сознания или интеллекта, который «частично и постепенно воспроизводится в нас, связывая по частям, но в неразрывной корреляции, интеллект с интеллигибельным, опыт с испытанным миром»[14261]. Это равносильно утверждению, что Бог постепенно воспроизводит своё собственное знание в конечном интеллекте. И если таково положение дел, то что можно сказать об отношении эмпирического к происхождению и развитию познания? Ибо трудно вывести из эмпирических фактов, что наше знание навязано нам Богом. Ответ Грина заключается в том, что Бог воспроизводит своё собственное знание в конечном интеллекте, используя, так сказать, чувственную жизнь человеческого организма и его реакцию на определённые стимулы. Существуют, таким образом, два аспекта человеческого сознания. Эмпирический аспект, под которым наше сознание предстаёт как «последовательные модификации животного организма»[14271], и метафизический аспект, который рассматривает организм как то, что постепенно становится «проводником вечно реализованного сознания»[14281].
Таким образом, Грин разделяет тенденцию ранних идеалистов выбирать эпистемологическую отправную точку: отношение субъект-объект. Однако, под влиянием Канта, он описывает субъект как активный синтезатор множественности феноменов, как конституэнта порядка Природы посредством связывания различных явлений или феноменов. Этот процесс синтеза – постепенный процесс, развивающийся на протяжении истории человеческой расы к идеальной цели. И мы можем мыслить, таким образом, весь процесс как активность духовного принципа, который живёт и действует в конечных интеллектах и через них. Другими словами, кантовская идея синтезирующей активности интеллекта ведёт нас к гегелевскому понятию бесконечного духа.
В то же время религиозные интересы Грина заявляют о себе против любой редукции бесконечного духа к жизням конечных духов, рассматриваемых как простая коллективность. Правда, он хочет избежать того, что понимает как один из главных недостатков традиционного теизма, а именно представления о Боге как о Существе в противоположности миру и конечному духу. Так, он определяет духовную жизнь человека как участие в божественной жизни. Но он также хочет избежать употребления слова «Бог» как простого ярлыка для духовной жизни человека, рассматриваемой универсально – как нечто развивающееся на протяжении эволюции человеческой культуры – или для идеала тотального знания – идеала, который ещё не существует, но к которому постепенно приближается человеческое знание. Правда, он говорит о человеческом духе как «тождественном» Богу, но добавляет: «в том смысле, что Бог есть всё, чем человеческий дух может стать»[14291]. Бог есть вечный бесконечный субъект, и Его тотальное знание постепенно воспроизводится в конечном субъекте через подчинение, с эмпирической точки зрения, модификациям человеческого организма.
На вопрос, почему Бог действует таким образом, Грин ответил бы, что не может быть дано ответа. «Старый вопрос, почему Бог создал мир, никогда не имел ответа и не будет его. Мы не знаем, почему существует мир, мы только знаем, что он существует. Точно так же мы не знаем, почему вечный субъект этого мира должен воспроизводиться через определённые процессы мира как дух человечества или как частное “я” того или иного человека, в котором действует дух человечества. Мы можем только сказать, что после анализа нашего опыта как можно лучше, кажется, что обстоит дело именно так»[14301].
В идее Грина о вечном субъекте, который «воспроизводится» в конечных субъектах и который, следовательно, не может быть просто отождествлён с ними, не лишено смысла усмотреть работу религиозного интереса, заботу об идее Бога, в котором мы живём, движемся и существуем. Однако это, конечно, не явная или формальная причина для постулирования вечного субъекта. Ибо последний уже эксплицитно постулируется в качестве конечного синтезирующего агента, конституирующего систему Природы. И с этим постулатом Грин, кажется, подвергается той же самой критике, которую мы выдвинули против Феррье. Ибо если предположить, по крайней мере в порядке аргумента, что порядок Природы конституируется синтезирующей или связывающей активностью интеллекта, очевидно, что я не могу приписать такой порядок какому-либо интеллекту, или вечному субъекту, если я сначала сам не концептуализировал его, не конституировал его. И тогда трудно увидеть, как, в терминологии Феррье, я могу отпрячь от синтезирующей активности моего собственного интеллекта систему осмысленных отношений и запрячь её в какого-либо другого субъекта, вечного или какого угодно.
Можно возразить, что такая критика, хотя, возможно, и справедлива в случае Феррье, неуместна в случае Грина. Ибо Грин рассматривает индивидуальный конечный субъект как участника общей духовной жизни, духовной жизни человечества, которая постепенно синтезирует феномены в своём движении к идеальной цели тотального знания – знания, которое само было бы конституированным порядком Природы. Таким образом, речь не идёт об отпрягании синтеза от себя и запрягании его в какой-либо другой дух. Моя синтезирующая активность – всего лишь момент активности человеческой расы как целого или активности духовного принципа, живущего в множественности конечных субъектов и через неё.
В таком случае, однако, что происходит с вечным субъектом Грина? Если мы хотим представить, например, прогрессивное научное знание человечества как жизнь, в которой участвуют все учёные и которая направлена к идеальной цели, конечно, мы не можем говорить об «отпрягании» и «запрягании». Однако концепция такого рода сама по себе не требует введения какого-либо вечного субъекта, который воспроизводил бы своё тотальное знание по частям в конечном интеллекте.
Более того, как именно следует мыслить в философии Грина отношение Природы к вечному субъекту или интеллекту? Предположим, что конституирующая активность интеллекта состоит в связывании или синтезировании. Если можно адекватно утверждать, что Бог есть творец Природы, то, кажется, следует, что Природа редуцируема к системе отношений без терминов. И эта идея несколько смущает. Если же, напротив, вечный субъект вводит, так сказать, лишь определённые отношения между феноменами, то, кажется, мы имеем картину, сходную с той, что нарисована Платоном в «Тимее», в том смысле, что вечный субъект или интеллект творил бы не всю Природу из ничего, но скорее вносил бы порядок в беспорядок. В любом случае, хотя и возможно мыслить божественный интеллект, творящий мир, мысля его, термины типа «вечный субъект» и «вечное сознание» необходимо предполагают вечный коррелятивный объект. И это означало бы абсолютизацию отношения субъект-объект, подобную той, что мы видели у Феррье.
Возможно, эти возражения могут показаться придирками и свидетельством неспособности оценить общее видение Грина вечного сознания, в жизни которого мы все участвуем. Однако в любом случае возражения служат полезной цели, обращая внимание на тот факт, что часто острая критика Грина по отношению к другим философам сочетается с несколько туманными и путаными спекуляциями, которые во многом способствовали дискредитации метафизического идеализма[14311].
3. Политическая и этическая теория Грина
В своей моральной теории Грин верен традиции Платона и Аристотеля в том смысле, что для него понятие блага первично, а не понятие долга. В частности, его идея о том, что благо для человека есть полная реализация потенциала человеческой личности в гармоничном и унифицированном состоянии бытия, напоминает этику Аристотеля. Правда, Грин говорит о «самоудовлетворении» как цели человеческого поведения, но он ясно даёт понять, что самоудовлетворение означает для него самореализацию, а не удовольствие. Следует различать «стремление к самоудовлетворению, в котором можно сказать, состоит вся моральная деятельность, и стремление к удовольствию, которое не является морально доброй деятельностью»[14321]. Это не означает, что удовольствие исключается из того, что является благом для человека, но что гармоничная и интегрированная реализация потенциала человеческой личности не может быть отождествлена с поиском удовольствия. Ибо моральный агент есть духовный субъект, а не просто чувствующий организм. И в любом случае, удовольствие сопутствует реализации собственных способностей, а не является самой этой реализацией.
Разумеется, человек может реализовать себя только через действие, в том смысле, что он может актуализировать свои потенции и развивать свою личность в направлении идеального состояния гармоничной интеграции своих сил. И также очевидно, что всякое человеческое действие в собственном смысле слова мотивировано, совершается с оглядкой на непосредственную цель или предел. Но спорно, что мотивы человека детерминированы его существующим характером вместе с другими обстоятельствами, и что сам характер является результатом определённых эмпирических причин. В таком случае, не были ли бы действия человека детерминированы так, что то, чем он станет, зависело бы от того, что он есть, и, наоборот, то, что он есть, зависело бы от обстоятельств, не подвластных его свободному выбору? Правда, обстоятельства меняются, но то, как человек реагирует на различные обстоятельства, кажется, детерминировано. И если все человеческие действия детерминированы, остаётся ли место для этической теории, устанавливающей идеал человеческой личности как то, к чему мы должны стремиться через наши действия?
Грин не прочь уступить детерминистам значительную часть основания, на котором они строят свою позицию. Но в то же время он пытается вынуть жало из таких уступок. «Положения, распространённые среди “детерминистов”, согласно которым действие человека есть совместный результат его характера и обстоятельств, вполне истинны в определённом смысле, и в этом смысле они вполне совместимы с утверждением человеческой свободы»[14331]. Согласно Грину, для оправданного употребления слова «свобода» не является необходимым условием, чтобы человек был способен делать или становиться чем угодно. Чтобы оправдать определение действий человека как свободных, достаточно того, что это действия данного человека, в смысле того, что он является их истинным автором. И если поведение человека есть следствие его характера, то есть если такое поведение является ответом на ситуацию, побуждающую действовать определённым образом потому, что он есть определённый тип человека, то такая форма поведения является его собственной, подлинно его: он, а не другой, есть ответственный автор её.
Защищая эту интерпретацию свободы, Грин делает акцент на самосознании. В истории любого человека обнаруживается ряд эмпирических природных факторов того или иного рода – например, природные побуждения, – которые, согласно детерминисту, оказывают решающее влияние на человеческое поведение. Однако Грин утверждает, что такие факторы становятся морально релевантными, когда, так сказать, субъект принимает их в своё самосознание, то есть когда они рассматриваются в единстве самосознания и становятся мотивами. Таким образом, они становятся принципами поведения и, как таковые, являются принципами свободной деятельности.
Эта теория, в некоторых аспектах напоминающая теорию свободы Шеллинга, возможно, не кристально ясна. Но по крайней мере очевидно, что Грин хочет признать все эмпирические данные, на которые детерминист логически может сослаться[14341], и в то же время хочет утверждать, что такая уступка совместима с утверждением человеческой свободы. Возможно, можно сказать, что его вопрос таков: учитывая все эмпирические данные о человеческом поведении, имеют ли всё ещё какое-либо применение такие слова, как «свобода» и «свободный» в области морали? Ответ Грина утвердительный. Действия субъекта, сознающего себя, как таковые, могут быть уместно названы свободными действиями. Действия, являющиеся результатом физического принуждения, например, не проистекают от субъекта как сознающего. В самом деле, это не его действия; его нельзя считать их истинным автором. И необходимо уметь различать между действиями такого типа и теми, которые являются выражением самого человека, рассматриваемого не только как физического агента, но и как сознающего субъекта или, как сказали бы некоторые, как рационального агента.
То, что для Грина самореализация является целью человеческого поведения, может навести на мысль, что его этическая теория индивидуалистична. Но хотя он действительно настаивает на самореализации индивида, он согласен с Платоном и Аристотелем в рассмотрении человеческой личности как существа по сути социального характера.
Иными словами, «я», которое должно быть реализовано, не есть атомарное «я», чьи возможности могут быть полностью реализованы и гармонизированы без какой-либо отсылки к социальным отношениям. Напротив, только в обществе мы можем полностью реализовать наши возможности и жить подлинно как человеческие личности. Что, в действительности, означает, что частное моральное призвание каждого индивида должно интерпретироваться в рамках определённого социального контекста. Таким образом, Грин может использовать фразу, которую позднее Брэдли сделает знаменитой, указывая, что «каждый должен прежде всего исполнять обязанности своего положения»[14351].
Учитывая эту перспективу, понятно, что Грин, снова вместе с Платоном и Аристотелем, но также, конечно, с Гегелем, делает акцент на государстве и функции политического общества, государства, которое есть «для своих членов общество обществ»[14361]. Можно отметить, что эта несколько высокопарная фраза указывает на признание того факта, что существуют другие общества, такие как семья, предполагаемые государством. Но, конечно, сам Гегель признаёт этот факт. И ясно, что среди различных обществ Грин придаёт преобладающее значение государству.
Тем не менее, и именно по указанной причине, важно понимать, что Грин не отступает, явно или неявно, от своей этической теории самореализации. Он продолжает придерживаться мнения, что «наша конечная мера ценности есть идеал личностной ценности. Все прочие ценности зависят от ценности для, от или в личности»[14371]. Такой идеал, однако, может быть полностью реализован только в обществе личностей и через него. Следовательно, общество есть моральная необходимость. И это в равной степени применимо к самой широкой форме социальной организации, называемой политическим обществом или государством, как и к семье. Но никоим образом не следует из этого, что государство является самоцелью. Напротив, его миссия состоит в создании и поддержании условий для благой жизни, то есть условий, в которых человеческие существа могут наилучшим образом развиваться и жить как личности, признавая друг друга как цели, а не просто как средства. В этом смысле государство скорее инструмент, чем самоцель. Действительно, ошибочно говорить, что нация или политическое общество есть просто совокупность индивидов. Ибо слово «просто» показывает пренебрежение фактом, что моральные возможности индивида реализуются только в определённых конкретных социальных отношениях. Оно подразумевает, что индивиды могут обладать моральными и духовными качествами и исполнять моральное призвание, не будучи членами общества. В то же время, предпосылка, что нация или государство не есть «просто» совокупность индивидов, не подразумевает, что оно есть некая самосущная сущность, отдельная от составляющих её индивидов. «Жизнь нации не имеет реального существования, кроме как в жизни индивидов, составляющих нацию»[14381].
Таким образом, Грин не имеет никаких возражений против признания того, что в определённом смысле государство предполагает определённые естественные права. Ибо если мы думаем о типе полномочий, которые должны быть гарантированы индивиду с целью достижения его морального конца, мы находим, что индивид имеет определённые права, которые общество должно признать. Правда, права в полном смысле слова не существуют до того, как они социально признаны. В самом деле, термин «право» в своём полном смысле имеет мало смысла или вовсе его не имеет в отрыве от общества[14391]. В то же время, если утверждать, что существуют естественные права, предшествующие политическому обществу, означает, что человек просто в силу того, что он человек, требует определённых вещей, которые государство должно признать как права, тогда это вполне верно, что «государство предполагает права, которые суть права индивидов. Государство есть форма, которую принимает общество ради их поддержания»[14401].
Достаточно очевидно из сказанного, что, по мнению Грина, мы не можем прийти к философскому пониманию функции государства через простое историческое исследование форм, в которых фактически возникали реальные политические общества. Необходимо рассматривать природу человека и его моральное призвание. Подобным образом, чтобы иметь критерий для суждения о законах, мы должны понимать моральный конец человека, с которым связаны все права. «Закон хорош не потому, что он обеспечивает соблюдение определённых “естественных прав”, а потому, что он способствует достижению определённого конца. Мы обнаруживаем естественные права, лишь рассматривая, какие полномочия должны быть гарантированы человеку с целью осуществления этого конца. Совершенный закон будет гарантировать их в полной мере»[14411].