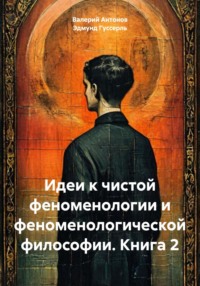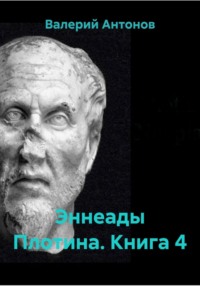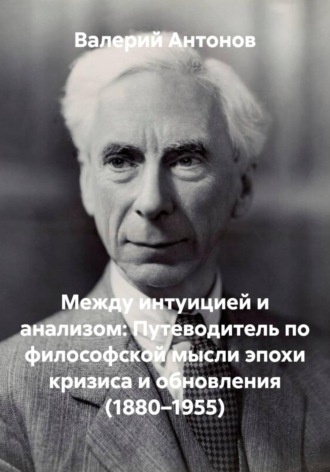
Полная версия
Между интуицией и анализом: Путеводитель по философской мысли эпохи кризиса и обновления (1880–1955)
Конечно, если мы исходим из гипотезы, что эволюция есть телеологический процесс, направленный на прогрессивное установление морального порядка, ситуация меняется. Но хотя такая гипотеза, возможно, подразумевается в перспективе Спенсера, он не претендовал на выдвижение таких метафизических гипотез.
6. Непознаваемое в религии и науке.
Явный метафизический элемент в мысли Спенсера есть, несколько парадоксальным образом, его философия Непознаваемого. Он вводит эту тему в связи с исследованием предполагаемого антагонизма между религией и наукой. «Из всех антагонизмов веры самый старый, самый распространённый, самый глубокий и самый важный – это антагонизм между религией и наукой». Конечно, если понимать религию просто как субъективный опыт, проблема конфликта между ней и наукой едва ли возникает. Но если мы принимаем во внимание различные религиозные верования, дело обстоит иначе. Что касается конкретных фактов, сверхъестественные объяснения были заменены естественными или научными объяснениями. И религия была вынуждена более или менее ограничиться предложением объяснения существования вселенной как целого. Но её аргументы неприемлемы для любого, кто обладает научной перспективой. В этом смысле, следовательно, существует конфликт между религиозными и научными умами. И он может быть разрешён, по мнению Спенсера, только философией Непознаваемого.
Если мы исходим из религиозной веры, мы можем видеть, что как пантеизм, так и теизм несостоятельны. Под пантеизмом Спенсер понимает теорию вселенной, развивающейся от потенциального существования к актуальному. И он утверждает, что такая идея непостижима. В действительности мы не знаем, что она означает. Таким образом, вопрос её истинности или ложности едва ли возникает. Что касается теизма, понимаемого как теория, что мир был создан внешним агентом, он также несостоятелен. Помимо того факта, что сотворение пространства непостижимо, потому что его несуществование нельзя мыслить, идея Творца, существующего сам по себе, так же немыслима, как идея вселенной, существующей сама по себе. Сама идея «существования самого по себе» непостижима. «Дело не в вероятности или правдоподобии, а в постижимости».
Правда, признаёт Спенсер, если мы спрашиваем о конечной причине или причинах эффектов, произведённых в наших чувствах, мы чувствуем себя неизбежно приведёнными к формулировке гипотезы о первопричине. И нам придётся определить её как бесконечную и абсолютную. Но Мэнсел доказал, что хотя идея конечной и подчинённой Первопричины содержит явные противоречия, идея бесконечной и абсолютной Первопричины также не свободна от противоречий, даже если они не столь непосредственно очевидны. Мы не можем, следовательно, сказать ничего разумного о природе Первопричины. И в конечном счёте мы остаёмся только с идеей непостижимой Силы.
Тем не менее, если мы исходим из науки, мы снова сталкиваемся с Непознаваемым. Ибо наука не может разрешить тайну вселенной. С одной стороны, она не может доказать, что вселенная существует сама по себе, потому что идея существования самого по себе, как мы видели, непостижима и неразумна. С другой стороны, конечные понятия науки «все являются представителями реальностей, которые не могут быть постигнуты». Например, мы не можем постичь, что такое сила «сама по себе». И в конечном счёте «конечные религиозные идеи и конечные научные идеи одновременно превращаются в простые символы реального, а не в знания о нём».
Такой взгляд опирается на анализ человеческого мышления. Всякое мышление, как мы видели, является реляционным. И то, что не может быть определено через свои отношения сходства и несходства с другими вещами, не является возможным объектом знания. Таким образом, невозможно познать безусловное и абсолютное. И это применимо не только к Абсолютному религии, но и к конечным научным идеям как репрезентациям метафеноменальных сущностей или «вещей в себе». В то же время, утверждать, что всякое знание является «относительным», – значит подразумевающе утверждать существование неотносительной реальности. «Если не постулировать реальное Не-относительное или Абсолютное, Относительное становится абсолютным и превращает аргумент в противоречие». Фактически, мы не можем устранить из нашего сознания идею Абсолюта за пределами явлений.
Таким образом, подходим ли мы к теме через критический анализ религиозных верований, или через размышление о наших конечных научных идеях, или через анализ природы мышления и знания, мы приходим в конце концов к идее непознаваемой реальности. И состояние постоянного мира между религией и наукой будет достигнуто «тогда, когда наука полностью убедится, что её объяснения являются приблизительными и относительными, а религия, в свою очередь, полностью убедится, что тайна, которую она созерцает, является конечной и абсолютной».
Теперь, доктрина Непознаваемого образует первую часть «Основных начал» и таким образом помещается в начале философской системы Спенсера в её формальном порядке. Этот факт может побудить неосторожного читателя придать теории фундаментальное значение. Однако, когда он обнаружит, что непостижимый Абсолют или Сила религии практически приравнивается к Силе как таковой, он, возможно, придет к выводу, что теория не более чем, если вообще является, вежливой взяткой, предложенной религиозному человеку другим человеком, который не верил в Бога и который был похоронен, или, скорее, склонён, без какой-либо религиозной церемонии. Легко понять, таким образом, что некоторые писатели отвергли первую часть «Основных начал», назвав её несчастным наростом. Спенсер рассматривает Непознаваемое с значительной подробностью. Но конечный результат не является выдающимся с метафизической точки зрения, поскольку аргументы не были тщательно обдуманы; в то время как учёный, вероятно, будет возражать против представления, что его основные идеи ускользают от всякого понимания.
Спенсер, однако, видит некую тайну во вселенной. Его доказательства существования Непознаваемого действительно несколько запутаны. Иногда он производит впечатление, что принимает феноменализм в духе Юма, утверждая, что модификации, производимые в наших чувствах, должны быть вызваны чем-то, превосходящим наше знание. В других случаях его мысль, кажется, поддерживается более или менее кантианской формой рассуждения, заимствованной у Гамильтона и Мэнсела. Внешние вещи суть феномены в том смысле, что они могут быть познаны лишь постольку, поскольку они соответствуют природе человеческого мышления. «Вещи в себе» или ноумены не могут быть познаны; но поскольку идея ноумена коррелятивна идее феномена, мы не можем не постулировать её. Спенсер, однако, также полагается на то, что он называет решающим фактом: что помимо «определённого» сознания «есть также неопределённое сознание, которое не может быть сформулировано». Например, мы не можем иметь определённого сознания конечного без сопутствующего неопределённого сознания бесконечного. И такое рассуждение приводит к утверждению бесконечного Абсолюта как возможной реальности, о которой мы имеем неопределённое или смутное сознание. Мы не можем знать, что такое Абсолют. Но даже когда мы отрицаем всякую последовательную и определённую интерпретацию или описание Абсолюта, который проявляет себя, «за ним всегда остаётся элемент, который принимает новые формы».
Кажется, Спенсер серьёзно старался поддерживать такое рассуждение. И хотя могло бы показаться удобнее превратить Спенсера в полного позитивиста, отвергнув доктрину Непознаваемого как уступку религиозным людям, такое упрощённое отвержение, по-видимому, не может быть оправдано. Когда позитивист Фредерик Харрисон призвал Спенсера превратить философию Непознаваемого в контовскую религию человечества, Спенсер не захотел его слушать. Легко высмеивать его за то, что он пишет «Непознаваемое» с заглавной буквы, как если бы – как было сказано – он ожидал, что кто-то снимет перед ним шляпу. Но он, кажется, действительно был убеждён, что мир науки есть проявление реальности, превосходящей человеческое знание. Доктрина Непознаваемого вряд ли удовлетворит многих религиозных людей. Но это другой вопрос. Что касается Спенсера, он, кажется, искренне верил, что смутное сознание Абсолюта или Безусловного было неустранимым элементом человеческой мысли и, так сказать, сердцевиной религии, постоянным элементом, переживающим смену различных верований и метафизических систем.
7. Заключительные замечания.
Само собой разумеется, что в философии Спенсера есть немалая доля метафизики. В самом деле, трудно представить себе философию, которая бы обходилась без неё. Разве феноменализм не есть форма метафизики? И когда Спенсер говорит, например, что «под реальностью мы понимаем постоянство сознания», можно сказать, что это метафизическое утверждение. Мы могли бы, конечно, попытаться интерпретировать это как простое определение или утверждение об обычном употреблении языка. Но когда говорится, что «постоянство есть наше конечное подтверждение реального, будь то существующего в его неизвестной форме или в форме, известной нам», разумно квалифицировать такое утверждение как метафизическое.
Очевидно, Спенсера нельзя определить как метафизика, если под таковым понимать философа, который ставит целью раскрыть природу конечной реальности. Ибо, по его мнению, такая реальность не может быть раскрыта. И хотя он является метафизиком в той степени, в которой утверждает существование Непознаваемого, он затем посвящает себя разработке объединённой и полной интерпретации познаваемого, то есть феноменов. Но если нам нравится называть эту общую интерпретацию «дескриптивной метафизикой», мы, конечно, свободны это делать.
ИДЕАЛИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
РАННИЕ ЭТАПЫ ДВИЖЕНИЯ.
1. Историческое введение.
Во второй половине XIX века идеализм стал преобладающим философским направлением в британских университетах. Речь, конечно, шла не о субъективном идеализме. Последний, если где и возникал, то как логическое следствие феноменализма, ассоциируемого с именами Юма (XVIII век) и Дж. С. Милля (XIX век). Эмпиристы-феноменалисты пытались редуцировать физические объекты и ум к впечатлениям или ощущениям, а затем реконструировать их посредством принципа ассоциации идей. Это подразумевало тезис о том, что в основе мы познаём лишь феномены как впечатления, а метафеноменальные реальности, если и существуют, то непознаваемы. В отличие от них, идеалисты XIX века были убеждены, что «вещи в себе», будучи выражениями единой духовной реальности, проявляющейся в человеческом уме и через него, по сути своей познаваемы. Субъект и объект коррелятивны, поскольку оба укоренены в высшем духовном начале. Таким образом, это был скорее объективный, нежели субъективный идеализм[13741].
Следовательно, британский идеализм XIX века представляет собой возрождение спекулятивной метафизики[13751]. Любое проявление духа может быть, в принципе, познано человеческим духом. А весь мир в целом есть проявление духа. Наука – это лишь один из уровней познания, один аспект всеобъемлющего знания, к которому стремится ум, даже если он не может полностью его осуществить. Задача философской метафизики – завершить этот синтез.
Идеалистическая метафизика была, таким образом, метафизикой духовного, поскольку для неё конечная реальность была каким-то образом духовна. Отсюда следовало яростное противостояние идеализма материализму. Строго говоря, феноменалистов нельзя честно назвать материалистами, учитывая, что они пытались преодолеть спор между материализмом и спиритуализмом, сводя физические объекты и ум к феноменам, которые нельзя однозначно определить ни как духовные, ни как материальные. Однако эти феномены явно отличались от единой духовной реальности идеалистов. В любом случае, мы видели, что в наиболее позитивистском крыле эмпиристского движения возник как минимум методологический материализм – так называемый научный материализм, течение, не снискавшее симпатий идеалистов.
Подчёркивая духовный характер конечной реальности и связь между конечным и бесконечным духом, идеализм рассматривался как религиозная перспектива, противостоящая позитивизму и общей тенденции эмпиризма либо игнорировать религиозные проблемы, либо, в лучшем случае, допускать некий расплывчатый агностицизм. Действительно, популярность идеализма во многом объяснялась убеждённостью, что он твёрдо стоит на стороне религии. Конечно, у Брэдли, величайшего из английских идеалистов, понятие Бога трансформировалось в понятие Абсолюта, а религия определялась как уровень сознания, превзойдённый спекулятивной метафизикой; в то же время кембриджский идеалист Мак-Таггарт был атеистом. Однако у ранних идеалистов религиозный мотив был гораздо явственнее, и идеализм представал естественным прибежищем тех, кто стремился сохранить религиозное мировоззрение перед лицом угрожающих атак агностиков, позитивистов и материалистов[13761]. Позже, после Брэдли и Бозанкета, идеализм эволюционировал от абсолютного к персоналистическому и вновь проявил расположение к христианскому теизму, хотя к тому времени импульс движения уже иссяк.
Было бы, однако, ошибкой полагать, что британский идеализм XIX века представлял собой просто отход от практических интересов Бентама и Милля к метафизике Абсолюта. Он сыграл значительную роль в развитии социальной философии. В целом, этическая теория идеалистов делала акцент на идее самореализации, совершенствования человеческой личности как органического целого – идее, имевшей больше общего с аристотелизмом, нежели с бентамизмом. И она рассматривала функцию государства как создание условий, в которых индивиды могли бы развивать свои возможности как личности. Поскольку идеалисты склонны были интерпретировать создание таких условий как устранение препятствий, они, разумеется, могли – подобно утилитаристам – утверждать, что государство должно как можно меньше вмешиваться в свободу индивида. Они не были заинтересованы в замене свободы подчинением. Но поскольку они понимали свободу как возможность реализовать потенциал человеческой личности, а устранение некоторых препятствий на этом пути, по их мнению, требовало значительного объёма социального законодательства, они не стеснялись поддерживать активность государства, выходящую далеко за рамки того, что допускали самые рьяные сторонники политики laissez-faire. Можно сказать, что в конце XIX века социальная и политическая теория идеалистов в большей степени отвечала очевидным потребностям времени, чем позиция Герберта Спенсера. Бентамизм и философский радикализм, несомненно, сыграли полезную роль в первой половине столетия. Однако реформированный либерализм, пропагандируемый идеалистами конца века, никоим образом не был «реакционным». Его взор был обращён в будущее, а не в прошлое.
Возможно, предыдущие замечания создают впечатление, что идеализм XIX века в Британии был лишь естественной реакцией на эмпиризм, позитивизм, а также на экономику и политическую теорию laissez-faire. Однако на самом деле германская мысль, особенно последовательно Канта и Гегеля, оказала значительное влияние на развитие британского идеализма. Некоторые авторы, в частности Дж. Х. Мюирхед[1377], утверждали, что британские идеалисты XIX века были наследниками платоновской традиции, проявившейся в XVII веке в мысли кембриджских платоников и в философии Беркли в XVIII веке. Но хотя полезно помнить, что британская философия не носила исключительно эмпиристского характера, трудно доказать, что идеализм XIX века можно честно рассматривать как органичное развитие имманентной платоновской традиции. Влияние германской мысли, в особенности Канта и Гегеля[13781], нельзя сбрасывать со счетов как чисто случайный фактор. Верно и то, что ни один значительный британский идеалист не может быть назван, в обычном смысле слова, последователем Канта или Гегеля. Брэдли, например, был оригинальным мыслителем. Но это никоим образом не означает, что влияние германской мысли было незначительным фактором в развитии британского идеализма.
Ограниченное знакомство с Кантом было доступно английским читателям ещё при жизни философа. В 1795 году ученик Канта Ф. А. Ничш прочитал в Лондоне несколько лекций о критической философии, а в следующем году опубликовал свой перевод «Принципов критической философии» И. Я. Бека; в 1798 году А. Ф. М. Виллих издал «Элементы критической философии». Перевод «Метафизики нравов» Канта, выполненный Ричардсоном, появился в 1799 году; но первый перевод «Критики чистого разума», сделанный Ф. Хэйвудом, вышел лишь в 1883 году; серьёзные исследования Канта, такие как фундаментальный труд Э. Керда «Критический обзор философии Канта» (1877), появились значительно позже. Тем временем влияние немецкого философа, наряду со многими другими влияниями, проявилось у поэта Кольриджа, чьи идеи будут рассмотрены далее, и более явно у сэра Уильяма Гамильтона, хотя кантовский элемент в мысли Гамильтона наиболее заметен в его теории о пределах человеческого познания и в вытекающем отсюда агностицизме относительно природы конечной реальности.
Среди собственно английских идеалистов влияние Канта особенно ощутимо у Т. Х. Грина и Э. Керда. Однако оно смешивалось с влиянием Гегеля. Более конкретно, Канта рассматривали как предшественника Гегеля и читали, как уже говорилось, через гегельянские очки. Действительно, в работе Дж. Х. Стирлинга «Секрет Гегеля» (1865) прямо защищалась идея, что философия Канта, должным образом понятая и оценённая, ведёт непосредственно к гегельянству. Таким образом, хотя влияние Гегеля, и справедливо, более очевидно в абсолютном идеализме Брэдли и Бозанкета, чем в философии Грина, не следует делить британских идеалистов на кантианцев и гегельянцев. Не считая некоторых первопроходцев, влияние Гегеля ощущалось с самого начала движения. И поэтому не лишено оснований определять британский идеализм – как это часто делается – как неогегельянское движение, если только под этим не подразумевается принятие определённых черт гегельянства, а не следование Гегелю в отношениях учителя и ученика.
На ранних этапах британское идеалистическое движение характеризовалось пристальным вниманием к отношению субъект-объект. В этом смысле можно сказать, что идеализм имел эпистемологическое основание, поскольку отношение субъект-объект существенно для познания. Тем не менее, метафизика Абсолюта также присутствовала. Ибо субъект и объект рассматривались как укоренённые в конечной духовной реальности, выражением которой они являлись. Но отправная точка повлияла на метафизику в одном важном аспекте. Поскольку акцент изначально делался на конечном субъекте, это позволяло избежать соблазна интерпретировать Абсолют таким образом, что конечное оказывалось лишь «нереальной» видимостью Абсолюта. Другими словами, ранние идеалисты склонялись к интерпретации Абсолюта в более или менее теистическом или, в любом случае, панентеистическом смысле, сохраняя при этом монистический аспект метафизического идеализма. И это, несомненно, способствовало представлению идеализма как интеллектуальной опоры традиционной религии.
Постепенно, однако, на первый план всё больше выдвигалась идея всеобъемлющего органического целого. Так, у Брэдли «я» определялось как всего лишь «видимость» Абсолюта, как нечто не вполне реальное, если рассматривать его в его кажущейся независимости. И эта откровенная метафизика Абсолюта, что понятно, сопровождалась большим акцентом на государстве в области социальной философии. В то время как Герберт Спенсер, с одной стороны, пытался утвердить противостояние интересов свободного индивида и интересов государства, идеалисты стремились представить человека реализующим истинную свободу через участие в жизни целого.
Иными словами, в идеалистическом движении вплоть до Брэдли и Бозанкета мы можем видеть растущее влияние гегельянства. Как уже отмечалось, влияние Канта никогда не ощущалось в чистом виде, поскольку в критической философии видели предвосхищение метафизического идеализма. Но если учесть это, а также значительные различия между теорией Абсолюта у Брэдли и у Гегеля, можно сказать, что переход от отношения субъект-объект к идее органического целого как центральной точки означал растущее преобладание активного влияния Гегеля над влиянием критической философии Канта.
На последнем этапе идеалистического движения вновь возросло значение конечного «я», хотя на сей раз речь шла скорее об активном «я», человеческой личности, а не об эпистемологическом субъекте. И этот персоналистический идеализм сопровождался сближением с теизмом, за исключением примечательного случая Мак-Таггарта, который определял Абсолют как систему конечных «я».
Но хотя эта фаза персоналистического идеализма представляет определённый интерес как сопротивление конечного «я» поглощению безличным Абсолютом, она относится к периоду, когда идеализм в Британии уже уступал место новому течению мысли, связанному с именами Дж. Э. Мура, Бертрана Рассела и, позднее, Людвига Витгенштейна.
2. Литературные первопроходцы: Кольридж и Карлейль
В среде образованной публики влияние германской мысли первоначально проникло в Британию через сочинения поэтов и литераторов, таких как Кольридж и Карлейль.
(I) Сэмюэл Тейлор Кольридж (1772–1834), по-видимому, впервые познакомился с философией через сочинения неоплатоников, будучи учеником школы «Крайст Хоспитал». Однако это раннее увлечение мистической философией Плотина сменилось вольтеровской фазой, во время которой Кольридж на некоторое время проникся религиозным скептицизмом. Затем, в Кембридже, в нём пробудился энтузиазм, возможно, несколько неожиданный, к Дэвиду Хартли и его ассоциативной психологии[13791]. В действительности Кольридж считал себя более последовательным, чем Хартли. Если Хартли, утверждая, что психические процессы зависят от вибраций мозга и связаны с ними, не заявлял о телесности мысли, то Кольридж писал Саути в 1794 году, что верит в телесность мысли, то есть в то, что она есть движение. Кольридж одновременно сочетал энтузиазм по отношению к Хартли с религиозной верой[13801]. Впоследствии он пришёл к мысли, что научный рассудок неадекватен как ключ к реальности, и начал говорить о роли интуиции и важности морального опыта. Позднее он утверждал, что система Хартли, насколько она отличается от аристотелизма, несостоятельна[13811].
Различение Кольриджем научного рассудка и высшего разума (или, как сказали бы немцы, между Verstand и Vernunft) было выражением его бунта против духа Просвещения XVIII века. Разумеется, он не хотел сказать, что научный и критический рассудок следует отвергнуть во имя высшего, интуитивного разума. Скорее, его идея заключалась в том, что первый не всегда является полезным инструментом интерпретации реальности и нуждается в дополнении и уравновешивании вторым, то есть интуитивным разумом. Нельзя сказать, чтобы Кольридж очень ясно объяснил разницу между рассудком и разумом. Однако общее направление его мысли достаточно ясно. В работе «Помощь для размышления» (1825) он определяет рассудок как способность, судящую в соответствии с чувствами. Его собственная сфера – чувственный мир, на основе чувственного опыта он размышляет и обобщает. Разум же – это проводник идей, которые предполагаются всяким опытом, и в этом смысле предопределяет опыт и управляет им. Он также воспринимает истины, не проверяемые чувственным опытом, и интуитивно постигает духовные реальности. Впоследствии Кольридж отождествляет его с практическим разумом, включающим волевой и моральный аспекты человеческой личности. Таким образом, Дж. С. Милль был вполне прав, говоря в своём знаменитом эссе о Кольридже, что поэт расходится с «локковской» идеей, согласно которой всё знание состоит в обобщениях из опыта, и требует для разума, в отличие от рассудка, способности к прямому интуитивному восприятию реальностей и истин, находящихся вне досягаемости чувств[13821].
Для развития этого различения Кольридж получил стимул от сочинений Канта, которые начал изучать вскоре после своей поездки в Германию в 1798–1799 годах[13831]. Однако он, кажется, стремится показать, что Кант не только ограничил область рассудка познанием феноменальной реальности, но и мыслил об интуитивном постижении духовных реальностей посредством разума; тогда как на самом деле, приписывая такую силу разуму, скорее отождествляемому с практическим разумом, Кольридж явно отходит от немецкого философа. Более прочную основу он находит, демонстрируя свою близость к Якоби[13841], утверждая, что отношение между разумом и духовными реальностями аналогично отношению между глазом и материальными объектами.
Впрочем, никто не стал бы утверждать, что Кольридж был кантианцем. В Канте он нашёл стимул, а не учителя. И хотя он признавал свой долг перед немецкими мыслителями, особенно Кантом, ясно, что считал свою собственную философию фундаментально вдохновлённой платонизмом. В «Помощи для размышления» он сказал, что каждый человек рождается либо платоником, либо аристотеликом. Аристотель, великий учитель ума, был чрезмерно привязан к земле. «Он начал с чувственного и никогда не допускал ничего, находящегося сверх чувств, кроме как по необходимости, в качестве единственной сохранившейся гипотезы…»[13851] То есть Аристотель постулировал духовную реальность лишь в крайнем случае, когда его вынуждало к этому объяснение физических явлений. Платон же искал сверхчувственную реальность, которая открывается нам через разум и моральную волю. Что касается Канта, то Кольридж иногда говорит, что он по духу принадлежит к аристотеликам, в то время как в других случаях подчёркивает метафизические аспекты мысли Канта и обнаруживает в нём близость к платонизму. Другими словами, Кольридж принимает кантовское ограничение сферы рассудка феноменальной реальностью, а затем склонен интерпретировать эту теорию разума в свете платонизма, в свою очередь интерпретируемого в свете философии Плотина.