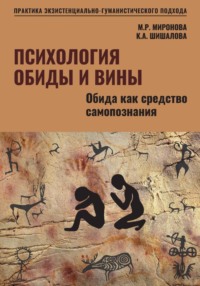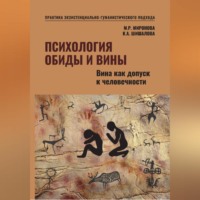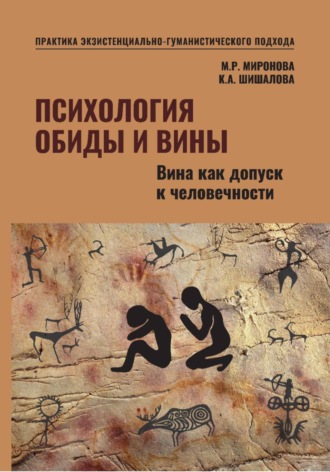
Полная версия
Психология обиды и вины. Вина как допуск к человечности Том 2 Миронова М.Р. Шишалова К.А.
Описанный пример представляет собой классическую вину за ошибку. Но несколько иначе будет разворачиваться процесс переживания, если наши действия были направлены на причинение вреда.
Пример «Офисные интриги»
Предположим, мы решили организовать в выходные небольшой междусобойчик внутри тесного рабочего коллектива. Один из членов коллектива в последнее время много вредничал, конфликтовал с другими, и мы решили не посвящать его в наши планы. Мы прекрасно отдохнули, а потом выложили в соцсети фото с нашего отдыха. Счастливые, радостные лица всех членов коллектива, кроме одного. Мы прекрасно знаем, что он посмотрит эти фото и расстроится, а возможно, и обидится. Таким образом мы хотим показать нашему вредному сослуживцу, что нам не нравится его поведение. Наши ожидания вполне оправдываются: реакция коллеги вполне предсказуема. Он очень расстраивается, решает, что его унизили и отвергли и пишет заявление об уходе. Мы чувствуем себя виноватыми, осознавая, что нанесли вполне серьезный вред – и ему, и общему делу.
1) В данном случае мы исходим из того, что, во-первых, имеем право наказать нашего вредного коллегу. Возможно, потому что он нас достал своими выходками, возможно, потому что мы уже с ним разговаривали на эту тему и решили, что уже достаточно разговоров, а может быть, и не пробовали разговаривать, но очень долго копили в себе злость и раздражение. Неважно по каким причинам, но мы решили это сделать, потому что обижены. Ведь одна из составляющих переживаний обиды – это ощущение собственной праведности и борьбы за правила.
2) Во-вторых, не желая брать на себя личную ответственность обвинить коллегу в нехорошем поведении, мы привлекли к ситуации весь коллектив, усилив таким образом собственные позиции и заранее обеспечив себе поддержку. Что безусловно укрепило нашу «невинность». В-третьих, мы решили, что можем точно просчитать реакцию коллеги. Скорее всего, мы представляли себе, как он обиженно говорит нам, что хотел тоже поехать отдохнуть на выходные со всеми вместе, а возможно, даже сам признает законность наказания и обещает больше никогда не вредничать. Ожидания, описанные таким образом, выглядят глуповато, и, как минимум, самонадеянно. Но это вполне реалистичная картина. Если вдуматься, то некоторая примитивность этой картины вполне очевидна, но под воздействием эмоций, обиды и сбившись в стаю, мы ощущаем наш план как правильный, веселый и даже хитроумный.
3) Вполне возможно, что, тайком договариваясь, куда и как мы поедем, шушукаясь за спиной у коллеги, мы ощущаем еще большее воодушевление. Что-то в этом есть от приключения, вполне можно вообразить себя агентом 007. Мы с удовольствием проводим время в выбранном месте, возможно, даже обсуждаем, как у вредного коллеги вытянется физиономия, когда он узреет наши замечательные фотки. Гордые своей изобретательностью, мы выкладываем фотографии в сеть.
4) На следующее утро придя в офис на совещание, мы обнаруживаем, что нашего вредного коллеги нет, и начальник объявляет нам, что тот написал заявление об уходе, и спрашивает, что, собственно, случилось. Мы, пока еще уверенные своей правоте, объясняем, что случилось: что он в своем репертуаре, что он вел себя очень плохо, и мы решили не брать его на корпоратив, на что получаем откровенно отрицательную реакцию от начальника. Ему наша задумка не кажется уместной, и он объявляет нам, что наш коллега написал заявление об уходе, на работу не выйдет и виноваты в этом мы. Поэтому обязанности уволившегося распределяются между участниками корпоратива и не оплачиваются до тех пор, пока не будет найден новый работник.
5) Происходит встреча с реальностью. Мы понимаем, что поступили, как минимум, недальновидно. Что наши ожидания совершенно не соответствуют реальности. Что мы, такие умные, не просто ошиблись, но еще и навлекли на себя и на других существенные неприятности. Потихоньку до нас доходит, что объем работы увеличился в разы, что в ближайшее время нам не светит отдых и выходные. Мы внезапно осознаем, как зависели от нашего вредного коллеги. Мы испытываем шок от понимания того, насколько сильно повлияли на ситуацию, насколько велики ее последствия.
6) Когда шок проходит, мы начинаем понимать, что виноваты, начинаем чувствовать вину.
7) Наверное, мы попытаемся обзвонить знакомых, пожаловаться на самодура-начальника, на вредного коллегу, который «неизвестно на что обиделся». Возможно, даже попытаемся позвонить уволившемуся коллеге, чтобы извиниться и убедить его вернуться. В нашем примере все эти действия не приносят никакого результата и постепенно мы понимаем, что действительно виноваты во всей ситуации сами.
8) Мы начинаем понимать, что вернуть все обратно не получается и не получится. И возникает новый шок от осознания того, что прежняя жизнь кончилась. В этот момент мы ощущаем вину глубже всего, потому что вместе с ней еще ощущаем очень сильное одиночество. Это очень характерно для переживания экзистенциального кризиса. Переживания могут быть настолько сильными, что ощущаются как физическая боль. Или растерянность на грани с неспособностью двигаться. Возможно, в какой-то момент мы обращаемся к коллегам за сочувствием, но они могут напомнить нам, что это была наша идея, нам же и расхлебывать последствия. Но даже если коллеги выражают сочувствие – это лишь слегка облегчает ситуацию. Мы довольно ясно осознаем, что виноваты только мы сами. По счастью, этот момент довольно короток.
9) Постепенно шок от осознания, что все уже случилось и возврата к прежнему не будет, отступает, и мы погружаемся в одинокую паузу. Одинокая пауза обеспечивается в основном переживанием обиды – на то, что ситуация так сложилась, никто нас не уберег и не удержал, ну и так далее. В этот момент наконец включаются механизмы психологической защиты: вытеснения, подавления, отрицания. Мы отвлекаемся, эмоции сменяют друг друга, становятся менее острыми, от ругательств в свой адрес и в адрес коллеги мы переходим к более мягким формулировкам: «никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь», «и на старуху бывает проруха», «век живи, век учись», и так далее. Именно в этот момент формируются две позиции относительно случившегося, мы пытаемся в общих чертах определить, что же это было – невезение (объектная позиция) или вредоносное действие (субъектная позиция), за которое последовала расплата. Сначала под воздействием эмоций эти позиции быстро сменяют друг друга в сознании, потом возбуждение снижается, силы истощаются, и постепенно к нам возвращается способность размышлять.
Мы переходим к анализу ситуации. В это момент происходит осознанный выбор позиции. Он может оформляться в виде кризиса, если выбор нам незнаком или слишком противоречит опыту, ценностям, мировоззрению. В этом случае мы делаем выбор как бы нехотя, против своего желания. Внутри могут происходить такие диалоги:
– Но он же сам напросился!
– Ничего он не напрашивался, это мне отомстить хотелось. За то, что он клиента увел, а так нельзя.
– Так сказать надо было! И клиента увести! А не народ подбивать.
– Сколько раз говорили! Он все равно гад!
– Ну и что, все равно нельзя было.
И так до бесконечности. Пока мы не придем к пониманию того, что произошло: кто и что делал, кто нарушил правила, какие правила были нарушены, каковы были реакции окружающих и наши собственные. И, на основании этого, мы выбираем позицию, кто виноват: мы – и тогда мы несем ответственность, или он, или начальник, или коллектив, или стечение обстоятельств. Если мы решаем, что нашей вины нет, то переживание вины или заканчивается здесь, или уходит в «хранилище незавершенных гештальтов»[12]. Мы вполне можем решить, что не виноваты, если не были нарушены правила, существующие в коллективе, или если не был нанесен вред, например, начальник, побушевав, сменяет гнев на милость, признает, что этот работник был не нужен и он сам хотел его уволить, только не знал, как. Или если выясняется, что наш коллега вообще не видел этих фотографий и смотреть не собирался, а уволился, потому что нашел работу получше. Правда, даже в этих случаях останется переживание нарушенных ожиданий в отношении собственной способности предусмотреть все последствия. Останется шок от неожиданности результата. И возможно, мы выйдем из этой ситуации с новым образом «я», обладающим характеристиками, о которых мы раньше не знали. В нашем примере это месть и удовольствие от предполагаемых чужих страданий.
Иногда бывает, что мы по каким-то причинам не можем сразу осознать все последствия своих действий и определиться со всеми характеристиками. Тогда ситуация как бы забывается (уходит в «хранилище незавершенных гештальтов») и не всплывает до тех пор, пока мы не встречаемся с информацией, позволяющей нам переосмыслить произошедшее и окончательно определиться с виной, ответственностью и вредом. Этот процесс может длиться много лет и таких окончательных определений может быть несколько. Они зависят от опыта, от изменяющейся ситуации и меняющихся правил.
Если мы признаем себя виноватыми, нам надо определиться, в чем именно виноваты, какие правила нарушали, какой вред причинили и кому, какие мотивы у нас были, чего мы хотели и какие результаты получились. В нашем примере расклад может выглядеть следующим образом.
Вредоносные действия: организовали для коллеги ситуацию отвержения со стороны группы.
Нарушенные правила: не вступать в тайных сговор против «своего», не нападать толпой на одного, не переносить рабочие конфликты в область личных, продумывать последствия действий дальше одного шага.
Причиненный вред: коллеге (отрицательные переживания, обида), организации (лишение работника), коллегам (увеличение нагрузки), начальнику (внеплановая ситуация, нарушение субординации), нам самим (лишение «невинности» в отношении собственной порядочности и интеллекта и социальное давление в результате причиненного вреда).
10) Вторая одинокая пауза. Четвертый экзистенциальный кризис от столкновения с данностью «отдельность-но-связанность», связанный с необходимостью определиться на данный момент, насколько я человек («свой»), нужно мне соединяться с другими людьми или наоборот разъединяться.
Этот этап возникает, если мы признаем всю ситуацию новой для себя. Если мы признаем изменение реальности. В зависимости от того, признали ль мы себя виноватыми и в чем, мы по-разному ведем себя. Если мы признали себя виноватыми, то пытаемся получить мнение окружающих, но делаем это совершенно не так, как делаем это, когда обижены. Обиженный человек старается всем рассказать о том, как его обидели, и получить поддержку. Виноватый – точно знает, что он получит порицание. Поэтому взрослый (начиная с семи лет) не очень стремится рассказывать о своей вине налево и направо, а пытается сначала организовать консилиум у себя в голове: вспоминает похожие случаи, реакции значимых людей на сходные ситуации. Эта фаза переживания напоминает одинокую паузу в обиде и внешне может выглядеть как оцепенение. В этот момент нам очень нужно решить – мы вообще можем что-то кому-то рассказать или это опасно для нашей жизни (имеется в виду не только опасность физического уничтожения, вреда или изгнания, но и опасность повреждения идентичности, образа «я»). Фактически нам надо предугадать возможное решение окружающих. Если в этом процессе нам вспоминаются противоречивые случаи, то мы гораздо легче обращаемся к реальным людям за советом. В этот момент нам важно именно определить свое место в ряду «своих, совершивших нарушение правил» и решить, сможем ли мы остаться «своими» после этого. Если решаем, что «своими» остаться невозможно, то скорее всего не будем никому рассказывать о том, что совершили, или расскажем тому, кто гарантированно нас не осудит. Если же мы считаем свой поступок простительным, то вполне можем обратиться к другим за пониманием, поддержкой, разъяснениями, легким порицанием или прощением. В нашем примере это может быть беседа с одним или несколькими коллегами, которые были с нами на тусовке, или даже разговор с начальником. Возможно, мы могли бы рассказать такой случай своим близким.
В данном случае особый интерес представляет форма рассказа: наш рассказ может быть просто изложением фактов и переживаний, тогда выше шанс получить легкое порицание или понимание. Но ситуация нарушения правила всегда содержит фабулу, которую легко превратить в драматичный или смешной рассказ. В этом случае нам легче получить эмоциональную поддержку. Ирония или осмеяние, направленные на виновника (на нас), могут служить дополнительным самонаказанием, так как ирония справедливо считается одним из видов агрессии. А если рассказ получился особо красочным и смешным, то есть шанс и смягчить порицание – мы все любим и ценим тех, кто нас смешит.
11) Выход из вины – всегда действие (самонаказание, извинение, искупление, оправдание).
Мы подробно опишем выход из вины в четвертой части. В нашем примере это может быть самый широкий спектр действий, в зависимости от интерпретации нами ситуации: звонок уволившемуся коллеге, разговор и извинение перед начальником, добровольное увеличение собственной нагрузки для обучения нового сотрудника, решение о том, что уволившийся был виноват сам, или различные формы самонаказания – от внезапного решения заменить выходные на внеплановую уборку в офисе до увольнения и бессонницы. В самооправдании и самонаказании наша изобретательность не имеет границ.
ВВЧ: Замечали ль вы у себя одинокую паузу, когда вы переживаете вину? Кого вы вспоминаете в ней, на кого опираетесь?
Глава 7. ФУНКЦИИ ВИНЫ
POU STO Хотим еще раз подчеркнуть, что феномены психики не стоит рассматривать с точки зрения актуальной на данный момент этики в конкретном социуме. Когда мы описывали функции обиды, мы говорили об основных, дополнительных и индивидуализированных функциях. Поддерживать такое разделение было довольно сложно, хотя функции обиды – достаточно явные, яркие и понятные. Все равно возникает множество сомнений относительно такого разделения, потому что сложно решить, что основное, а что дополнительное, то общее, что индивидуальное. Они еще и местами поменялись, пока мы писали! Функции вины описывать таким образом еще сложнее, поэтому мы объединили их в группы. Естественно, строго их разделить не получится – они перемешаны и переплетены, но все же мы считаем, что вина важна:
Для группы (социума).
Для конкретного человека.
Для взаимодействия между человеком и социумом.
Для результативности межличностного взаимодействия.
Для результативности во внутриличностном взаимодействии.
1. Итак, основная функция вины для группы и социума и главная функция вины вообще, на наш взгляд, – камертон отклонения действий человека от общепринятых норм поведения, а также возможного несовпадения индивидуальной нормы и общегрупповой. Переживание вины безусловно поддерживается социумом, это социально одобряемое переживание, вследствие чего естественно заподозрить в нем инструмент существования социума.
Кроме основной функции, есть еще множество не таких явных, но очень важных для существования социума и группы:
• автоматическая регуляция поведения членов группы через планирование такого поведения, которое позволяет избегать чувства вины это позволяет минимизировать издержки от частых нарушений правил;
• формирование у членов группы ответственности за свое поведение, которая подталкивает их к самостоятельному разрешению проблем, возникающих вследствие их поступков;
• эффективная регуляция состава группы (социума): нарушители правил уходят сами;
• средство консолидации группы;
• автоматический ограничитель гневных и агрессивных проявлений, которые угрожают другим членам группы;
• инструмент смягчения конфликтов;
• механизм выявления скрытых несформулированных норм.
Скорее всего, у вины есть и другие функции, важные для группы. Это зависит от группы, от культуры и от скорости изменения социума.
2. Вторая группа функций вины, с точки зрения конкретного человека, нам представляется наиболее умозрительной, но это не делает ее менее важной. На наш взгляд, у такой вины есть три основные функции:
• постоянная связь с собственной человеческой природой;
• постоянная связь с человечеством и группой;
• доступ к собственной субъектности.
Уже из описания динамики процесса вины понятно, что вина представляет собой практически мгновенный лифт в переживание основных экзистенциальных данностей. В частности, поэтому ее так тяжело переживать.
3. С точки зрения взаимодействия между человеком и социумом, на наш взгляд, основная функция вины:
• обеспечение непосредственной, чувственной (неосознаваемой) связи с нормативной реальностью социума;
• а также идентификация принадлежности к одной группе, признаком чего является наличие чувства вины в ситуации нарушения групповой нормы (в отношении чего-либо, что воспринимается чуждым, чувство вины может не возникать). Примером могут служить существующие в обществе двойные стандарты в отношении людей «не своего круга», «не той национальности» (уровня образования, расы и т. п.) и вообще «не нашего муравейника».
4. С точки зрения результативности межличностного взаимодействия основными функциями вины можно считать:
• умение вызывать чувство вины в другом человеке является безотказным средством манипуляции. Тот факт, что дети очень легко и быстро овладевают такими умениями, говорит о врожденном характере феномена;
• демонстрация чувства вины является способом снизить опасность со стороны потенциального агрессора, так как вызывает импульсивное торможение агрессии, если агрессор считает виноватого «своим»;
• переживание вины накрепко связывает человека с другими, перед которыми он чувствует себя виноватым. Такую связь невозможно разорвать до тех пор, пока существует вина. Эта функция является одним из возможных объяснений иррациональной вины перед умершим близким человеком.
5. С точки зрения результативности во внутриличностном взаимодействии, то есть в деле достижения внутренней гармонии и определения самоидентичности, основными функциями вины мы считаем:
• обозначение разницы между намерением и результатом, обозначение границ ответственности, что тоже оформляется разной интенсивностью чувства вины;
• обеспечение непрерывности восприятия собственной жизни за счет прочных воспоминаний;
• побуждение стараться предвидеть последствия своих действий или, по крайней мере, задумываться о них;
• принуждение пересматривать свои ожидания и индивидуальные нормы, не соответствующие реальности, ради того, чтобы избежать катастрофического переживания вины;
• поддержание эмоциональной целостности: переживание вины иногда единственное разрешенное, «законное» переживание в жизни человека (например, в силу условий роста или личной идеологии). По своей природе оно вмещает в себя множество чувств, давая возможность к ним приблизиться, сохранить способность их переживать.
Безусловно, это не все функции вины, даже если считать самые крупные и явные. Ниже мы приведем список функций вины, составленный психологами-участниками семинаров, посвященных вине и обиде, в период с 2011 по 2020 гг. Функции очень разные, в том числе стилистически.
Список функций вины:
• Острое переживание вины (настоящей или еще только воображаемой), будучи почти непереносимым, прекрасно отвлекает от страха, позволяет преодолевать его и даже не замечать.
• Иногда само переживание вины является основанием для ощущения морального превосходства и повышения самооценки.
• Память о пережитых моментах вины вследствие необдуманных или поспешных действий формирует почти автоматический тормоз, замедляющий импульсивные действия.
• Формирование ответственности человека как личностного качества в результате опыта попадания в ситуацию «виноватого», взятия на себя вины за содеянное и успешной переработки этого опыта.
• Обозначение разницы между намерением и результатом, обозначение границ ответственности, что тоже оформляется разной интенсивностью чувства вины.
• Катастрофическое и труднопереносимое чувство вины прекрасно закрепляет память о неудачном способе поведения, нарушающем групповые нормы, и препятствует его воспроизведению.
• Стремление избежать вины, но все же добиться своего тренирует креативность.
• Стремление избежать чувства вины стимулирует человека изучать окружающих и нормы поведения.
• Большее или меньшее чувство вины соответствует более или менее ценным отношениям, более или менее важным нормам и может служить индикатором близости.
• Страдания по поводу вины могут восприниматься (и, соответственно, переживаться) человеком как индульгенция и избавление от необходимости исправлять нанесенный вред или изменять свое поведение.
• Фиксация на чувстве вины дает возможность не жить в настоящем, пребывая в утраченном прошлом.
• Небольшая вина нужна, чтобы сохранить связь с тем, кого обидел.
• Большая вина нужна, чтобы разорвать связь с тем, кого обидел.
• Небольшая вина нужна, чтобы войти в новую группу.
• Большая вина нужна, чтобы выйти из группы.
• Чтобы получить от окружающих «поглаживание» за «правильные переживания» и «правильное поведение».
• Для создания границ действий.
• Как мотиватор обучения.
• Вина обогащает взгляд, способствует децентрации.
• Вина нужна для легализации боли, если боль социально неприемлема.
• Вина нужна для придания формы переживаниям (боли, гневу, злости…).
• Выражение вины вызывает автоматические реакции: жалость, сочувствие (в том числе, в отношении себя).
• Вина – это форма признания поражения с сохранением субъектности.
• Вина нужна как замена жертвенности – я виноват, я уступаю, я делаю это сознательно, по собственному выбору, а не как жертва обстоятельств или насилия.
• Вина – как замена действия – бездействие с сохранением субъектности.
• Вина как средство почувствовать живым себя и другого.
• Выражение вины как средство избежать обвинений.
• Вина легко становится автоматической реакцией – это пригодно для создания опоры в ситуации высокой неопределенности.
• Вина – способ повысить самоуважение.
• Вина как гарантия нормальности.
• Вина – это защита от всемогущества.
По мере изменения реальности жизни людей меняются и функции переживаний, так что, скорее всего, есть еще и «региональные», и «внутригрупповые» и «семейные» функции вины. Обратите внимание, последние две функции в списке были сформулированы в 2011 году и больше ни на одном семинаре не повторялись. Возможно, это признак того, что эти функции утратили свою актуальность.
ВВЧ: Попробуйте самостоятельно распределить по группам функции в списке. Наш вариант вы найдете в приложении.
Диалог «Революционэры»
Психолог: Что-то ты неважно выглядишь.
Клиентка: Будешь тут хорошо выглядеть, когда работаешь по 12 часов.
Психолог: Что, начальник опять заставил сверхурочно работать?
Клиентка: Ага, заставил. И платить не хочет, тычет мне в договор, про форс-мажорные обстоятельства.
Психолог: А у юриста была?
Клиентка: Да не буду я ничего делать, все бесполезно.
Психолог: Совсем все?
Клиентка: А что, нет?
Психолог: Ну хоть посоветуйся с кем-нибудь, с коллегами поговори.
Клиентка: Все равно потом останусь крайней, даже если выясню, что все на моей стороне.
Психолог: Что значит «крайней»?
Клиентка: Да виноватой во всем, непонятно, что ли?
Психолог: Ну расскажи поподробнее.
Клиентка: Ты что, не знаешь, как это бывает? Когда на того, кто больше всех выступает, все и обижаются.
Психолог: Что, ситуации были?
Клиентка: Были, и не раз. Чего рассказывать-то, все равно никакого толку. Все как у всех.
Психолог: Я вижу, что тебе тяжело об этом говорить. Выглядит так, будто ты боишься повторить какую-то ситуацию. Может, расскажешь?
Клиентка: Ладно уж, расскажу. Я в провинции училась. У нас там все попроще и почти по-семейному. В школе все друг друга знали, учителя цапались между собой, но, в общем, не страшно, хорошие были, в основном. А потом у нас учительница старенькая ушла на пенсию и нам прислали какую-то грымзу из администрации города. Ей для чего-то нужен был педагогический стаж. Мы довольно быстро поняли, что она – учитель начальных классов. Она от нас требовала, чтобы мы вставали обязательно для ответа, чтобы отвечали по какой-то странной форме, в угол нас пыталась ставить. А мы в 10-м классе были уже, привыкли с учителями свободно общаться, чай лучшая гимназия в городе, все олимпиады наши были. Мы сначала даже не злились, а просто смеялись, но потом поняли, что она нам историю заваливает, по которой большинство ЕГЭ собиралось сдавать. Историю-то за день не выучишь. Ну мы и организовали протест. Демонстративно не явились всем классом на урок, составили список претензий, собрали подписи. Правда, подписи брали не у всех. У нас в классе человек шесть детей городских чиновников было. Мы понимали, что им не надо в это влезать. В принципе, можно сказать, что у нас даже получилось, нас выслушали, учителя нас поддержали. Петицию взяли, никто не умер, никого не наказали. Грымзе, правда, как с гуся вода – год у нас довела и делала вид, что ничего не произошло, только в угол нас перестала ставить. Правда, в 11-м классе уже другой, хороший учитель был (пауза).