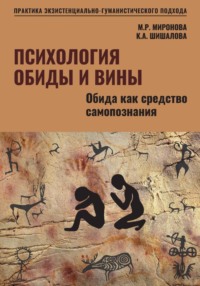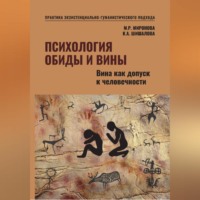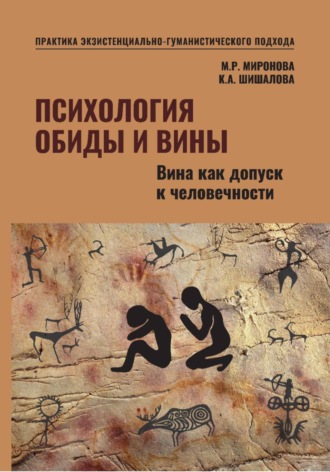
Полная версия
Психология обиды и вины. Вина как допуск к человечности Том 2 Миронова М.Р. Шишалова К.А.
Центральным, корневым моментом в ситуациях возникновения вины является переживание катастрофы. Скорее всего, катастрофическое ощущение вызывает мысль «Люди так не поступают, значит, я не человек». Видимо, эта мысль невыносима, поскольку она тут же подавляется, и переживание отрывается от непосредственной причины (мысли). Возможно, именно поэтому вина часто считается «иррациональным переживанием»– его психологическая причина неочевидна и глобальна. Чувствуя себя виноватыми непосредственно после совершения поступка, мы каждый раз неосознанно пытаемся решить, можно ли еще считать себя человеком или уже нельзя.
1. Факторы, влияющие на тяжесть переживанияТяжесть (интенсивность) переживания вины в нашей культуре чаще всего зависит от следующих факторов:
Намеренность-ненамеренность действий
Злонамеренное действие, как правило, вызывает меньше непосредственной вины (обида, гнев, злость и ярость мешают ее проявлению), но больше переживаний впоследствии. Страх перед такими переживаниями мы описывали в разделе «Месть» (См. Обида, Гл. 20). Вина от ошибки или нечаянного причинения вреда тяжелее непосредственно в момент совершения и легче уходит в процессе осознания.
Тяжесть причиненного вреда
Обычно чем обширнее и долговременнее последствия нашего действия, чем больше людей осознают его последствия как вред, – тем сильнее чувство вины. Мы не рассматриваем ситуации причинения вреда, описанные в уголовном кодексе, они безусловно не учитывают всех тонкостей жизни человека в современном обществе. Заметим только, что причиненный вред часто бывает неявным и осознать его не только тяжело, но и сложно.
Возможная реакция сообщества
Сила переживаемой вины очевидно зависит от того, считают ли нас виноватыми окружающие, и насколько. Если все вокруг очевидно демонстрируют свое осуждение, мы невольно задумываемся над своим поведением. И наоборот – нам легче простить себе ошибку или даже прегрешение, если все вокруг всячески показывают, что наш поступок не нанес ощутимого вреда.
Сила воображения виноватого
Этот фактор практически не нуждается в пояснении, нам и так понятно, что чем больше мы склонны воображать себе всякие ужасы и отдаленные последствия нашего действия, тем сильнее будет ощущение катастрофы. В девяностые и нулевые специалистам кризисных служб довольно часто встречались дети, ушедшие на улицу, сбежавшие из дома от страха столкнуться с реакцией родителей на двойку или на вызов в школу. В большинстве случаев детям не грозило ничего серьезнее, чем скандал, но сила воображения подростка практически не поддается измерению, а подростково-негативный взгляд на жизнь успешно довершает картины грядущей катастрофы (родительского гнева), перед лицом которой жизнь в мусорном баке представляется вполне приемлемым выходом.
То, насколько прегрешение не вписывается в личный образ «я хороший человек»
Нам всем знакомы ситуации, когда окружающие вообще не понимают, почему мы чувствуем себя виноватыми. Например, когда, будучи занятыми, не отвечаем на звонок близкого, или когда в рассеянности берем чужое пирожное, или когда перебиваем, не дослушиваем. С этой точки зрения переживание вины очень диагностично – чувство вины выявляет нормы, составляющие образ «идеального я». Иногда чувство вины возникает исключительно в ответ на нарушение внутренней нормы, личного правила, о существовании которых мы могли ранее и не догадываться.
Степень осознанности всей ситуации
Осознанность влияет на переживание вины неоднозначно и нелинейно. Как правило, осознание факта нарушения правил является началом переживания вины и далее влияет на переживание вины на всем протяжении его существования с учетом всех вышеперечисленных факторов, то увеличивая его интенсивность, то уменьшая. Например, осознав, что в незнакомой ситуации мы вопиющим образом нарушили правила этикета (на официальном мероприятии первыми попытались пожать руку человеку, который очевидно старше нас и обладает более высоким статусом), мы сначала ужасаемся и чувствуем себя очень виноватыми. А затем, когда начинаем осознавать произошедшее, в дело вступают другие характеристики:
• степень намеренности («Я не знал!»);
• последствия (никто не умер, скандала не случилось);
• реакция окружающих (поморщились, но не убили, не уволили);
• место этого события в нашей жизни («На следующий официальный прием я пойду через год» или «Слава богу, мамы там не было!»);
• сила удара по я-концепции («Я плохо разбираюсь в этикете, надо бы поправить это» или «Как же я не заметил, что он отпрянул?! Мог бы смягчить конфуз»).
В результате всех этих действий и осознания наше чувство вины будет колебаться, становясь то меньше, то больше, в зависимости от того, какие факторы на нас больше влияют, что важнее в данный момент.
Сочетание описанных выше (а может быть, еще и множества других) факторов в каждом конкретном случае создает уникальный рисунок переживания вины.
2. Ощущения, чувства и эмоции, возникающие при непосредственной вине («катастрофа», вихрь»)Корневое переживание – ощущение катастрофического отрыва от других: «Я сделал что-то такое ужасное, что все от меня отвернутся и я уже никогда не буду человеком». В зависимости от индивидуальных особенностей оно может формулироваться по-разному: «со мной больше никто не будет общаться», «я умру», «пусть все идут к черту».
Катастрофическое ощущение не может быть долгим, поэтому оно сменяется чередой эмоций, чувств, переживаний и ощущений, таких как:
• шок,
• стыд,
• злость,
• страх,
• ужас,
• горе,
• обида,
• безысходность,
• беспомощность,
• растерянность,
• одиночество,
• обреченность,
• жалость к себе и другим,
• ощущение запредельности переживания,
• желание исчезнуть,
• часто заторможенность,
• ощущение падения,
• отрыва.
Отделить эмоции от чувств, ощущения от эмоций, чувства от желаний в таком вихре довольно трудно, но и не нужно, наверное. Достаточно предполагать, что такой вихрь при вине возникает обязательно. Процентное соотношение чувств и рисунок их проявления может быть индивидуальным – это зависит от культуры и воспитания человека. От того, как трактуются разные эмоции в актуальном менталитете, настолько разрешено и насколько ритуализировано проявление вины в культуре. Где-то допустимо лишь покраснеть и опустить голову – при такой культуре выражения вины самые активные эмоции подавляются. Где-то необходимо падать в пыль и драть на себе одежду и волосы – в этом случае приходиться усиливать свои переживания стыда и страха.
ВВЧ: Попробуйте вспомнить какую-нибудь свою вину, погрузитесь в переживание и обратите внимание на то, как оно представлено в теле. Попробуйте связать ощущения с эмоциями, которые испытываете.
3. Экспрессия: мимика и пантомимикаДля мимики вины характерно застывшее выражение боли. Взгляд двигается снизу вверх, обязательны вегетососудистые реакции (побледнение, покраснение кожных покровов). Характерны глубокие вздохи, вся мимика в основном обращена внутрь себя, взгляд на собеседника мимолетный, даже если виноватый осмеливается смотреть на собеседника.
Телесно вина переживается как сильное напряжение пресса, спазм живота, сдавленное дыхание и шейный зажим. Это автоматические реакции, близкие к пассивной стрессовой реакции – дорсальному состоянию (С. Порджес) [45], – формирующие пантомимику вины.
Пантомимические проявления: закрывание лица руками, растирание шеи, голова уходит в плечи или опускается, возможны различные защитные жесты и позы, обнимание себя руками, покачивание корпусом с поиском опоры, мелкие бесцельные движения, кручение головой с целью расслабить шею, часто незаконченные жесты, причинение себя боли (удары кулаком, пощечины, царапанье ногтями) поза подчинения – с открытым «подставленным под удар» затылком (К.З. Лоренц) [33].
Здесь необходимо очень коротко разделить пантомимику стыда и вины. При переживании вины вся фигура человека скручивается как будто вперед в направлении к животу, открывая шею. Эта поза рассчитана на реакцию партнера (демонстрация оголенности уязвимых мест). При переживании стыда без вины, поза и движения отражают только внутренние переживания – человек может метаться, закрывать лицо руками, но не подставлять шею под удар.
При переживании хронического чувства вины возможно закрепление различного рода спазмов и зажимов в теле, затрудненное дыхание. Привычная сдавленная поза может порождать застойные проблемы с пищеварением, запор, камни в желчном пузыре, спазмы поджелудочной железы, проблемы с дыханием, сколиоз, мигрень.
4. Восприятие времени и мысли, возникающие при переживании виныКак и при любом шоковом переживании, в момент острого переживания вины меняется восприятие времени. Человек лихорадочно мечется между настоящим, прошлым и будущим. Ему кажется, что вина обесценивает прошлое, ставит крест на будущем и делает невыносимым настоящее. В результате самонаблюдение становится практически невозможным, но и со стороны наблюдать вину из-за этого довольно тяжело. В отличие от обиды, у которой есть довольно статичные моменты, переживание вины представляет собой бешеные скачки между самыми разными воспоминаниями, мыслями и состояниями. Актуальная вина заставляет человека вспоминать и прежние свои прегрешения, добавляя переживанию глобальности и фатальности.
В момент острого переживания вины человек испытывает гнев, злость, страх и ужас. Поэтому в самом начале основным содержанием мыслей становятся слова, оформляющие катастрофу, и ругательства в свой адрес.
На бешеной скорости в сознании проносятся, кружатся и скачут обрывочные фразы:
– «Катастрофа! Это все…»;
– «Нет-нет, пусть этого не будет…»;
– «Что ж я такой дурак, идиот и т. п.…»;
– «Лучше умереть…».
А через некоторое время эти мысли начинают перемежаться самообвинениями и горестными размышлениями:
– «Со мной всегда так»;
– «Я должен был это предусмотреть и предотвратить»;
– «Я все потерял, я сам виноват».
Естественно, содержание мыслей очень сильно зависит от культурного контекста, в котором сформирован человек.
POU STO Небольшое отступление: ругань может быть полезной! Или вредной. С точки зрения эффективности переживания вины хотелось бы, чтобы мысли в этот момент содержали не только обсценную лексику, которая помогает лишь сбрасывать энергию, но практически не проясняет ситуацию, не помогает пониманию. Перейти от матерных ругательств к содержательному самообвинению (от «какой же я!..» к «зачем же я так торопился?!») очень сложно – и когнитивно, и эмоционально. Чем дольше мы ругаем себя матом, тем меньше пользы и больше вреда приносит этот процесс. Матерные ругательства слишком обобщенные, слишком ритуальные, реакция на них слишком автоматическая, даже если мы ругаем себя сами. Поэтому приемлемые и понятные в самом начале процесса, когда нужно сбросить энергию ужаса и гнева, матерные ругательства и чудовищные обвинения становятся вредоносными, если используются долго, или если у человека нет других определений для себя. Иногда работа психолога состоит в том, чтобы расширить словарь ругательств клиента.
Диалог «Дура – не ворона»
Клиентка: Ну вот ты скажи, как можно было быть такой идиоткой?
Психолог: Не знаю. А ты что имеешь в виду?
Клиентка: Я имею в виду, что я дура, идиотка, тупая!
Психолог: Ты что, задачу не решила?
Клиентка: Нет, я деньги потеряла.
Психолог: Ну расскажи.
Клиентка: Два месяца назад мне босс велел билеты заказать и гостиницу. Он должен лететь в Эмираты на деловую встречу. Я заказала, все сделала. Идеальные варианты нашла, гордилась собой. А сегодня босс полез, смотрит, а там – вместо июня июль. Я билеты заказала на другой месяц. Теперь за свой счет все покупать, представляешь? И шефа жалко – так расстроился! (Плачет.)
Психолог: Да, засада.
Клиентка (со слезами, колотя себя по коленям кулаками): Вот же дура, дура!
Психолог: Я понимаю, что очень неловко. Но почему дура-то? Невнимательная просто.
Клиентка (зло): Хорошо – ворона!
Психолог: Вот «ворона» звучит немного лучше.
В этом примере замена одного слова на другое позволила клиентке перестать себя бессмысленно обижать и усугублять свое состояние, но если бы на месте обидных, но локальных и в данной ситуации применимых «дуры» и «идиотки» стояли бы матерные ругательства, к естественной обиде в результате самообзывания добавился бы стыд, неизбежный в сексуальном контексте[9]. И это усугубило бы ситуацию. Кроме того, матерные ругательства являются еще более обобщенными и непонятными, чем «дура» и «идиотка» и могут вызывать ощущение собственной монструозности, чудовищности, которое тоже не помогает пережить шок и горе от вины. (Подробнее о мате можно посмотреть у Л.А. Китаева-Смыка [29].) «Ворона» – все же более осмысленное и значащее обзывание.
5. Действия и поведенческие проявления виныНепосредственно после осознания собственной виноватости человек делает лихорадочные попытки вернуть все как было: мечется, старается оправдаться или застывает в состоянии дезориентации, демонстрируя основные стрессовые реакции, что еще раз доказывает шоковую природу вины (С. Порджес) [45].
– «Я сейчас все исправлю, все будет, как раньше, ты даже не заметишь разницы»;
– «Это не я, я случайно»;
– «Нужно позвонить, нет, лучше никому не звонить и подождать, нет, ждать нельзя, надо действовать…»;
– «Все пропало, ничего не исправить».
Когда первый шок проходит, лихорадочные действия сменяются более-менее осознанными и направленными на прекращение переживания (выход из вины), и далее все зависит от того, как человек привык действовать, как принято действовать в его окружении, и от того, какие цели ставит перед собой человек. Это могут быть:
• отказ от ответственности (не я, оно само);
• вытеснение события – отстранение, забывание;
• лишение его значимости, обесценивание («не обеднеет!»);
• самооправдание («у меня не было другого выхода»);
• перекладывание вины и ответственности на другого («это они меня подставили, не объяснили, толкнули…»);
• самонаказание («куда тебе в отпуск после такого»);
• принесение извинений;
• предложение возмещения;
• расчеловечивание того, кто пострадал от действий («они боли не чувствуют»);
• расчеловечивание себя («я генератор неприятностей»).
ВВЧ: Знакомы ли вам эти проявления переживания? И в чем ваши переживания отличаются от написанного здесь?
Глава 6. ДИНАМИКА ПЕРЕЖИВАНИЯ
POU STO Вина появляется в момент столкновения с реальностью, отчасти созданной и нашими действиями. Примем за рабочее следующее определение реальности, актуальное для того, к чему мы обращаемся в этой книге: реальность – это процесс и результат постоянного тестирования взаимодействия внешнего и внутреннего. Под внутренним в данном случае мы понимаем субъектное действующее начало в человеке, включающее и сознание, и бессознательное, и тело. Эта реальность всегда переживается как относящаяся к людям или к тому, кто ее переживает (осознает), т. е. к «человеческому», к «своим». Если виноватый склонен расширять понятия «свои» и «человеческое», то эта реальность возникновения вины может включать и все живое – животных, растения, весь живой мир вокруг; неживое – произведения искусства, механизмы (машина, которую долго не мыли), камни, старые вещи (игрушки, «счастливая одежда») и т. п.; идеи (прежние убеждения и т. п.) и даже трансцендентное (духи, божества, небесные покровители и т. п.).
Необходимо небольшое отступление об экзистенциальных данностях. Наше понимание экзистенциальных данностей основано на взглядах Дж. Ф.Т. Бьюджентала, изложенных, в частности, в книге «Искусство психотерапевта» [19]. Мы понимаем экзистенциальные данности скорее как константы, определяющие наше бытие в мире, а не как проблемы, требующие решения (И. Ялом) [66]. Более подробно наш взгляд на экзистенциальные данности мы изложили во Введении.
Здесь мы не можем подробно останавливаться на природе и динамике экзистенциального кризиса. Необходимо лишь упомянуть, что экзистенциальный кризис представляет собой процесс из нескольких шагов, включающий осознаваемые и неосознаваемые действия и состояния. Экзистенциальным мы называем кризис, вызванный столкновением непосредственно с экзистенциальной данностью. Принято считать, что кризис вызывается столкновением с одной данностью. Наши наблюдения показывают, что в любом экзистенциальном кризисе мы имеем дело со всеми данностями сразу. Реальность на данности не делится, а дается нам сразу во всей своей полноте. Точно так же как не делится на конкретные характеристики (атмосферное давление, индекс солярности, сила тяжести, и так далее) среда, в которой мы существуем. Мы обращаемся к данностям по отдельности только в исследовательских целях, для удобства изложения.
В процессе жизни человек переживает не только экзистенциальные, но и обычные кризисы, связанные с недостатком ресурсов. Обычные кризисы разрешаются при добавлении ресурса (энергии, времени, действующих лиц, умений и навыков). А экзистенциальный кризис разрешается только при изменении системы конструктов «я-и-мир» конкретного человека.
Этапы (фазы) переживания вины (не всегда они есть все, и не всегда в таком порядке)
1. Собственно действие, нарушающее правила.
2. «Пребывание в невинности» – отрицание возможности собственной вредоносности, основанное на устаревшем, упрощенном образе реальности, который ощущается как несомненный. (ссылка Ролло Мэй «Сила и невинность»)
3. Оценка действия или его результатов другими людьми как нарушение правил.
4. Встреча с реальностью. Разрушение прежнего образа реальности. Удар по образу «я». Переживание первого экзистенциального кризиса от столкновения с реальностью и переживание себя субъектом. Встреча с данностью «укорененности».
5. Оформление переживания как вины.
6. Экспрессия вины, включая безотчетные первоначальные действия.
7. Осознание фатальности произошедшего. Второй экзистенциальный кризис от встречи с экзистенциальной данностью «конечность».
8. Одинокая пауза. Принятие, смирение или отказ признавать реальность. Обида. Обращение с новой реальностью (отказ или принятие). Работа механизмов психологической защиты.
9. Анализ ситуации в соответствии с результатами одинокой паузы. Выбор позиции – субъектной или объектной. Третий экзистенциальный кризис – от столкновения с данностями «возможность выбора» и «способность действовать и не действовать».
10. Вторая одинокая пауза. Четвертый экзистенциальный кризис от столкновения с данностью «отдельность-но-связанность», состоящий в необходимости определить на данный момент, насколько я человек, нужно мне соединяться с другими людьми или, наоборот, разъединяться.
11. Выход из вины – всегда действие (наказание, извинение, искупление, оправдание).
Мы решили не описывать подробно каждый из этих этапов, а показать их на примерах. Мы понимаем, что описываем очень скрытый процесс, соответственно, не каждый узнает собственные переживания в наших описаниях – и будет прав. Наша задача – создать первичное каркасное описание, которым можно будет пользоваться в работе, хотя бы по частям.
Пример «Особая сковородка»
Представим себе, что мы гостим в доме своих друзей. И как-то, проснувшись раньше хозяев, не желая их беспокоить, но испытывая сильный голод, собираемся приготовить завтрак самостоятельно. Мы не задумываемся и не сомневаемся – хозяева предоставили нам в этом смысле полную свободу. Решив приготовить себе яичницу, мы долго ищем сковородку и наконец находим. Успешно жарим себе омлет, на запах которого спускаются хозяева. И тут выясняется, что на этой сковородке готовить было нельзя, т. к. это была новая сковородка и она не прошла необходимых подготовительных процедур. И, приготовив на ней омлет, мы ее безнадежно испортили.
Рассмотрим на этом примере динамику переживания вины. В данном случае все условия возникновения вины соблюдены (см. выше).
1) Причиной всей ситуации стала ошибка коммуникации – а именно, упрощенный образ ситуации – и у нас, и у хозяев. Хозяева, предоставив нам полную свободу действий, не ограничили нас в отношении новой сковородки, решив, что она нам не понадобится. А мы, получив широкие полномочия, целиком положились на слова хозяев и на свою способность опознать неписаные ограничения. Мы посчитали, что если не собираемся бить посуду и пачкать обои, то наши действия вреда не нанесут. Такая уверенность в собственной невредоносности и благостности хорошо описывается термином «невинность», в понимании Р. Мэя[10] [37].
2) Руководствуясь своим невинным взглядом на эту ситуацию, мы совершаем действие (используем сковородку по прямому назначению).
3) И тут выясняется, что это было нарушение правил, нам об этом сообщают – что как раз эту сковородку брать было нельзя, и что мы нанесли хозяевам ущерб – то есть мы понимаем, что ошиблись в оценке себя и своих способностей, наша невинность оказалась подпорчена.
4) В результате мы испытываем шок – от ощущения лишения невинного взгляда на ситуацию наши представления о себе и окружающем мире разлетается вдребезги, мы переживаем первый экзистенциальный кризис (столкновение с данностью «укорененность» и переживание себя субъектом), связанный с тем, что мы – такие невредоносные, такие аккуратные, так тщательно соблюдающие все правила – их нарушили. Новая реальность состоит в том, что мы нарушили правила. В этот момент мы можем начать сопротивляться этой новой реальности – говорить себе, что мы не знали; что новые сковородки – это ерунда, что ими можно пренебречь, и так далее, испытывая при этом обиду, гнев, возмущение, некоторую дезориентацию.
5) Затем, будучи все же адекватными людьми, мы принимаем эту новую реальность, признаем себя субъектом нарушения правил и начинаем испытывать вину.
6) Далее, как мы описывали выше, мы судорожно пытаемся все исправить и делать «как было» – предлагаем помыть сковородку, купить новую, чувствуем себя ужасно, извиняемся, краснеем.
7) Но видя, что хозяева продолжают переживать потерю драгоценной сковородки и не готовы немедленно начать нам улыбаться и успокаивать нас, мы переживаем второй экзистенциальный кризис (от встречи с данностью «конечность»), осознавая, что ничего уже не изменить. Вред уже нанесен, «вернуть все, как было», не получится.
8) В этот момент наша активность падает. Мы перестаем суетиться и начинаем осознавать и переживать вину внутри себя.
9) Через какое-то время мы переходим к анализу ситуации, начиная размышлять, кто виноват, как так получилось и что теперь делать. Исходя из того, посчитали ли мы себя действительно виноватыми или жертвой обстоятельств, мы переживаем еще один – третий кризис, связанный с данностью «выбор» – мы выбираем свою реакцию, и свою последующую роль. Если мы сочли себя жертвой обстоятельств (выбрали объектную позицию), то переживание вины заканчивается здесь, сменяясь обидой, горем, беспомощностью и другими преимущественно «объектными» переживаниями[11]. Если же мы решили, что мы субъект и события произошли по нашей вине, то переживание вины продолжается дальше, переходя в свой пик.
10) В этот момент мы сталкиваемся с данностью «отдельность-но-связанность», фактически мы решаем вопрос о своей принадлежности к «своим». В соответствии с принятым решением мы строим стратегию и тактику разрешения ситуации. Мы можем решить вопрос в пользу связанности, и тогда дальнейшие действия будут направлены на осознанное восстановление отношений со «своими», на доказательство своей человеческой, «свояческой» природы – на извинение, искупление или совместное изменение правил. Если мы решим, что наши действия были правильными, законными, то мы направим усилия на изменение законов в свою пользу (докажем, что прежде чем пускать гостей в дом, драгоценные сковородки надо убирать в недоступное место или самим готовить гостям завтрак). Мы можем выбрать «отдельность», и тогда наши усилия будут направлены на доказательства своей правоты или на выход из общности с теми, перед кем мы виноваты.
11) Сделав этот глобальный выбор, мы, исходя из собственных особенностей, из ситуации, из того, насколько велика цена и редкость сковородки, насколько у нас близкие отношения с хозяевами, выбираем выход из вины, который всегда является действием, решением и обращен в будущее. Мы можем решить никогда больше ни к кому не ездить в гости с ночевкой – это самонаказание. Мы можем решить принести развернутые извинения хозяевам, предложить им возмещение ущерба, или искупление своей вины. В данном случае возмещением ущерба будет покупка такой же сковородки, а искупление вины будет зависеть от множества факторов, включающих погашение неурядицы, утешение хозяев и всех присутствующих. А можем все же решить, что мы – из разных «стай», а может быть, даже принадлежим к разным видам.