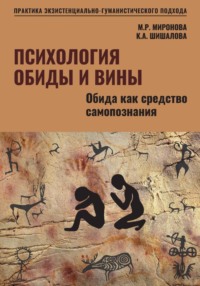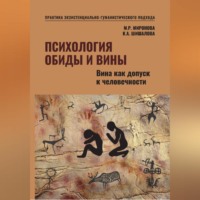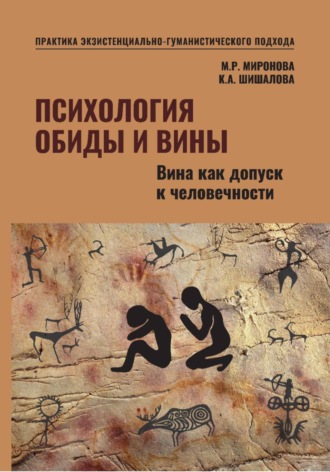
Полная версия
Психология обиды и вины. Вина как допуск к человечности Том 2 Миронова М.Р. Шишалова К.А.
Психолог: А дальше?
Клиентка: Вот именно, что ничего дальше. Никакой радости не было, только чувство вины почему-то и неловкости.
Психолог: Перед кем?
Клиентка: Перед грымзой и почему-то перед теми ребятами, у которых подписи не брали. Они сами себя неловко чувствовали, и мы тоже их сторонились, хотя все понимали, что это правильно было, и все равно.
Психолог: А еще перед кем?
Клиентка: Я не знаю, как сказать, только замах у нас был рублевый, а результат нулевой. Митинговали, все по-взрослому, петиция, подписи, а толку-то? Грымза все равно нам предмет завалила. Весь класс потом к репетиторам ходил. Весь материал за 10-й класс пересматривали. Так что перед собой, наверное, вина, не знаю.
Психолог: И ты теперь ни во что ввязываться не хочешь?
Клиентка: Без толку все это, только отношения испорчу и виноватой себя буду чувствовать. Даже если формально ни в чем не буду виновата.
Психолог: Да, с твоей виной явно надо разбираться, а то кто его знает, чего твой начальник еще от тебя потребует.
ВВЧ: Какие функции выполняет переживание вины для героини этого диалога? Наш вариант найдете в приложении.
Глава 8. «ОСОБЫЕ ВИНЫ», НЕ СВЯЗАННЫЕ С ДЕЙСТВИЕМ, НАРУШАЮЩИМ ПРАВИЛА
POU STO Вина – феномен не только многообразный, но и очень сложный. Наши деления вины на разновидности, виды и так далее, вполне условны. Мы описываем разные виды вины фактически только для удобства чтения и понимания. В каждой разновидности можно найти признаки другой разновидности, другого вида вины, никаких жестких границ между ними, на наш взгляд, нет. Кроме того, не будем забывать, что наше представление об эмоциях как об отдельных и даже самостоятельных феноменах относится к реальности переживания, как коробка с красками относится к картине. В реальности все перемешано и направляется смыслом, который у каждого свой.
Мы называем особой ту вину, которую принято считать и называть иррациональной. Это та вина, что сопровождает ситуации, в которых не только не было прямых вредоносных действий, но и не было возможности их совершить. Особые вины практически всегда перемешаны со стыдом. Самые известные и распространенные особые вины это:
• вина за утрату,
• вина выжившего,
• вина за отсутствие всемогущества,
• вина за существование,
• вина за чужое страдание,
• особая родительская и детская вина,
• вина за особую телесность,
• коллективная вина.
Список особых вин можно продолжать до бесконечности. Туда входят и вина свидетеля, и вина за вред, причиненный собственному телу, и вина за «неверный выбор» в ситуациях иллюзии выбора, и множество других – они возникают по мере того как меняется наша жизнь, отношения с окружающим миром и, соответственно, наша субъектность. Мы коснемся только самых распространенных.
1. Условия формирования особой вины и ее отличительные признакиНет действия, но есть переживание субъектности. То есть человек, не совершивший вредоносное действие, не имевший возможности совершить правильное, хорошее действие, ощущает себя так, будто он совершил вредоносное действие или имел возможность совершить хорошее, то есть предотвратить вред, но не сделал этого.
Есть расщепление, то есть человек мучается от того, что спорят и объявляют друг друга чужими его внутренние части, как правило, представляющие разные упрощенные образы идеальной ситуации (например, «супермен» и «марионетка»).
Есть иллюзия выбора – в ситуациях, когда человек временно лишается субъектности – становится физическим объектом (падает на кого-то, например) или точкой приложения сил, несопоставимых с ним (природы, времени, уголовного права и т. п.)
По-видимому, особая вина является в том числе и действием by proxy[13], стабильным и постоянным выражением данности связанности.
2. Вина за утратуВ первой части книги, когда мы обсуждали обиду, мы немного касались этой темы (диалог «Кошелек-талисман»). С точки зрения рационального взгляда вина за утрату по большей части непонятна и необоснованна. «Законно» ругать и винить себя мы можем, только если что-нибудь потеряли («растяпа») или сломали («руки-крюки»). Но в большинстве ситуаций утраты мы является пострадавшей стороной и переживание чувства вины необъяснимо – «это у меня украли, у меня отобрали, меня бросили, у меня умер близкий человек». Казалось бы, в этих ситуациях естественно чувствовать обиду и горе, и их мы тоже переживаем, но вместе с ними мы почему-то переживаем вину: странную, необъяснимую и от этого еще более неприятную.
Диалог «Проданное детство»
Психолог: Ну как твои дела с наследством? Удалось?
Клиентка: Да, все продали.
Психолог: Это хорошо или плохо?
Клиентка: Сама не знаю, грустно как-то, хотя вроде все правильно (пауза). Ну не переезжать же мне туда?!
Психолог: Ты чего кричишь? Я вроде еще ничего не сказала.
Клиентка: Да не знаю я! Плохо мне почему-то. Вспоминается, как мы там жили, как мы там в прятки играли, как я стены красила, как пахло на кухне бабушкиной выпечкой… (Плачет.)
Психолог: Жалко?
Клиентка: Я даже не знаю… И жалко, и как-то плохо, какая-то тяжесть в животе, на душе неспокойно, как будто что-то плохое сделала.
Психолог: Плохое?
Клиентка: Да, вот неправильное что-то, как предательство вроде (пауза). Ну не могла я этот дом оставить! Нам деньги нужны, и наследники не только мы! Ну не могла!
Психолог: Да я не возражаю
Клиентка: Я сама себе возражаю! Чувство такое, будто собаку на улицу выгнала…
Психолог: Виноватой себя чувствуешь?
Клиентка: Да не в чем мне, а все равно чувствую. Ну все ведь правильно, ну как же так… Пустота какая-то, больно.
Психолог: Так утрата у тебя, горе.
Клиентка: Да про горе-то я понимаю, но я же сама хотела его продать, там же жить все равно нельзя, а деньги очень нужны, как раз на то, что я хочу, ты же знаешь.
Психолог: Ты что, оправдываешься?
Клиентка: Но я же ничего плохого не сделала. Но почему-то хочется объяснять и оправдываться все время, всем объяснять. Ну почему нельзя сделать так, чтобы и деньги, и ничего не продавать, чтобы не нужно было избавляться и лишаться! (Пауза.) Но мне же этот дом не нужен. Ну почему я себя такой виноватой чувствую? Как будто от того, что я его продала, все, что там было, как-то изменилось… То ли не мое стало, то ли неважное.
Психолог: Оторвалось?
Клиентка: Да (плачет). Как из-под ног выскочило… Но оно же было!
Психолог: Было. Только сейчас ты на это со стороны смотришь. На то, что было. Вспоминаешь уже как прошедшее.
Клиентка: Да, похоже. Пока не продали, все казалось – можно вернуться, все заново пережить.
Психолог: Да, действительно, вернуться уже не получится, но можно вспоминать (пауза). Чтобы не сомневаться, что было. Чтобы можно было опираться.
ВВЧ: С какими экзистенциальными данностями повстречалась, на ваш взгляд, женщина из этого примера?
Можно приводить десятки примеров такого рода вины, когда утрата чего бы то ни было или даже просто изменение каких-то важных процессов в нашей жизни вызывает чувство вины. Может быть, поэтому мы так не любим изменения. Потому что любое изменение – это утрата чего-то прежнего, что жило с нами и было нашим.
Мы не будем касаться вины, сопровождающей более обширные и тяжкие утраты, нам важно сказать только, что любая утрата сопровождается чувством вины. Рано или поздно это выходит на первый план. И очень часто, скорее поздно, чем рано – тогда, когда мы уже мы не знаем, что делать с этой виной, и откуда она пришла. Такие вины редко растворяются сами, скорее они уходят в бессознательное, чтобы в какой-то момент всплыть и послужить топливом в похожей ситуации переживания вины.
На наш взгляд, вина при утрате указывает на то, что мы потеряли что-то важное, что-то свое. Что-то, что переживается важной частью нашего существования. Иногда только переживание вины при утрате указывает на то, что мы присвоили утраченное, что оно было «своим»[14]. Видимо, при утрате нарушается правило «свое не бросать», «своих не терять». И мы испытываем вину не за действие, а за сам факт утраты. Как нам кажется, у вины при утрате есть еще одна функция – заставить нас что-нибудь сделать. Ведь выходом из вины, как правило, является действие. Действия могут помочь выйти из ступора, из пассивного переживания горя. Возможно, найдутся и другие полезные функции у этого «иррационального» переживания.
3. Вина выжившегоСловосочетанием «вина выжившего» мы обозначаем особую вину, которая возникает у всех нас, когда умирают наши близкие и знакомые. Такая вина тем сильнее, чем сильнее мы отождествляем себя с тем, кто ушел. Чем больше нас касается эта смерть, тем острее наше переживание вины. Эта разновидность особой вины хорошо знакома специалистам. В отличие от всех остальных видов вины – с ней начали работать довольно давно. О ней начали много говорить и даже искать способы с ней справиться после Второй мировой войны. В нашей стране такого рода переживаниям посвящено огромное количество литературных произведений, а психологи-консультанты начали с ней работать только после афганской войны (М.М. Решетников) [46]. В США эта работа началась гораздо раньше, психологи разработали специальные методики реабилитации еще для ветеранов корейской и вьетнамской войн. Вина выжившего мучает не только ветеранов войны, смерть близких случается с нами и в обычной жизни – мы теряем родителей, друзей, коллег, сверстников. Каждый раз при таких потерях мы ощущаем этот особый вид вины за то, что другой человек, такой же, как я, уходит, а я остаюсь жить. Такая вина несет в себе, помимо уже описанных экзистенциальных кризисов, еще и дополнительное столкновение с данностью «конечность». Столкновение с этой данностью, как правило, вызывает не только страх, но и пересмотр своей жизни с точки зрения осмысленности и ценности. Такая вина не дает нам забыть о конечности собственной жизни. Против вины механизм психологической защиты работает хуже, чем против страха, позволяя переживанию дольше обращать нас к реальности. Но все же в конце концов защиты срабатывают. И через некоторое время после столкновения со смертью «своих» или «таких же, как я», вина отходит в тень, довольно часто оставляя нам непонятные изменения поведения, причем иногда опасные: разного рода тревожные расстройства, цинизм, мизантропия, избегание близких отношений, и т. п, а иногда довольно безобидные.
Диалог «Балагур»
Психолог: Ну как дела?
Клиент: Да так, знаешь ли, с кондачка и не расскажешь сразу. А ты: с места – в карьер! Раз, два и – в дамки.
Психолог: Извини, я давно хотел спросить, откуда у тебя эти обороты появились? Ты в последнее время так и сыплешь этими пословицами, поговорками.
Клиент: Да? А мне кажется, я все время так говорил (пауза). И отец так говорил. Он, правда, больше матом, у него красиво выходило. Я, кстати, себя тоже на этом ловить стал. На совещании все хочется для ясности свои предложения малым шкиперским загибом подкрепить. Начальница на меня уже коситься стала… У меня отец боцманом по Волге ходил.
Психолог: Отец?
Клиент: слушай, я тебе не рассказывал… А ить правда. Мы все о работе да о работе, об жизни и поговорить не с кем. Не говоря уж об смерти.
Психолог: Ну вот опять.
Клиент: Да, это цитата. Фильм такой был «В огне брода нет». Отец его любил. Он полгода назад умер.
Психолог: Мои соболезнования. Ты не говорил об этом.
Клиент: Не говорил. Как-то к слову не пришлось…
Психолог молчит.
Клиент: Ты понимаешь, он от нас ушел, когда мне 10 лет было. Отношений у нас, считай, не было. Он жил в том городе, из которого я приехал. Я к матери когда приезжал, с ним виделся пару раз, ну выпивали, сидели, слушал я, как он говорил. Все думал, ну вот… Да не знаю, о чем я думал. Я как раз не мог себе объяснить, чего я к нему хожу. Он красиво говорил. Он с Севера был, и у него такой говорок был, и сыпал всегда пословицами, поговорками. Меня это раздражало. А сейчас я сам стал так говорить. Каждый раз, как пословицу произношу, я его вспоминаю. Не знаю, чувство такое странное… (Пауза.)
Психолог: Какое?
Клиент: Не знаю. Такое… эхо как будто.
Психолог: Пустота что ли?
Клиент: Ну как в пустой комнате. В которой, если разговариваешь, то она вроде и не пустая.
Психолог: Ты его слова повторяешь? Вместо него?
Клиент: Выходит, так. Мы ведь так и не поговорили. Он ведь не старым человеком умер. Может, ему помощь нужна была… (Пауза.) Да нет, не принял бы он помощи, не мог я ничего сделать. Но вот теперь его слова повторяю. Хоть так.
Психолог: Как искупление?
Клиент: Ну немножко.
У персонажа этого диалога чувство вины выливается в воспроизведение стиля разговора умершего отца. Феномен достаточно безобидный, но неприятный своей непонятностью, бесконтрольностью и стихийностью. Вина выжившего, безусловно, может принимать и более жесткие формы. Выжившим кажется, что они обязаны что-то сделать для умершего. Устроить самые пышные похороны, наказать врачей или соседей, или еще кого-то, кто кажется виноватым в смерти близкого, устроить музей в комнате умершего, не замечать живых вокруг себя, не радоваться, не жить. Эта вина остается с выжившим до тех пор, пока не разрешатся экзистенциальные кризисы, лежащие в основе этой вины.
ВВЧ: Знакомо ли вам понятие «долг перед умершим»? И с какими его формами вам приходилось сталкиваться?
4. Вина за отсутствие всемогуществаСама по себе формулировка «вина за отсутствие всемогущества» выглядит абсурдной, но это именно то, что мы испытываем в определенных ситуациях и обстоятельствах. Эти обстоятельства и ситуации не так уж редко встречаются. Например, с определенного момента и при определенных обстоятельствах такого рода вину испытывают почти все родители. Вспомните, как часто вы слышали или сами произносили фразу: «Мне нужно было это предвидеть», «Я ведь мог сообразить заранее», «Мне просто нужно было постараться», – в отношении болезней, травм, в общем, любых неприятностей, которые выпадают на долю детей. Родители считают, что они должны предусмотреть все. А потом терзаются виной, когда дети терпят неудачи, падают, ранятся, попадают в страшные ситуации и так далее. Переживание вины за отсутствие всемогущества составляет немалую часть родительства – в самом широком смысле этого слова. Но вину за отсутствие всемогущества переживают и дети.
Диалог «Немолодая мама»
Психолог: Ну что тебе в университете ответили?
Клиентка (уныло): Ответили, что в любой момент ждут меня на собеседовании в Москве.
Психолог (улыбаясь): Ооо, поздравляю! А ты боялась, что не пригласят.
Клиентка (так же уныло): А толку? Я все равно не поеду.
Психолог: Вот те раз! А почему?
Клиентка (вяло): Да ты что! Как я маму оставлю?
Психолог: А почему маму нельзя оставлять? Что-то случилось?
Клиентка (так же уныло): Она без меня пропадет, вообще не справится.
Психолог: Давай поподробнее, я ничего не понимаю!
Клиентка (раздражаясь): Что тут непонятного? Маме без меня будет плохо.
Психолог: Ну, наверное, ей как-то придется привыкать жить без тебя, здесь. Она же переезжать не собирается?
Клиентка (рассудительно): А я не хочу, чтобы ей было плохо. Я хочу, чтобы ей было хорошо.
Психолог: А мамино «хорошо» только от тебя зависит?
Клиентка: Ну… Может, и не только от меня.
Психолог: А мама-то что говорит по поводу твоего переезда?
Клиентка: Да мама, конечно, скажет: «Езжай!» Но я же знаю, что ей плохо будет.
Психолог: Слушай, ты меня запутала. Если мама скажет: «Езжай», – значит, она как-то представляет, как она будет без тебя жить?
Клиентка (горячо): Ну конечно, она вообще себя забросит, и будет только работать! Если бы не я, она бы вообще с работы не уходила. А это вредно, в ее-то возрасте. Она уже немолодая!
Психолог: Сколько лет маме-то?
Клиентка: 43!
Психолог закашливается.
Клиентка: Да! Ей гулять надо, спортом заниматься. А если я с ней в фитнес-клуб не пойду, то она и пропускает.
Психолог: Может, она другую какую-то компанию найдет?
Клиентка: Ой, я сколько раз уже ее знакомила! Вот если бы она замуж вышла, я бы спокойно уехала.
Психолог: Ну что, по-быстрому выдаем ее замуж, и ты едешь учиться?
Клиентка смеется. Пауза.
Клиентка: Ты понимаешь, мне очень хочется, чтобы ей хорошо было, она столько намаялась с отцом – и с его пьянством, и с его болезнью, и со смертью, в конце концов. Мне так хочется, чтобы у нее все хорошо было, чтобы она счастливая была.
Психолог: Я понимаю. Только это не всегда в наших силах – сделать счастливыми тех, кого мы любим.
Клиентка: Вот это-то и страшно. Я не смогу в Москве счастливой быть, потому что буду чувствовать себя все время виноватой.
Психолог: Из-за того, что мама несчастна?
Клиентка: Да.
Психолог: Ну не в твоих же силах такие вещи устраивать.
Клиентка: Я понимаю, и все равно чувствую себя виноватой.
Психолог: Слушай, ну если ты кого-то любишь, ты всегда хочешь, чтобы этот человек был счастлив, но не всегда можешь это обеспечить. Просто потому, что силы твои ограничены.
Клиентка (обиженно): Это твои ограничены! А я все равно ее не оставлю! Иначе загрызу себя! (Плачет.) Что же мне делать?!
ВВЧ: Как формулируется внутренняя норма у нашей клиентки из этого примера, которую она нарушила бы, уехав учиться в Москву?
Каждый из нас может вспомнить десятки случаев переживания вины за то что не успел, не смог, не получилось: не побежал быстрее, не мог сообразить, не мог вовремя подставить руку, плечо, не смог сдержаться. Во многих таких случаях речь идет чаще всего о вине за отсутствие всемогущества, и переживается такая вина довольно тяжело. Подробнее об этом ниже.
5. Вина за существованиеМожно сказать, что этот вид вины относится к системообразующим факторам, т. е. к тем, что формируют саму личность человека. Человек, обладающий таким складом личности, не чувствует вины. Но все время ведет себя так, будто он виноват. Можно даже сказать, что вина и связанные с ней действия составляют основное содержание его жизни. Здесь мы только проиллюстрируем этот феномен.
Диалог «Извините, пожалуйста»
Клиентка: Извини, пожалуйста, задержалась! Там человек так машину поставил, что мне не выехать было. Пока я ему говорила отъехать, пока там всех остальных успокоила – время прошло.
Психолог: Ты ж предупредила, все нормально. Садись.
Клиентка: Ой, извини, я сначала руки вымою (выходит, возвращается). Ну извини, пожалуйста, за все хваталась, пока с машиной разбиралась, руки вроде вытерла, но хотелось вымыть.
Психолог: Ну понятно, все нормально.
Клиентка: Как нехорошо получилось, опять опоздала, такой виноватой себя чувствую.
Психолог: Ты же уже извинилась.
Клиентка: Но мне кажется, что ты на меня сердишься, я прямо даже уже не знаю, как сказать.
Психолог: О чем?
Клиентка: Да мне кажется, что вот всю эту историю с парковкой моей дурацкой ты считаешь глупостью, что я не должна была так поступать.
Психолог: Слушай, я еще ничего не понял и еще ничего не считаю!
Клиентка: Ну вот опять я заторопилась, я всегда так тороплюсь, это так плохо…
Психолог: Слушай, хорош себя обвинять!
Клиентка: А я что, себя обвиняю?
Психолог: Ну смотри, ты уже минут 15 беспрерывно извиняешься!
Клиентка: Ну да, это глупо, извини.
Психолог: Да что ж такое!
Клиентка: А, что, опять? Ну я больше не буду.
Психолог: Ты все время чувствуешь себя виноватой?
Клиентка: Да нет! Но мне все время кажется, что все на меня сердятся, что всем неудобно со мной, я такая неловкая, несуразная.
Психолог: Что-то я не замечал.
Клиентка: Ты просто мало меня знаешь.
Психолог: Подожди, ты сейчас опять начнешь!
Клиентка: Да (вертится в кресле, поправляет прическу, переставляет ноги).
Психолог: Тебе неловко?
Клиентка: Да, мне хочется продолжать извиняться. У меня тяжелый случай, да?
Психолог (улыбается): Разберемся.
ВВЧ: Есть ли среди ваших знакомых такие люди? Легко ли с ними общаться?
6. Вина за чужое страданиеПо большому счету, вина за чужое страдание – это вина за беспомощность, за бездействие в ситуациях, когда никакие наши действия и не предполагаются. Случается такое, что мы оказываемся просто наблюдателями чужого страдания, не имея никакой возможности как-то его облегчить.
Безусловно, чужое страдание вызывает у нас сходные эмоции (страдание) за счет механизмов эмпатии, сопереживания и сочувствия (Р. Сапольски, С. Порджес) [49, 45]. Но возникает еще и переживание чувства вины. Эта вина является вариантом вины за отсутствие всемогущества, но осознается и переживается по-другому – как вина за неспособность прекратить все страдание в мире. При этом, переживая ее, мы вполне понимаем абсурдность такой постановки вопроса. Но вина все равно остается. Видимо, как допуск к человечности, как показатель того, что мы все связаны жизнью, планетой, мирозданием[15].
Диалог «Одинокий пес»
Психолог: Ты что такой помятый, не выспался?
Клиент: Да соседка, зараза, собаку завела, а самой целыми днями дома нет. Вот я с семи утра и слушаю, как за стеной страдает животина.
Психолог: Скулит?
Клиент: И воет, и плачет. Жалко, сил нет. И сделать ничего не могу.
Психолог: Очень тебе сочувствую, прямо очень. А соседка знает, что пес воет?
Клиент: Знает, я уже к ней ходил, разговаривал. Не помогло.
Психолог: А что она может сделать? На работу не ходить?
Клиент: Да не знаю я, что она может сделать. Ничего она не может тоже. Зачем собаку заводила? Вообще…
Психолог: А ты у нее спрашивал, не голодный ли он? Все там у него есть-то?
Клиент: Да не в этом дело. Сыт он и здоров, я его видел. Но нам вот тут все объясняют, что собаки уверены, что хозяин навсегда ушел. Тоскует. А с этим-то что сделаешь?
Психолог: Тоскует. Зато радуется потом. Может, он привыкнет? Щенок еще?
Клиент: Да, щенок. Думаете, подрастет, и это пройдет у него?
Психолог: Ну надежда есть на это.
Клиент: А мне-то что делать? Как от этого чувства вины избавиться? Что рядом со мной животина страдает, а я сделать ничего не могу.
Психолог: А ты что – хотел бы оставаться спокойным, равнодушным?
Клиент: Да нет, я же нормальный живой человек.
Психолог: Значит, будешь реагировать на чужие страдания. Другое дело, что есть разница между сочувствием и виной. Если можешь что-то сделать – погулять, или еще что – значит, надо это сделать. Если не можешь – значит, надо напоминать себе, что сделать не можешь, и просто сочувствовать.
Клиент: Небогатый выбор.
Психолог: Какой есть. А еще – посоветуй соседке котенка завести. Если поладят – выть перестанет.
ВВЧ: А как вы справляетесь с подобными ситуациями? Что вам помогает?
7. Особые родительская и детская винаНадо сказать, что родительская и детская вина по определению являются особыми, потому что почти всегда содержат в себе компоненты, не связанные с действием или бездействием, нарушающим правила. Быть родителем и быть ребенком – значит принадлежать роду, то есть эти роли изначально предполагают ограничение субъектности и особую идентичность. Субъектность родителя и ребенка существует в рамках описания поведения персонажей «Хороший Родитель» и «Хороший Ребенок» (Э. Берн) [14] и регулируется прописанными там «правилами». А особая идентичность определяется внутренним ощущением совпадения своего поведения с этими описаниями – насколько я совпадаю с тем самым «Хорошим Родителем» или с «Хорошим Ребенком». Насчет происхождения этих персонажей существует несколько теорий (разные течения в психоанализе, юнгианский анализ, транзактный анализ, психосинтез, диалог голосов и другие). Соответственно теориям, поведение и функции этих персонажей (роли) и описываются по-разному. Содержание этих ролей чрезвычайно сильно зависит от культуры, субкультуры, местности и семьи, которым принадлежат люди-носители персонажей. Дискуссия по поводу того, как образуется набор правил и предписаний, описывающий поведение этих персонажей, уже занимает многие тысячи томов, в эту книгу она не поместится. Нам надо только отметить, что почти все авторы сходятся на том, что персонажи «Хороший Родитель» и «Хороший Ребенок» содержат в себе части коллективного и личного бессознательного, а также ранний детский опыт.
И все же среди особых по определению родительских и детских вин есть еще более особые. Зачастую их возникновение связано с изначальной невозможностью хорошо исполнять роль родителя и ребенка.
Диалог «Двигатель»
Психолог: Ну как, к врачу сходили?