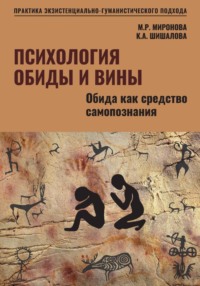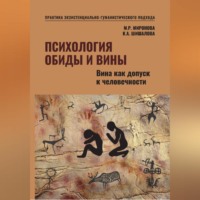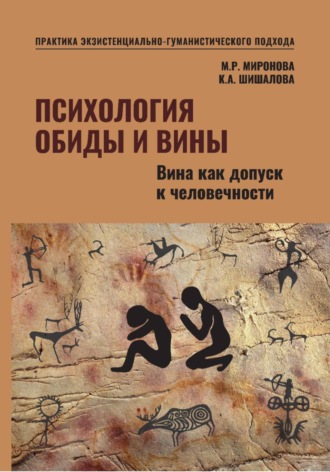
Полная версия
Психология обиды и вины. Вина как допуск к человечности Том 2 Миронова М.Р. Шишалова К.А.
Клиентка начинает плакать.
Психолог: Что такое? Что-то новое обнаружили!?
Клиентка: Ничего нового, все то же самое!
Психолог: (выдыхает) Слава богу! А то я уж подумала, еще что-нибудь нашли.
Клиентка: Да какая разница? Я и так ничего не успеваю. Кучу проблем просмотрела, вовремя не диагностировали, теперь все это в разы сложнее восстанавливать. Надо было на врача учиться, а не вот это все. Тогда бы могла вовремя дочке помогать.
Психолог: Ага, и переучивалась бы каждый год. Она ж у тебя орфанник[16]! На них, во-первых, никто не учит, а во-вторых, системы страдают разные, ты ж каждый раз в трех отделениях лежишь с ней. И наблюдаетесь вы в разных центрах в течение года.
Клиентка: Ты это врачу объясни нашему! Она как начнет спрашивать, что делали, а что нет – и оказывается, что только часть назначений выполнена, потому что только 24 часа в сутках и только 7 дней в неделе. А я еще работаю. И вообще, я же одна с ней.
Психолог: Ты перед кем оправдываешься?
Клиентка: Я не оправдываюсь! Но ты пойми: и массаж, и процедуры, и психолог, и нейрофизиолог, и ЛФК, и все исследования, анализы плюс комиссия по инвалидности…
Психолог: Ты оправдываешься. (Пауза.)
Клиентка: Ну так а кто виноват кроме меня? Это же мой ребенок – мне и отвечать.
Психолог: За что? В чем ты виновата?
Клиентка: В том, что такого ребенка родила. Со всеми несовершенствами и трудностями.
Психолог: Ты что, как-то специально это делала? В беременность пила, гуляла? Рожала в поле под кустом?
Клиентка: Да нет, конечно. Все было как положено.
Психолог: Тогда в чем ты виновата? Что ты плохого сделала?
Клиентка: Ты не понимаешь! Я не обеспечила ее здоровьем!
Психолог: А это что – в твоих силах? Ты лично генные комбинации перебирала? Сознательно с поломкой выбрала?
Клиентка: Что ты издеваешься?
Психолог: Я не издеваюсь, я понять хочу, в чем ты себя обвиняешь?
Клиентка: Ну не знаю я, все равно виновата. Лучше я буду виноватой, чем обиженной.
Психолог: Как это?
Клиентка: Так это! Все тебе объяснять надо. Ты что, не понимаешь? Если я буду обижена, у меня сил ни на что не хватит, ты представляешь, какая это обида? На кого мне обижаться? На Бога? На судьбу? На мир вокруг? От такой обиды и помереть можно. А кто тогда ребенка будет поднимать?
Психолог: Вина тебя двигает, получается?
Клиентка: Да, получается. Только сейчас поняла. И всякие выкрутасы дочери терпеть легче.
Психолог: Да, непростая ситуация. Вина – тоже не витамины, хоть в твоем случае и лучше обиды. И дочке границы ставить надо, нельзя все подряд терпеть. Будем разбираться.
ВВЧ: Какие еще типы особой вины присутствуют у героини этого диалога?
Диалог «На страже»
– Васек, пойдем в футбол играть!
– Нет, я пошел уже домой.
– Да рано же еще, пойдем поиграем!
– Нет, мне отца встречать надо с работы.
– А чего его встречать-то? Сам не дойдет, что ли?
– Может, и дойдет, только по пути в магазин зарулит, и все. Вон у нас на углу разливайка.
– А че, с тобой, что ли, не зарулит?
– А со мной не зарулит, я до дома доведу, отвлеку как-нибудь.
– Так рано же еще! Он еще на работе у тебя.
– Думаешь? Ну ладно, пойдем погоняем немножко.
Через некоторое время.
– Серега, посмотри, сколько времени? У меня телефон разрядился.
– Семь уже! Без десяти.
– Е-мое! Опоздал! Ну все, капец!
– Да ладно тебе! Что, теперь и не погулять, что ли? Лето, каникулы!
– Ты не понимаешь! Теперь отец пьяный придет, скандал будет, родители до вечера орать будут друг на друга, хорошо, если не подерутся. Мелкого напугают. Чертов телефон! Аккумулятор дурацкий!
– Ну про тебя, может, зато забудут, если между собой ругаться будут.
– Да никто меня ругать не будет, я сам знаю, что виноват, не доглядел. Только я отца умею уговаривать, а я в футбол играл, как дурак.
– Че как дурак-то? Нормально поиграли.
– Ничего ты не понимаешь!
– Ой, больно умный нашелся.
ВВЧ: Какие еще чувства, кроме вины, переживает, на ваш взгляд, герой диалога?
Особая вина практически неподвластна рациональному анализу, а детская особая вина не поддается этому никогда. Виноватый ребенок любого возраста может выслушать десятки умных лекций на тему нарушения ролей в дисфункциональной семье, пройти множество тестов на определение «героя семьи»[17], может даже согласиться с этим определением, но на вопрос, кто виноват в том, что в семье неблагополучно, не задумываясь, отвечает «я». Пытаться его переубедить означает подрывать саму основу его существования, самооценки, самоидентичности. Для такого человека вина является универсальным стимулятором, источником сил и гордости. Альтернативой станет глубочайшее разрушительное горе и обида. Соответственно, работать с таким человеком нужно крайне аккуратно, начиная с постепенного облегчения обид и горя, добраться до которых довольно сложно, потому что такой человек не только их не признает, но и не ощущает – они слишком глубоко.
8. Вина за особую телесностьВина за особую телесность почти никогда не бывает дистиллированной. Чаще всего это смесь нескольких особых вин, и в первую очередь, вины за существование. Если особая телесность проявляется с рождения, то к ней добавляется особая детская вина «я плохой (некачественный) ребенок», если особая телесность возникает позже, когда у человека уже есть собственные дети, то к ней может добавиться особая родительская вина. Суть вины за особую телесность состоит в том, что человек ощущает себя «телесно неправильным», не соответствующим образу человека. По-видимому, дело в том, что наша телесность практически не поддается сокрытию. При общении, по крайней мере, при личном общении, мы оцениваем друг друга по десяткам, если не сотням физических параметров, которые совсем не всегда осознаем, но которым практически всегда доверяем даже больше, чем таким параметрам, как ум, образование, идеология и так далее. Это специфическое доверие и отношение делает работу с виной за особую телесность очень сложной и долгой.
Диалог «Все не как у людей» (телефонный разговор)
О.: Танюха, привет! Как делишки? Как материнство, освоилась?
Т.: Привет, Оль. Да так, с переменным успехом.
О.: А че так? Свекровь надоела? Ребенка, небось, отнимает, жизни учит?
Т.: Да нет, просто никак очухаться не могу после родов.
О.: Да две недели ж уже прошло, уже пора бы! Что там с тобой?
Т.: Да не заживает никак ничего, хожу еле-еле.
О.: Ну не знааааю, я уже через неделю носилась, как метеор, с младенцем-то не полежишь особо ведь.
Т. (со слезами): Думаешь, мне лежать хочется? Болит все до сих пор, кровит, вот и мучаюсь. Все не как у людей!
О.: А что врачи говорят?
Т.: То же самое говорят, что все скоро пройдет. А оно все не проходит и не проходит (рыдает). Что со мной не так? Я уже должна с коляской вовсю на улице гулять, педиатр приходил, велел, а я до стола иду 10 минут.
О.: Ну что ты плачешь? У всех по-разному бывает.
Т.: Что-то, я смотрю, у всех одинаково, только я какая-то не такая. Неловко мне. Мать со свекровью вокруг пляшут, сына на руках таскают, а мне его взять страшно, вдруг уроню. Никогда себя слабачкой не чувствовала, а тут такое…
ВВЧ: Как бы вы построили разговор с такой клиенткой, если бы она обратилась за психологической помощью? Какие бы цели ставили?
На наш взгляд, рационально утешать девушку бесполезно. Она в данный момент воспринимает себя оторванной от всего сообщества «нормальных людей» и не считает, что ей подойдут аргументы «с той стороны». Имеет смысл посочувствовать – дать место ее по-настоящему сильным, близким к шоковым переживаниям. Если принять ее переживания как нормальные, то и ощущение нормальности вернется быстрее – само, автоматически. А далее стоит ориентировать такого человека на поиск признаков нормы, на то, что объединяет его с остальными.
9. Коллективная винаКоллективной мы называем вину, которая возникает у человека, когда он сам правила не нарушал, но руководство или члены группы, к которой он себя относит (семья, коллектив, сообщество, профессия, социальный слой или группа, жители определенной местности, народность, нация, государство и др.), с его точки зрения, – нарушают правила.
Возникновение этой вины, на наш взгляд, является проявлением экзистенциальных данностей «отдельности-но-связанности» и «укорененности» (Дж. Бьюджентал) [19]. Избежать возникновения такой вины можно только в случае принадлежности к другой группе и другой местности. Некоторым людям это вполне удается, можно всю жизнь прожить, скажем, в Вологде, чувствуя себя, к примеру, итальянцем. Равно как можно родиться в Лондоне, но так влюбиться в русскую литературу, что переживать себя русским. Авторам известен один такой случай. Конечно, это скорее исключение. Чаще всего мы чувствуем себя связанными с той местностью, где выросли, с теми людьми, среди которых живем. Так проявляется то, что принято называть корнями. В разных направлениях психологии этому понятию придается разное значение, но практически ни одно из направлений существования корней не отрицает. Правда, в нынешней реальности, где принято отрицать даже такие несомненные вещи, как пол и возраст, следует ожидать скорого движения категорического отрицания корней.
Попытки отрицать или дискредитировать конкретные корни случались и случаются постоянно, на разных уровнях. От индивидуального – при переезде в другую страну, до государственного – при слиянии или разделении этносов, когда один поглощается или объявляется вне закона. Случались и более широкие попытки обрезания корней, когда друг на друга ополчались представители разных религий или разных взглядов. В этой ситуации страдают все без исключения. Потому что линии раздела проходят через семьи, через дружеские связи и могут даже ощущаться как раскол внутри одного человека[18].
Мы не будем на этом подробно останавливаться, здесь нам важно подчеркнуть, что такая вина есть, она связана именно с принадлежностью человека к определенной группе и возникает автоматически, когда представители этой группы совершают что-то, что, на взгляд человека, является нарушением правил. Когда нам говорят, что представители национальности, к которой мы себя относим, совершили преступление, когда мы слышим, что представитель нашей профессии повел себя некрасиво, когда мы узнаем, что жители нашего города допустили разрушение дорогих нам мест, и так далее и тому подобное, мы переживаем вину, в первую очередь. А потом еще, конечно, гнев, стыд, обиду и горе. Переживание вины тем сильнее, чем серьезнее нарушение, чем больше отличается то, что происходит, от наших представлений о правильном и хорошем.
Особая сложность этого переживания состоит в том, что мы не можем ничего исправить, потому что ничего сами не делали. Более того, довольно часто непонятно, кого конкретно винить, и поэтому виновными или назначаются какие-то более-менее заметные люди, или становимся мы сами – автоматически. Переживание вины – это не то, что переносится легко и просто. Мы стараемся избавиться от него с помощью тоже автоматического действия, про которое мы уже говорили, – с помощью обвинения. Но обвиняем мы обычно тот самый коллектив, представителей той самой группы, к которой принадлежим сами, и, таким образом, облегчения не наступает, потому что каждое обвинение, благодаря экзистенциальным данностям «отдельности-но-связанности» и «укорененности», частично ложится на нас.
Избежать этого переживания невозможно. Но можно перестать его постоянно расширять и отягощать, стараясь не поддаваться автоматическим реакциям обвинения и оправдания. Выход из такой вины очень сложен, потому что связан с переживанием дополнительного экзистенциального кризиса (к тем четырем, которые входят в динамику нормальной вины). Для выхода человеку практически приходится сформировать себе новое представление о собственных корнях. Осознать свою по большей части неосознанную (потому что она складывается автоматически, в процессе жизни) принадлежность к группе, сделать различные выборы (относительно себя, близких, будущего, прошлого, убеждений, веры и так далее), сформировать образ нового коллективного будущего. Другими словами, приходится пережить обширную травму крушения образа мира.
С точки зрения динамики процесса в этом кризисе происходит переход от связанности к отдельности и обратно к изменившейся связанности. Первый переход связан с чувством сильнейшего одиночества, а оно, в свою очередь, с горем, утратой и ужасом перед будущим. Такое одиночество заставляет нас настойчиво (иногда лихорадочно) искать новую общность, с которой можно было бы перейти в отношения связанности. Это происходит обязательно – вплоть до конструирования новой группы в воображении – люди не могут долго пребывать в отдельности без связанности. Если при этом осознавать, что происходит, что за сила нас толкает и двигает к такому поиску, процесс может пройти без лишних потерь и утрат.
Переживание коллективной вины настолько остро и индивидуально, что мы сознательно не приводим конкретных примеров и иллюстраций. Любая конкретизация в данном случае может вызвать мощную реакцию сопротивления, которая к пониманию ничего не добавит, а сил у читателя заберет много. Более того, мы настоятельно рекомендуем любые личные беседы на эту тему вести с заботой о себе и собеседнике. Потерять близких всегда легче, чем приобрести. На это есть множество причин, и не стоит добавлять к ним нетерпимость к чувствам, которые отличаются от наших.
Безусловно, это не все виды особой вины, которые встречаются психологу-консультанту. Наличие особой вины очень зависит от того, какие качества входят в данный момент и в данной местности в определение «настоящий человек». По мере того как оно меняется, уходят одни вины и приходят другие. Например, в наше время уже почти не встречается особая вина за неумение рукодельничать, потому что развитие сферы услуг и усложнение оснащенности быта сделали это свойство неважным для жизни в обществе. Зато теперь мы начинаем себя чувствовать виноватыми за неумение водить машину или разбираться в интернете. Но суть особой вины остается прежней, это вина не за действие, а за принадлежность или непринадлежность к какой-либо общности, или образу, или даже описанию, к которым мы относимся или относим себя благодаря множеству своих действий, выборов, авторства.
На этом мы завершаем базовое феноменологическое описание вины и переходим к описанию нарушения ее течения.
ЧАСТЬ II. НАРУШЕНИЯ ТЕЧЕНИЯ ВИНЫ
POU STO В отношении такого сложного явления как вина слово «патологизация» еще менее применимо, чем в отношении обиды. Погружаясь в описание вины, мы все больше проникаемся глобальностью и глубиной этого переживания. На таком уровне разговор о норме и патологии почти не имеет смысла. Фактически мы можем говорить только о большей или меньшей плате за отказ переживать вину в полной мере, брать на себя ответственность за свои действия, за отказ от авторства и другие нарушения протекания процесса вины.
В практике психологического консультирования чаще всего встречаются следующие варианты нарушений переживания реальной вины и их последствий:
1) Отрицание собственной вины:
• Отрицание конкретной вины за поступок (не виновен, не делал, не способен).
• Сохранение невинности (я не мог этого сделать).
• Отрицание вины как явления вообще (значит, так было угодно судьбе, так сложилось, я такой).
• Отрицание вины в виде самооправдания и обвинение других.
2) Нереалистичное признание вины:
• Признание вины с генерализацией переживания до вселенского масштаба.
• Признание вины с отрывом от действия и смещение действия.
• Признание вины со смещением (заменой) пострадавшего.
• Признание чужой вины своей.
• Признание вины с объявлением себя лишенным свободной воли в силу своей неспособности противостоять собственным желаниям.
• Признание вины с объявлением себя лишенным свободной воли и виновным в силу своей природы.
3) Масштабные нарушения жизнедеятельности, вызванные неразрешенной виной:
• Монструозный образ «я».
• Противоречивая самооценка.
• Автоматическое присоединение к агрессору.
• Автоматическое занятие позиции жертвы.
• Игнорирование вины в отношениях.
• Утрата способности опираться на себя и собственное мнение в определении успешности и неуспешности своих действий.
Невоодушевленность вследствие утраты субъектности или отказа от нее.
Глава 9. ОТРИЦАНИЕ СОБСТВЕННОЙ ВИНЫ
Отрицание конкретной вины за поступок * Сохранение невинности * Отрицание вины как явления вообще
1. Отрицание конкретной вины за поступокКогда случается что-то, что не вмещается в наши представления о реальности или о нас самих, включаются бессознательные механизмы психологической защиты – вытеснение, отрицание, подавление и другие (З. Фрейд) [55]. Вытесненная вина может жить в предсознательном или подсознательном десятилетиями – до тех пор, пока не возникнут особые условия для ее осознания (как правило, это происходит по механизму резонанса, когда человек или переживает нечто похожее, или сочувствует кому-то другому, кто переживает похожую ситуацию). Такая вина часто вспоминается в самый неподходящий (с точки зрения выживания) момент и обрушивается на человека всей своей силой совершенно неожиданно. До той поры с ней ничего нельзя сделать, она не проявляет себя прямо.
Чаще всего мы избегаем признания собственной вины в момент непосредственно после совершения поступка (непосредственная вина) двумя основными способами: отрицая само событие и отрицая его вредоносность.
Обычно отрицание события происходит очень быстро, сразу же, что позволяет почти в буквальном смысле слова подчистить реальность и изгнать воспоминания о событии из памяти и сознания. Таким образом мы убиваем сразу двух зайцев: отрицаем событие и сохраняем собственную невинность (Р. Мэй) [37].
Диалог «Ветошь»
В транспорте, в утренней толпе вдруг слышится громкий треск разрываемой ткани и горестный вскрик вслед за ним.
– Мужчина, вы мне куртку порвали!
– Не я!
– Да вот же, у вас на застежке дипломата клочок от куртки.
– Да?
– Господи, что же мне делать, посмотрите, полностью!
– Извините, я случайно.
– Какая мне разница! Куртка – в клочья!
– Ну если так порвалась – значит, ветхая уже была, туда ей и дорога. Зато новую купите.
– Она и так новая!
– Ну значит, плохая.
Если мужчина из этого диалога – человек совестливый, то досадный эпизод, скорее всего, будет портить ему настроение до вечера. И только на следующее утро он о нем полностью забудет. Если же он более легкомысленный, то уже к моменту начала рабочего дня сможет окончательно убедить себя в том, что куртке туда и дорога, она была негодная и думать об этом незачем.
На первый взгляд, совсем неплохо обладать такой способностью быстро забывать о своих неловких действиях, о небольших ошибках, не самых удачных решениях. Тем более это хорошо, если у нас нет возможности исправить их последствия. К сожалению, такие вещи накапливаются, складываются где-то в бессознательном, в сундучок неизвестной емкости. В какой-то момент такой сундучок с подавленными воспоминаниями об однотипных нарушениях правил, вину за которые мы не осознали и не приняли на себя, переполняется, и мы вспоминаем о них разом, или же очередное такое нарушение вдруг представляется нам огромным, фатальным, непростительным. Иногда эти переживания настолько сильные и глобальные, что их трудно даже опознать как вину, тем более, что, как мы уже писали выше, вина запускает целый эмоциональный шторм. Самостоятельно разобраться в такой ситуации, облегчить свое состояние, исправить положение – очень сложно.
Диалог «Забывчивый»
Психолог: Значит, договорились, во вторник в 16.00.
Клиент: Да, договорились. Ой-е!
Психолог: Что, что случилось?
Клиент: Вот я дурак, я же мелкому обещал, вот я скотина! Ой, дурааак…
Психолог: Однако!
Клиент: Вот ведь опять же забыл, что обещал!
Психолог: Слушай, ну объясни, чего ты так убиваешься?
Клиент: Ничего я не убиваюсь, просто вспомнил, что мелкому обещал с ним сходить во вторник на игру. И опять забыл.
Психолог: Бывает! А ты орал, будто что-то ужасное случилось.
Клиент: Конечно, ужасное! Который раз ребенка обманываю.
Психолог: Таким виноватым себя чувствуешь? Вроде бы вовремя вспомнил, молодец!
Клиент: Я столько раз забывал, что молодцом себя совершенно не чувствую, вовсе наоборот. Я сам не могу вспомнить, сколько раз я свои обещания не выполнял. Сейчас совершенно случайно вспомнил, такой скотиной себя ощущаю.
Психолог: Ну вспомнил же, значит, все не безнадежно!
Клиент: Да я уж сколько себя успокаиваю – не помогает! Все равно – аж до боли!
ВВЧ: Вспомните случай, когда ваша реакция на осознание мелкой вины была неадекватно сильной. Попробуйте соотнести это с идеей накопления вытесненной вины.
2. «Сохранение невинности»Описанные выше способы быстрого избавления от вины очень просты и безыскусны. Мы просто отрицаем реальность и стараемся побыстрее забыть – и о своем поступке, и о самом факте отрицания. Другой способ не ощущать вину и не брать на себя ответственность за причиненный вред столь же распространен, но гораздо более изощрен. Ролло Мэй называл этот способ «сохранением невинности». Это то самое знаменитое автоматическое «это не я», которое надежнейшим образом охраняет нашу идентичность от нежелательных изменений. «Это не я» обладает настолько волшебным действием, что его впору записывать в магические книги, присвоив статус заклинания. Вариантом этого заклинания служит еще одна автоматическая фраза: «Я не хотел», – и ее синонимы – «я не нарочно», «оно само». Удивительное дело, с точки зрения эмоций, которые плавно перетекают в позицию и полноценную внутреннюю реальность, для нас «я не хотел» означает – «я не делал», или «это безвредно», или «вред не настоящий». Возможно, здесь действует тот же закон, по которому «быстро поднятое не считается упавшим». Мгновенный отказ признавать намеренный характер нарушения правил как бы отменяет нашу субъектную природу и делает нас просто инструментом, безвольным винтиком в жерновах судьбы.
Диалог «Купание черного телефона»
Клиентка (эмоционально): …И ты представляешь, я ему рассказываю, как меня в школе на родительском собрании и так и эдак склоняли, потому что его сыночек учиться не желает, а он в телефоне сидит и, как болванчик, башкой кивает, угукает!
Психолог: Боюсь спросить, что ты сделала.
Клиентка: Что-что, выхватила телефон у него из рук – и в стакан с чаем!
Психолог: Ого!
Клиентка (запальчиво): Чай был холодный!
Психолог: Мне кажется, телефону все равно, горячий чай или холодный. И что дальше было?
Клиентка (довольно): Ну зато обратил, наконец, на меня внимание. Ругались потом до ночи. Но договорились, что в школу он пойдет, с директором поговорит.
Психолог: Молодцы! А телефон-то выжил?
Клиентка: Нет. Ему пришлось новый покупать.
Психолог: Наверное, он был не рад.
Клиентка (со смехом): Уж конечно!
Психолог: Тебе долго потом за это извиняться пришлось?
Клиентка (возмущенно): Мне?! Извиняться? Он меня сам довел. И вот результат.
Психолог: Что-то я не понимаю.
Клиентка (рассудительно): Что тут непонятного? Он меня довел своим невниманием, я обратила его внимание на свои потребности, за что тут извиняться? Тем более, это и его сын. Я считаю, что в этой ситуации виноват только он, я вообще ни за что не отвечаю. Мне было важно обратить его внимание, что под руку попалось, тем и обратила.
Психолог: Жестоко!
Клиентка (раздражаясь): Жестоко было бы, если бы я в голову ему телефон запустила, а так легкое техническое неудобство.
Психолог: То есть ты тут ни в чем не виновата?
Клиентка (твердо): Абсолютно! Я не виновата, что мне под руку попались телефон и стакан с чаем. Так получилось.
ВВЧ: Попробуйте вспомнить ситуацию, когда вы столь же твердо отрицали собственную вину. Как вам сейчас кажется, зачем?
В данном случае клиентка всеми силами старается сохранить невинность, отрицает чрезмерность своих действий, считает себя вправе действовать под влиянием чувств. Для нее, как и для многих, наличие очень сильных чувств является универсальным извинением почти любых действий. Фраза «я был в ярости» так же надежно избавляет от вины, как и заявление «так получилось». По-видимому, мы искренне считаем, что эмоции, страсть, аффект в действительности лишают нас разума, и вместе с ним – субъектности и чувства вины. Возвратить человеку субъектность в данном случае довольно сложно, тем более что он сопротивляется этому всеми силами. Ведь признание вины – шаг к изменению идентичности, образа «я», что воспринимается любым из нас как опасность, как угроза существованию. Один из немногих выходов в данном случае: изменить позицию человека, с которой он рассматривает ситуацию, и его эмоции.