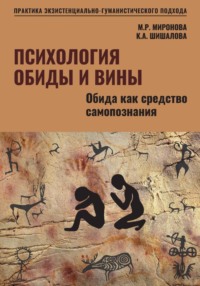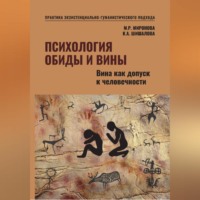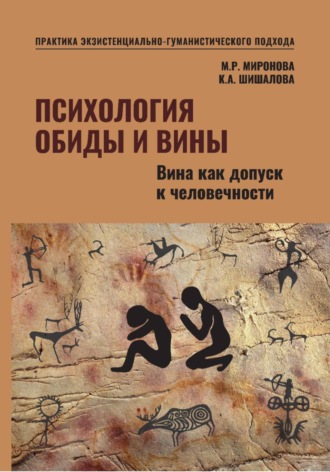
Полная версия
Психология обиды и вины. Вина как допуск к человечности Том 2 Миронова М.Р. Шишалова К.А.
ВВЧ: Случалось ли вам сталкиваться с подобными обвинениями или предъявлять их кому-то? Как такие неявные обвинения повлияли на вашу жизнь?
Изменение комфортной, привычной или приличной дистанции взаимодействия
По сравнению с вышеперечисленными ситуациями, эта выглядит мелко и странно. Но мы считаем, что ее необходимо упомянуть, потому что она очень плохо опознается, а вину вызывает довольно часто. Мы считаем, что здесь дело в той роли, которую играет в нашем взаимодействии сама по себе дистанция. В нашей культуре (Россия, Северо-Запад) дистанция во взаимодействии редко описывается словами или закрепляется законодательством[6]. При этом Российская Федерация включает в себя чрезвычайно разные культуры: в Санкт-Петербурге принято разговаривать на расстоянии вытянутой руки, в Краснодарском крае разговаривают на существенно меньшей дистанции. Где-нибудь в Сибири разговор может вестись с расстояния полутора-двух метров. Кроме культурных различий, сама по себе дистанция – это признак качества отношений. Близкие и родные могут общаться вообще без дистанции, обнявшись. Между друзьями обычно происходит негласное определение комфортной дистанции. На ее комфортность влияют десятки факторов – начиная от пола и возраста беседующих и заканчивая предметом беседы (разговор об интимном обычно ведется с более близкой дистанции, чем разговор о пустяках, даже если собеседники – отнюдь не друзья). Разговор о дистанции еще более усложнится, если вспомнить, что понятие дистанции и правила ее соблюдения запечатлены в наших генах. Наши неговорящие предки (стайные животные) дистанцию блюдут неукоснительно и границы нарушают только намеренно, а нарушитель чаще всего проигрывает схватку с хозяином территории или изгоняется группой за нарушение правил (К.З. Лоренц) [33]. И даже безо всяких отсылок к невербальным правилам понятно, что сокращение дистанции может быть банально опасно для жизни – не успеешь отскочить и убежать, если что.
Короче, мы так устроены, что нарушение дистанции переживается как серьезное нарушение правил. Прямое указание со стороны на то, что мы нарушили дистанцию, вызывает очень острое чувство вины, смешанное со стыдом. Но такие прямые указания встречаются в современной действительности редко (по крайне мере, в приличной форме). Понятия о приличиях стали совсем расплывчатыми, но не исчезли и исчезнуть не могут, потому что все еще регулируют взаимодействие между людьми. Нарушение расплывчатых правил все равно остается нарушением и вызывает вину.
Диалог «Юг против Севера»
Психолог: Ты что такая встрепанная?
Клиентка (со слезами): Блин, город у вас дурацкий, и люди у вас дурацкие, и все здесь по-дурацки.
Психолог: Эээ…
Клиентка: Да, елки, я не понимаю, как можно так общаться?! Чтобы с вами разговаривать, надо слуховой аппарат надевать или всем микрофоны раздавать.
Психолог: И бинокль брать? (Улыбается.)
Клиентка: Да! Подзорную трубу!
Психолог: Ну что, опять юг с севером не сошлись, что ли?
Клиентка: Какой юг-север? Все дебилы вокруг – и все! (Вдруг заливается слезами.) Ну чего они ко мне пристали? Все время «отойди», «отойди», что я могу с собой сделать, если мне так не видно и не слышно?
Психолог: Что случилось-то, объясни!
Клиентка: С подружками встречалась… Курицы замороженные… Тоже мне, коренные петербурженки…
Психолог: Обидели опять?
Клиентка (успокаиваясь): Да если б все так просто. Мы с тобой про этих куриц уже несколько раз говорили. Ты мне можешь объяснить, почему я себя виноватой чувствую?
Психолог: Поподробнее расскажи?
Клиентка (всхлипывая): Ну вот смотри, мы давно не виделись, я очень обрадовалась, что мы наконец встретились. Ну конечно, полезла обниматься! А рыжая мне так: «Ой, ну все, все!». Ну я, естественно, отошла. Потом разговариваем, а она мне через каждое слово: «Что ты надо мной нависаешь, отодвинься». Я сначала злиться начинаю, потом обижаться, а потом извиняться начинаю. И остановиться не могу. Представляешь? А эта кура мне потом говорит: «Что ты все время извиняешься?» (Опять начинает плакать.) А как мне объяснить? Что я себя чувствую совсем неуместной? Что они привязались к этому? Неужели так важно?
Психолог: Что тебе хочется им объяснить?
Клиентка: Я себя такой одинокой чувствую, когда они меня начинают отпихивать. Мне кажется, я в чем-то провинилась, что-то не так сделала. Неужели им так важно сохранять эту дистанцию?
Психолог: Ну тебе же важно подойти к ним поближе?
Клиентка: Да мне не важно, я просто подхожу, я так привыкла, у нас на юге все еще хуже. (Пауза.) Когда разговариваем, друг друга за плечо или за руку держим на улице.
Психолог: Хуже?
Клиентка: Ну да, я себя так глупо чувствовала, когда на каникулы на родину приехала. Вроде как и хорошо, наконец меня никто не отталкивает. Но зато уже мне хочется отодвинуться. Ну вот… Я теперь и там, и там чужая.
Психолог: Погоди расстраиваться, внутреннюю личную дистанцию можно переключать. Поехала на Север – увеличила, поехала на Юг – уменьшила.
Клиентка: Правда? Ну тогда ладно, давай переключать.
ВВЧ: Попробуйте вспомнить ситуации, в которых вы чувствуете себя виноватыми, хотя не сделали ничего плохого?
Скорее всего, мы перечислили не все ситуации «автоматической» вины, более того, по ходу того, как изменяется наша жизнь, условия и правила, список этих ситуаций тоже меняется. Какие-то становятся не актуальными (как стали неактуальными десятки и сотни обстоятельств вины и обвинений, описанные в художественных произведениях, созданных до середины XX века). А какие-то, наоборот, появляются. Возникают в связи с изменениями в нашей жизни. Например, совсем недавно вопросы «собираешься ли ты замуж» или «когда собираетесь заводить детей» были совершенно обычными вопросами, характерными для холодной вежливой светской беседы. В настоящее время человек, задающий такой вопрос, сокращает дистанцию общения практически до интимной. И если отношения не предполагают такого уровня близости, то реакция на подобные вопросы, скорее всего, заставит вопрошающего почувствовать себя виноватым. Наша задача состоит не в создании исчерпывающего списка ситуаций, а просто в указании, что такие ситуации есть, и в установлении логической связи между ситуациями общения и возникновения вины.
Глава 3. УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВИНЫ
Обязательные условия:
• Наличие взаимодействия (реального, виртуального или символического).
• Принадлежность к одной группе.
• Наличие норм, регулирующих взаимодействие.
• Наличие концепта «вина» в системе конструктов «я-и-мир» человека, осуществляющего действие.
• Дополнительные условия:
• Дефицит ресурсов (сил, пространства, времени, понимания, опыта).
• Степень жесткости ожиданий в отношении человека, осуществляющего действие.
• Степень определенности границ ответственности в отношении соблюдения норм.
• Степень определенности границ личной ответственности у человека, осуществляющего действия.
• Присутствие в ситуации высших авторитетов (социальных или мировоззренческих) и возможность передачи им части ответственности
Условия возникновения вины очень похожи на условия возникновения обиды (См. Обида, Гл. 1). Но есть некоторые важные различия. Вина всегда возникает постфактум – после того, как мы что-то уже сделали, поэтому вина обращена в прошлое, всегда связана с анализом того, что уже произошло. В будущее обращен только страх быть виноватым. Поэтому вина существенно более мучительна, чем обида, и гораздо менее ресурсна. Обида же связана с поступками других людей и с нашими ожиданиями извинений. Поэтому обида больше обращена в будущее и часто связана с ожиданием хорошего – отсюда, в частности, ее ресурсность.
1. Обязательные условия возникновения виныНаличие взаимодействия (реального, виртуального или символического), выраженного в феноменах, приравненных к реальным действиям
Понятно, что вина не возникает, если люди никак друг с другом не соприкасаются. Правда, помимо явных всем, вольных или невольных действий, произошедших в реальности между двумя или более людьми, которые анализировать легко, потому что их легко вспомнить и описать, есть еще поступки, приравненные к реальным действиям. Это все, что относится к помыслам, желаниям, потребностям, которые сам человек или общество приравнивает к реальным действиям. Например, в христианстве дурные помыслы или незаконные желания считаются вполне реальными грехами, требующими покаяния (Библия) [6]. В настоящее время люди более внимательно относятся к тому, что они считают для себя допустимым или недопустимым, меньше полагаются на предписания культуры или государства. Мы вполне осознаем, какое огромное количество литературы написано по поводу вины за символические действия или помыслы и желания – достаточно обратиться к трудам великих психоаналитиков Фрейда и Юнга или современным авторам того же направления (а также к философии и русской классической литературе). Наша задача – лишь напомнить, что приравненные к реальным действия любой степени виртуальности вызывают совершенно реальную вину, которую иногда трудно заподозрить и очень сложно анализировать.
Нужно сказать, что современные реалии предоставляют нам еще большие возможности вызывать или испытывать вину. Мы имеем в виду игровое поведение: одиночные и командные игры в виртуальной реальности. Как решить, по каким параметрам оцениваются действия человека в игре, в виртуальном мире? Если предательство эффективно в игре или встроено в правила – как к этому относиться?
В нашей практике встречались случаи работы с игроками, к которым в игровом пространстве применялись санкции за слишком жестокое, или за слишком «эффективное» поведение. Переживания и состояния, которые у них возникали (вина, обида, безысходность, жизненный крах, суицидальные мысли и намерения, и т. д.) были совершенно реальными и никак не отличались от тех, что возникают вне игрового пространства. Урон, причиненный игровому аватару нередко воспринимается как урон самому игроку.
В наше время игра стала слишком серьезной и важной частью нашей жизни. В истории человечества такое уже бывало[7]. Это необходимо учитывать в практике психологического консультирования.
Принадлежность провинившегося и того, перед кем провинились, к одной группе, что позволяет им ощущать себя «своими»
Мы все знаем случаи из истории, литературы, когда отнесение человека к чужим позволяло людям вести себя в отношении этого человека самым грубым и страшным образом, не испытывая вины.
В первой части мы уже писали про то, что разделение на своих и чужих может происходить по множеству признаков: по национальности, социальному положению, имущественному состоянию, образованию, цвету волос и кожи. Но в психологическом консультировании мы чаще имеем дело с еще более тонкими разделениями. Например, по возрасту или по семейным ролям. Психологи, да и просто опытные родители знают, что подростки очень часто обманывают взрослых. Причем делают это автоматически, без всяких причин. На мамин вопрос: «Где ты находишься?» большинство подростков 13–15 лет ответят ложью, даже если раскрытие местоположения ничем им не грозит. Возможно, это связано с основной задачей возраста – сепарацией от родителей. А возможно, с постоянным раздражением, которое часто испытывают подростки. Причина в данном случае неважна. Главное, что подросток чаще всего не испытывает чувства вины, если лжет взрослому. При этом, соврав сверстнику, он вполне нормально чувствует себя виноватым. Более того, став взрослым и вспоминая свою ложь, бывший подросток вполне может почувствовать себя виноватым, потому что родители теперь для него более «свои». Многие взрослые, особенно молодые, не могут объяснить себе взрослым, почему они так себя вели, когда были подростками. Таким образом, вина как непереносимое переживание иногда отсекает от человека часть его прошлого, если «нынешнее я» не может согласиться считать «прошлое я» принадлежащим себе, то есть «своим» для себя.
Наличие норм, регулирующих взаимодействие
Может показаться, что это лишнее условие, что нормы есть всегда. С этим можно было бы согласиться, если бы нормы взаимодействия не менялись вместе с ситуацией взаимодействия. Например, одно дело вести себя вежливо и корректно в очереди за продуктами, если вы знаете, что продуктов достаточно и время не поджимает. В этой ситуации можно и нужно пропустить вперед слабого, позаботиться о том, чтобы всем хватило и все было справедливо. Совершенно другая ситуация возникает, если продуктов мало или время, отведенное для их покупки, катастрофически заканчивается. В этой ситуации большинство людей будет думать об интересах своей семьи, а не об интересах незнакомых стариков и детей, соответственно, нормы, которыми они руководствуются в своем поведении, могут измениться. Чем быстрее меняются нормы, чем более неопределенными и многочисленными они становятся, тем сложнее уловить, нарушение какой из норм вызывает чувство вины. В этой ситуации довольно часто происходит то же самое, что и в ситуации с гипотетическим подростком-вруном. Действуя в критической ситуации согласно нормам кризисного взаимодействия, человек потом не может объяснить себе, как он мог творить такое. Соответственно не может пережить вину и простить ее себе. Поэтому, разбираясь с виной, необходимо обращать внимание на то, какими нормами регулировалась ситуация, в которой вина возникла.
Важно учитывать, что мы живем в эпоху, когда часто возникают ситуации до сей поры невиданные, которые никакими правилами до сих пор не регулировались по причине отсутствия самих понятий, которые требовалось регулировать. Самый простой пример – это общение в интернете. На момент написания этого текста общение в интернете не имеет жестких и понятных всем правил и единственный, кто может регулировать его, – это владелец конкретной сети, причем он делает это исходя из одному ему понятных резонов. Видимо, эта ситуация скоро изменится, но до понятных всем правил здесь еще очень далеко. Скорее всего, такие вопросы будут возникать все чаще, т. к. все чаще будут возникать ситуации нового взаимодействия, в которых на первых порах правил вообще не будет, а соответственно не будет и вины. Но она вполне может появиться в момент, когда правила будут установлены. В XX веке тоже было несколько ситуаций, когда какое-то поведение вполне респектабельное и нормативное в одной ситуации при изменении обстановки вменялось людям в вину. Например, после Октябрьской революции 1917 года все богатые были обвинены в эксплуатации трудящихся и признаны виноватыми просто в силу того, что они обладали собственностью. В наше время похожие ситуации возникают все чаще и чаще (например, в сфере межрасового или межнационального взаимодействия). То, что сегодня считается нормальным и респектабельным, завтра может быть вменено в вину любому человеку. В связи с этим, психологическая работа с чувством вины приобретает поистине глобальные масштабы и значение.
Наличие концепта «вина» в системе конструктов «я-и-мир» человека, осуществляющего действие
Безусловно, полное отсутствие концепта «вина» в системе конструктов «я-и-мир» – это редчайший случай, и нам не очень ясно, можно ли такого человека называть человеком в полном смысле слова. Для того, чтобы у личности не было никакого представления о вине, у нее должно полностью отсутствовать преставление о том, что она способна что-то кому-то дать, как-то на кого-то влиять и вообще что-то делать. Можно сказать, что у человека должно отсутствовать понятие «я» и представление о себе как о субъекте. Но отсутствие концепта вины в системе конструктов «я-и-мир» в рамках какой-либо деятельности или отказ от способности быть виноватым встречается не так уж редко.
Нам известны по крайней мере три причины, по которым может отсутствовать концепт «вина» в системе конструктов «я-и-мир». Все три предполагают отказ от ответственности за свою жизнь, от авторства в целом и даже от субъектности.
1) Передача авторства другим людям или организации
Такого рода передача – вполне обычное дело, средство разделения обязанностей в группе. Лидер решает, что делать, исполнители просто выполняют его распоряжение. Но все же довольно редко случается, чтобы современный человек вообще не имел никакой свободы воли, а значит, и ответственности. Если это случается, то в рамках особых организаций – или военных, или религиозных, или других с жесткой вертикальной структурой. Если это связано с выполнением социальной функции (военный, чиновник), человек может не применять данный конструкт в рамках своей роли и своих обязанностей. Примеров такого перекладывания вины на начальников, на государство, на «систему» мы знаем множество, начиная от тех, кого обвиняют в военных преступлениях и заканчивая теми, кто берет взятки, потому что «все так делают». Самое интересное для нас состоит в том, что эти люди в самом деле не испытывают вины относительно действий, совершенных в рамках своего положения и своих обязанностей. При этом в других областях являются вполне совестливыми и ощущают вину в полном размере. Неполное авторство и неполная ответственность закреплены даже в уголовном праве, которое частично или полностью снимает ответственность за действие с исполнителей и возлагает ее на организаторов, отдающих приказы. Примером может служить то, что большинство рядовых гитлеровской армии было освобождено от обвинений в военных преступлениях.
Диалог «Курьер»
Начальник: Ты почему документы не отвез продажнику нашему? Там же на пакете было написано!
Курьер: А вы не сказали, что я должен везти.
Начальник: Это твоя обязанность! Ты сам должен спрашивать, чего и кому нести.
Курьер: А вы в прошлый раз сказали, чтоб я не отсвечивал.
Начальник: Ты понимаешь, что из-за тебя человек на переговорах без документов остался?!
Курьер: Я человек маленький. Если бы вы сказали, я бы отвез.
Начальник: Ты же знаешь, что если это лежит в ящике для доставки, то это тебе.
Курьер: А пакет не в ящике лежал, а рядом.
Начальник: Да упал просто, почему ты не спросил?
Курьер: Не мое это дело спрашивать, мое дело носить.
Начальник: Вот ведь..!
В строго иерархичных организациях (религиозных, военизированных) вопрос личной ответственности, авторства и свободы воли решается по-разному, но, как правило, принадлежность к такому сообществу предполагает добровольное лишение части личной свободы и передачу ее вместе с ответственностью и авторством лицу, осуществляющему руководство общиной (духовному иерарху, начальнику, командиру), или собственно тому, чьим именем или властью создана организация (высшие силы, бог, организация, государство). Примеры отсутствия вины за действия, совершенные «по приказу» «во исполнение воли …» или «именем божьим» можно найти в литературе, как классической, так и современной. А также в новостях.
2) Выученная беспомощность
Вторым случаем отказа от ответственности и авторства можно считать вариант ситуации, которая в психологии называется выученной беспомощностью. Если человеку по какой-либо причине внушили, что он ничего не может, ни на что не влияет, то он автоматически будет чувствовать себя ни в чем не виноватым, что бы он ни делал.
Диалог «Страшная школа»
Психолог: Слушайте, а почему вы дочку в художественную школу не перевели? У нее же способности, ей это нравится. Она туда на мастер-классы ходит.
Клиентка: Ну не знаю. Это все так сложно, кучу документов переоформлять, дальше ездить.
Психолог: Да ладно, кучу! Вы же говорили, вам завуч той школы говорила, что нужно сделать, чтобы девочку перевести.
Клиентка: Ну говорила. Но это все равно очень сложно.
Психолог: Девчонке же нравится. И ей в математической школе тяжело, она больше к творчеству тянется. И с друзьями там у нее не складывается, того и гляди, школу бросит!
Клиентка: А что я-то могу сделать?
Психолог: Перевести!
Клиентка: Так я ей говорила, пусть она с учителями договорится.
Психолог: Думаете, у нее лучше, чем у вас, получится?
Клиентка: Ну а что я могу? Пусть сама свои проблемы решает.
Психолог: Ей помощь нужна. Она без вас не справляется. Она маленькая. Ей тяжело.
Клиентка: Да? А я что? Мне бы кто помог. Я и так зашиваюсь.
Психолог: Она у вас и так прогуливает, если ей сейчас не помочь, она школу бросит. Вам от этого легче не станет точно.
Клиентка (угрюмо): Я как подумаю, что в школу надо будет идти, с директором разговаривать, так у меня у самой поджилки трясутся.
Психолог: Ну да, непросто. Вам, взрослому человеку, и то непросто.
Клиентка: Да, я как туда попадаю, так перестаю соображать: куда идти, чего говорить! Я сама-то школу еле закончила, после 9 класса в ПТУ ушла. Моя мама и не настаивала никогда на продолжении обучения. Мне тогда и в голову не приходило, что мне кто-то помочь может. Потому я и сбежала, как только смогла.
Психолог: Да, вам тогда нелегко пришлось. Подростку против школы одному не выстоять. Вам тогда 15 было? А вашей дочке сейчас 13. Ей совсем не справиться.
Клиентка: Ну что вы на меня давите! Я справилась, и она справится.
Психолог: Я вас не могу заставить что-то делать, и надавить мне на вас нечем. Мое дело вам всю картину обрисовать.
Клиентка (агрессивно): Какую такую картину?!
Психолог: Девчонке трудно в школе, и вы это видите. Вам тоже плохо, потому что за нее переживаете и потому что считаете, что ничего сделать нельзя.
Клиентка: Вот вы все поворачиваете, чтобы я себя виноватой почувствовала. А я просто на заводе работаю. Мое дело маленькое.
Психолог: Зато для дочки вы – самая большая. Больше вас для нее никого нет. И для школы вы тоже человек значимый, у родителей прав много, гораздо больше, чем у учеников. Вы же теперь не ученица, а родитель. Это тогда вы ничего не могли, а сейчас сможете.
Клиентка: Вот ведь пристали! А если у меня ничего не получится?
Психолог: Сделаем так, чтобы получилось.
3) Всем известное оправдание: «я был не в себе»
Это не я, это – водка, героин, химия, болезнь и т. д. Человек, совершивший что-либо в измененном состоянии сознания (в алкогольном или наркотическом опьянении, в психотическом состоянии, под гипнозом, под влиянием высокой температуры и т. д.), тоже не обладает в полной мере субъектностью, не может взять на себя ответственность за то, что он совершил, и, соответственно, не может почувствовать себя в полной мере виновным в своих действиях. Случается, что ни рассказы свидетелей, ни даже видеосъемка не убеждают человека, что действия действительно совершил он сам, не заставляет взять на себя ответственность и не вызывает чувства вины. Для очень многих людей концепт «я был не в себе» полностью выключает концепт «я виноват». В таких случаях люди могут вообще не рассматривать свои поступки с позиции вины и ответственности.
Вина тесно связана с нашей субъектностью. Нет субъектности – нет вины.
ВВЧ: Как вам кажется, чем мы платим за отсутствие концепта вины в системе конструктов «я-и-мир»?
2. Дополнительные условия возникновения виныДополнительные условия возникновения вины похожи на такие же условия возникновения обиды, поскольку являются общими для описания процесса взаимодействия людей.
Дефицит ресурсов (сил, пространства, времени)
Мы не будем детально останавливаться на этом условии, потому что подробно описали его для возникновения обиды. Упомянем только, что дефицит ресурсов, видимо, делает человека более уязвимым, заставляет его автоматически больше полагаться на окружающих, больше надеяться на соблюдение правил, на помощь и поддержку «своих». Мы предполагаем, что при дефиците ресурсов такие ожидания возникают автоматически. Похоже, в стесненных обстоятельствах, в отсутствие сил и времени мы вынужденно упрощаем восприятие ситуации, в которой находимся и, возможно, склонны переоценивать собственные силы и собственную субъектность – брать на себя больше, чем можем вынести, больше, чем предполагает наша роль в ситуации. Вина, возникающая в ситуации дефицита ресурсов, чаще всего вызывает варианты «вины за отсутствие всемогущества».
Диалог «Плохой преподаватель»
Психолог: Ты что такая расстроенная?
Клиентка: Да вот, опять студенты жалуются, что я плохо объясняю.
Психолог: Поподробнее расскажи, пожалуйста.
Клиентка: Ну чего тут рассказывать… Проклятое дистанционное обучение! Я им лекцию читаю, и что, я вижу, что ли, что кто-то там рукой машет? И лиц не вижу. А потом выясняется, что половина ничего не поняла с самой середины лекции. И что я сделаю?
Психолог: Оправдываешься?
Клиентка: Да я уже не знаю. Обидно, что плохо получается. Я себя виноватой чувствую. Потому что я привыкла, что у меня студенты все понимают, по крайней мере, большая часть. А тут полгруппы сидит, глазами хлопает. А потом еще говорят: мы вам в чат пишем, что мы не понимаем. А мне ж не разорваться! И лекцию читать, и в чат смотреть!