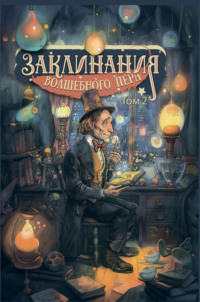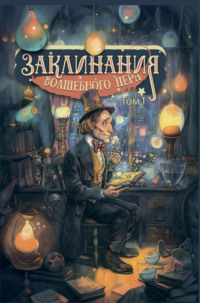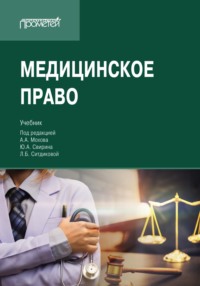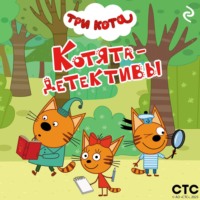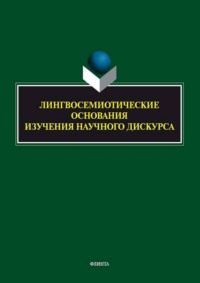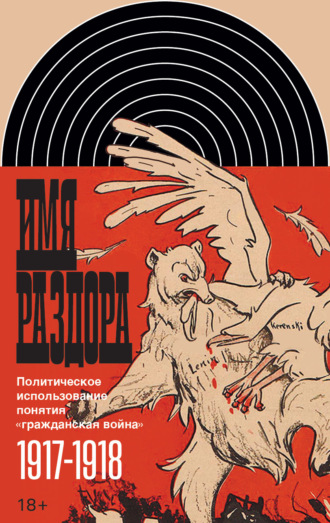
Полная версия
Имя раздора. Политическое использование понятия «гражданская война» (1917–1918)
Исследования показали, что представление о всеобщем патриотическом ликовании жителей воюющих стран было преувеличенным212. И в России в связи с началом войны разные группы людей испытывали страх, растерянность, беспокойство, хотя заметнее были шумные публичные проявления военного энтузиазма, особенно подробно освещавшиеся прессой213.
Противники же войны критиковали концепцию гражданского мира с разных позиций, но наиболее радикальным способом его отрицания стало провозглашение лозунга гражданской войны как средства преодоления войны «империалистической».
Накануне Первой мировой войны в большевистских кругах рассматривали перспективы гражданской войны в условиях военного столкновения великих держав. Главная газета большевиков интерпретировала решения Базельского конгресса Интернационала следующим образом: единственной гарантией международного мира является усиление и обострение «гражданской войны пролетариата против буржуазии каждого отдельного государства». Это можно было бы понять как очередной призыв к усилению постоянно идущей классовой борьбы, но другой фрагмент текста подразумевал иную, новую революционную ситуацию, сопровождающуюся вооруженной борьбой: «…пролетариату в его борьбе против войны придется развивать свою энергию до крайних пределов, вплоть до открытой гражданской войны»214.
В военные же годы тему гражданской войны развивали не только большевики. Особый резонанс имели выступления известного немецкого социал-демократа и депутата рейхстага Карла Либкнехта, который и до войны уже был известен своими антимилитаристскими выступлениями, а с началом военных действий стал решительным противником гражданского мира. Либкнехт приобрел всемирную славу, когда он, единственный из народных представителей, голосовал в рейхстаге против предоставления правительству военных кредитов 2 декабря 1914 года Либкнехт утверждал, что главным врагом немецких рабочих является германский милитаризм, а для пролетариев всех воюющих стран актуальной и первостепенной является борьба против внутреннего врага – отечественного империализма. В 1915 году Либкнехт был призван в армию, но эта мера, репрессивная по своей сути, лишь способствовала его известности, укрепляя его авторитет среди противников войны.
В августе 1915 года Либкнехт направил заявление в президиум социал-демократической фракции рейхстага, содержавшее призыв к гражданской войне:
Тот, кто заинтересован во влиянии социал-демократии на условия мира, тот должен стремиться к тому, чтобы развивать силу, присущую пролетариату. Борьба за условия мира, по ходу которой правящие классы выступят с обнаженным мечом в руках, будет самой суровой борьбой, без всяких сентиментальностей. Необходима гражданская война, а не гражданский мир215.
В сентябре в письме, адресованном международной Циммервальдской конференции социалистов, выступавших против войны, Либкнехт вновь поддержал лозунг гражданской войны и осудил концепцию гражданского мира:
Гражданская война, а не гражданский мир. Международная солидарность пролетариата против лженациональной, лжепатриотической гармонии классов; международная классовая борьба за мир, за социалистическую революцию216.
О необходимости гражданской войны Либкнехт писал и в одной из своих статей: «…необходима последовательная, беспощадная борьба против всей правительственной политики, самое решительное продолжение классовой борьбы во всех областях; гражданская война, а не гражданский мир…»217
В августе 1916 года германский Верховный военный суд приговорил его к четырем годам каторжных работ за антивоенную деятельность; в последнем слове обвиняемый публично заявил: «Мой лозунг – не гражданский мир, а гражданская война! Долой войну! Долой правительство!»218
Выступления Либкнехта были важны для Ленина и других радикальных социалистов, требовавших превращения «империалистической» войны в войну гражданскую, но на международных встречах противников войны они оказывались в меньшинстве. Конференция в Циммервальде, состоявшаяся в сентябре 1915 года, собрала тех представителей социалистических групп воюющих и нейтральных стран, которые выступали против войны. Участники конференции не были едины ни в своем отношении к тем социалистам, которые были сторонниками гражданского мира, ни в отношении к тактическим лозунгам антивоенного движения. Письмо Либкнехта, адресованное конференции, было созвучно позиции Ленина и других левых делегатов конференции, которые предложили свой проект резолюции, содержавший призыв: «Наш лозунг не гражданский мир между классами, а гражданская война!»219 Большинство делегатов, однако, отвергло эту резолюцию, приняв проект Л. Д. Троцкого, воспринимавшийся его оппонентами как «пацифистский».
К этому времени в рядах российских социалистов уже шла дискуссия о способах окончания мировой войны и перспективах революции. На ход этой дискуссии влиял и опыт борьбы против собственного правительства во время Русско-японской войны: как мы видели, тогда некоторые политические группировки требовали превращения «внешней» войны во «внутреннюю».
Другим обстоятельством, оказывавшим воздействие на ход споров о гражданской войне, было описание внутриполитической ситуации в России как перманентной гражданской войны. Немало известных ранее «пораженцев» стали в 1914 году «оборонцами», а то и убежденными «империалистами», как видно на примере П. Б. Струве. Но все же тема гражданской войны, постоянно идущей в России, не уходила совсем из обсуждений. У Ленина до начала Первой мировой войны она не была центральной, но присутствовала в его текстах. В апреле 1914 года он писал:
…страна переживает на деле состояние плохо прикрытой гражданской войны. Кое для кого очень неприятно сознаться в этой истине, кое-кому хочется надеть на это явление покрывало. Наши либералы, и прогрессисты, и кадеты, особенно любят сшивать такое покрывало из лоскутков совсем почти «конституционных» теорий220.
Для социалистов, считавших, что и в мирное время Россия находится в состоянии «прикрытой» гражданской войны, лозунг превращения «империалистической» войны в войну гражданскую, довольно быстро выдвинутый лидером большевиков, не был слишком радикальным. Ленин вновь начал интенсивно употреблять понятие гражданская война для критики большинства социалистических лидеров, поддержавших идею гражданского мира. Подобное «предательство» «вождей» он не считал случайным или внезапным; оно, по мнению Ленина, было следствием «оппортунизма» и «ревизионизма», выражавшихся в том числе в забвении и искажении марксистского понимания гражданской войны и классовой борьбы.
Другой темой, в связи с которой Ленин использовал понятие гражданская война, была критика тех противников войны и гражданского мира, которых он считал непоследовательными и нерешительными. В октябре 1914 года Ленин отмечал:
Отказ от военной службы, стачка против войны и т. п. есть простая глупость, убогая и трусливая мечта о безоружной борьбе с вооруженной буржуазией, воздыхание об уничтожении капитализма без отчаянной гражданской войны или ряда войн221.
Близкий в это время к Ленину Г. Е. Зиновьев также критиковал тех противников мировой войны, которые не принимали идею необходимости «гражданских войн». В начале 1915 года он писал:
Требование прекращения войны, требование мира лишь с того момента получает революционное значение, когда к нему присоединяется революционный призыв, призыв к борьбе с правительством своей страны, призыв к превращению империалистской войны в начало эпохи гражданских войн <…> Мы… стоим за возможно скорейшее прекращение бойни. Мы зовем рабочих всех стран бороться за это прекращение. Но мы говорим им при этом всю правду: наш лозунг не мир, но – меч! Знайте, что только революционной борьбой вы можете приблизить окончание всемирной империалистской бойни 1914/15 гг., и еще больше – помните, что сократить весь этап империалистских войн, грозящих нам новыми морями крови, вы можете только посредством ряда революций, посредством систематического стремления превращать империалистические войны в гражданские. Лишь тогда буржуазия остережется вызывать новые войны из‑за дележа колоний и т. п., когда она будет знать, что на каждую войну рабочие ответят ей не Burgfrieden’om222, но Burgerkrig’om, не гражданским миром, гражданской войной, не останавливающейся перед поражением своего «отечества»223.
Обобщенное представление о перерастании империалистической войны в войну гражданскую Ленин изложил в манифесте «Война и российская социал-демократия» в сентябре 1914 года. Он писал:
Превращение современной империалистской войны в гражданскую войну есть единственно правильный пролетарский лозунг, указываемый опытом Коммуны, намеченный Базельской (1912 г.) резолюцией и вытекающий из всех условий империалистской войны между высоко развитыми буржуазными странами224.
Ленин ссылался на опыт Парижской коммуны (опираясь на известный текст К. Маркса) и на резолюцию Базельского конгресса Интернационала.
Взгляды лидера большевиков чиновник Департамента полиции изложил так:
Ленин говорит, что настоящая война – грабежный поход буржуазии отдельных государств. По его мнению, капитализм настолько уже назрел, что должна уже немедленно начаться социальная революция и гражданская война. Войска отдельных наций должны оружие обращать немедленно против собственной буржуазии и прекратить международную войну, причем он добавляет: «И с нашей стороны уже во всех странах предпринимаются шаги, чтобы немедленно осуществить эту цель». Кто предприниматели этих шагов и что именно «предпринято», Ленин не сказал225.
Лишь пролетарские революции, серия гражданских войн пролетариата и буржуазии должны были, по мнению Ленина, стать средством установления мира: «Кто хочет прочного и демократического мира, тот должен быть за гражданскую войну против правительств и буржуазии»226.
Подготовка гражданской войны, по Ленину, – важнейшая и актуальнейшая задача социалистов. Он обозначал конкретные действия, которые необходимо предпринять для ее достижения:
Не вотировать военных кредитов, не потакать шовинизму «своей» страны (и союзных стран), бороться в первую голову с шовинизмом «своей» буржуазии, не ограничиваться легальными формами борьбы, когда наступил кризис и буржуазия сама отняла созданную ею легальность, – вот та линия работы, которая ведет к гражданской войне и приведет к ней в тот или иной момент всеевропейского пожара227.
Лозунг о перерастании империалистической войны в гражданскую Ленин связывал с тактикой революционного пораженчества:
В каждой стране борьба со своим правительством, ведущим империалистическую войну, не должна останавливаться перед возможностью в результате революционной агитации поражения этой страны. Поражение правительственной армии ослабляет данное правительство, способствует освобождению порабощенных им народностей и облегчает гражданскую войну против правящих классов228.
Зиновьев поддержал тезис Ленина о связи пораженчества и гражданской войны:
В России тезис о поражении теснейшим образом связан с лозунгом продолжения борьбы против царизма <…> Кто серьезно принимает лозунг «превращение империалистской войны в гражданскую», кто серьезно отвергает тактику «гражданского мира», тот должен принять и тезис о поражении. И тот решительно должен отвергнуть пацифистский «лозунг» мира229.
Эта статья Зиновьева была замечена Московским охранным отделением230.
Впрочем, о пораженчестве говорили не только сторонники Ленина. Ветеран революционного движения и видный деятель левого крыла социалистов-революционеров М. А. Натансон, участник Циммервальдской конференции, выступал за поражение царизма любой ценой, независимо от влияния революции на ход военных действий. В победе царизма Натансон видел худший из возможных исходов войны, тогда как поражение русских войск (если бы союзники в свою очередь затем разбили Германию) не имело бы для России «плохих последствий»231.
В то же время тезис о поражении собственного правительства вызвал дискуссию среди большевиков; некоторые видные члены партии, поддержав идею о перерастании империалистической войны в гражданскую, отвергали пораженчество. Н. И. Бухарин не согласился с большинством участников Бернского партийного совещания большевиков (февраль–март 1915 года), он был убежден в том, что в «одурманенных националистическим угаром массах» усиленная пропаганда «поражения отечества» не встретит поддержки ни на фронте, ни в тылу, а лишь скомпрометирует большевиков232.
Бухарин писал Ленину:
Очевидно, что «поражение России» как практический лозунг партии и вводит многих в заблуждение. Я лично думаю, что «поражение России» для нас – и это нужно со всей силой подчеркивать – не является лозунгом, то есть партийной директивой, влекущей за собой определенные практические действия, способствующие поражению. <…> Для оппозиции правительству нужно выставлять нечто логически надежное, и для этой цели вполне пригоден лозунг гражданской войны (он, кстати, ничуть не менее «резок» по отношению к своему правительству и выражает в то же время вполне самостоятельную классовую линию)233.
Ленин в конце концов счел нужным отказаться от публичного использования лозунгов пораженчества234. Одной из причин, заставивших лидера большевиков перестать развивать эту тему, была негативная реакция членов партии, в особенности тех из них, кто находился в России. А. Г. Шляпников так вспоминал о реакции партийных активистов-рабочих в Петрограде:
…лозунг «поражения царской монархии» вызвал кривотолки. Приходилось объяснять и толковать его исторически, рассматривать в связи с нашим отношением к политике царизма, как внутри страны, так и в международном отношении, и очищать от пораженческой, стратегической спекуляции на этом лозунге врагов нашей партии и агентов германского генерального штаба235.
Даже лозунг гражданской войны, не вызывавший столь острых возражений в большевистской среде, принимался не всеми и не сразу; у него были и свои оппоненты, и свои сторонники, хотя часть последних поддержала Ленина лишь с оговорками. Еще более спорным для многих рабочих активистов был лозунг поражения «своего» правительства.
Вместе с тем некоторые видные российские чиновники считали распространение идей пораженчества серьезной угрозой; показательно, что оно – наряду с темой гражданской войны – рассматривалось в служебной переписке глав правительственных ведомств (возможно, впрочем, что все антивоенное движение описывалось в этих текстах как «пораженческое»). В августе 1916 года министр внутренних дел А. А. Хвостов писал министру юстиции А. А. Макарову:
С началом нынешней войны известная часть русских революционных партий примкнула к так называемому пораженческому течению, идея коего заключается в том, что начатая европейскими государствами война – империалистическая, вызванная агрессивной политикой правительств, что эту войну социалисты всех воюющих государств должны стремиться, в интересах международного социализма, превратить в войну гражданскую – против своих же правительств, и что, наконец, русские социалисты должны превратить нынешнюю войну – в войну гражданскую для борьбы с «царизмом», уничтожения коего можно достигнуть только путем военного поражения России236.
Современный исследователь отмечает, что для Ленина требование гражданской войны не было риторическим преувеличением; он понимал этот лозунг как буквальный и актуальный, подлежащий скорейшей реализации237. Справедливо, однако, и обратное утверждение: некоторые сторонники Ленина трактовали требование превращения империалистической войны в гражданскую как риторическую фигуру, а не как руководство к немедленным и решительным «военным» действиям; иногда термин гражданская война использовался как синоним слова революция, иногда – как классовая борьба.
Не без труда и не вполне в соответствии со взглядами Ленина тезис о превращении «империалистической» войны в гражданскую усваивался и большевиками в России, но при этом сторонники этого лозунга требовали разъяснений. А. Г. Шляпников был ценным сотрудником Ленина, в годы мировой войны он работал то в эмиграции, то в России, возглавляя Русское бюро ЦК. В ноябре 1914 года он писал Ленину:
Я совершенно согласен с вами, что необходимо вести работу в направлении использования военного кризиса для развития «гражданской войны» на почве демократических лозунгов для каждой страны. Но ведь необходим какой-либо конкретный лозунг, на почве которого могли бы развернуться желанные нам события. Этот лозунг – «прекращение взаимной бойни» – вытекает даже из передовицы, печат<анной> в «Соц<иал>-Дем<ократе>», где вы говорите… «одурачение рабочих и истребление их авангарда»… – «Долг» же социалистов – прекращение самоистребления наших сил и направление их на истинных врагов рабочего класса и «виновников» войны. Лозунг «долой войну» – всюду революционный лозунг238.
Шляпников заявлял об общей поддержке тезиса Ленина, но считал, что массы должны быть подготовлены к восприятию такой пропаганды, а этому может послужить антивоенная агитация:
Выдвигание «мира» у нас, например, толкнет к нам всю демократию, которая от этой войны только разоряется. Во имя этого «прекращения бойни» можно поднять борьбу во всех странах, это может послужить объединяющим моментом для пролетариата всех стран. Я не вижу, чтобы у нас с Вами были «расхождения». Как практик, я стараюсь «конкретизировать», популяризировать нашу общую идею, сделать ее «переваримой» для той массы, которая будет вести гр<ажданскую> войну. Так, как я пишу, поступал бы я в Питере239.
В марте 1916 года А. Г. Шляпников так характеризовал позицию Петербургского комитета большевиков:
Их принципиальная позиция по отношению к войне остается прежней. Гр<ажданская> война как лозунг дня против имп<ериалистической> войны ими усвоен, хотя в общем под этим вопросом публика понимает вооруженное восстание. Популяризации этого лозунга до сего времени не было (Ее ждут от Ильича)240.
О том же Шляпников писал в это время Ленину:
Особенно настаивает публика, что б был популярно и основательно развит лозунг что такое гражд<анская> война? Недовольна наша публика слишком ругательным характером некоторых статей из «Социал-Демократа» и их малой доказательностью. От Вас требуют большей доказательности и основательности. <…> От Вас ожидают большего. Вообще заметьте и «исправьтесь», к Ленину публика требовательна!241
Прошло более года, но восприятие лозунга гражданской войны активистами-подпольщиками оставалось практически тем же: радикальный политический призыв был «усвоен», но он оставался при этом недостаточно ясным и конкретным.
Эти свидетельства Шляпникова подтверждаются и иными источниками. Примерно в это же время, весной 1916 года, А. И. Ульянова-Елизарова писала из России Ленину, что лозунг гражданской войны многим непонятен, поэтому некоторые видные члены партии не считали возможным его выставлять242.
И те видные социал-демократы, которые после колебаний поддержали в принципе курс на перерастание империалистической войны в гражданскую, расшифровывали этот лозунг по-разному, обсуждали разные пути его осуществления. Так, А. М. Коллонтай зарекомендовала себя в это время как горячая сторонница Ленина; она полагала, что именно он является нужным человеком на нужном месте:
По мнению Ленина, мы накануне соц. революции. <…> Если мы близки к действительной соц. революции – Ленин подходящий вождь и его прямолинейность сослужит службу. Да и рабочим она понятнее, ближе, чем «гибкость» Мартова243.
Вместе с тем не все «прямолинейные» лозунги Ленина Коллонтай готова была принять без оговорок. Она писала Н. К. Крупской:
Признаю правильность выдвинутой тов. Л<ениным> и поддерживаемой Вами, Над<ежда> К<онстантиновна>, линии «гражданской войны», как единственно правильного способа вывести межд<ународный> раб<очий> социализм из того тупика, в кот<ором> мы очутились. Но нахожу, что наметить линию, направление – этого мало, а ведь «гражд<анская> война» – это именно линия. Чтобы дать ей осуществиться, надо еще определить те определенные, конкретные задачи, требования, какие могут одушевить массы и толкнуть их теперь, в это запутанное время на правильный, революционный путь244.
Коллонтай считала, что обобщающее понятие гражданская война было тесно связано с другими лозунгами – борьба с монархизмом и милитаризмом, борьба с войной:
Все эти отдельные основн<ые> требования входят, разум<еется>, в понятие о «гражданской войне», но входит также и борьба за мир, за мир между народами, как логический вывод из нашей общей инт<ернациональной> позиции. Подчеркиваю: борьба за мир, что не однозначуще с пассифистскими вздохами о мире245.
Основным содержанием лозунга о необходимости гражданской войны, по мнению Коллонтай, был призыв к борьбе за мир. Этот аргумент Коллонтай использовала и в письме Ленину, написанном в ноябре 1914 года:
…борьба за мир повлечет за собою подъем духа социал-демократов в каждой стране, столкнет их требования по этому поводу с намерениями властей (и пр.) и повлечет за собою ту борьбу, ту «войну гражданскую», о кот<орой> Вы говорите, как о единственно правильном лозунге сейчас. Совершенно согласна с Вами, но мне кажется, что для того, чтобы ее вызвать теперь – надо иметь конкретный, для всех близкий лозунг, и этим лозунгом может служить борьба за мир, именно борьба за него. Считаю также, что надо выдвигать такой лозунг, кот<орый> объединял бы всех, способствовал бы возрождению духа солидарности. А что может лучше объединить сейчас пролетариат всех стран, как не требование, призыв: война войне? Др<угими> словами – война с теми, кто ведет нас на бойню246.
Показательно, что понятие гражданская война Коллонтай последовательно брала в кавычки.
Коллонтай, стремившаяся соединить лозунг борьбы за мир с лозунгом гражданской войны, по сути полагала, что лозунг «Война войне» тактически более выгоден, что он привлекательнее для широких масс, что он способен создать более широкую коалицию революционных социалистов, борющихся против войны.
В ответном письме247 Ленин не без оснований интерпретировал позицию Коллонтай так: «Вы соглашаетесь с лозунгом гражданской войны, по-видимому, не вполне, а отводя ему, так сказать, подчиненное (и пожалуй даже: условное) место позади лозунга мира»248.
Через некоторое время Коллонтай признала справедливость взглядов Ленина и стала с энтузиазмом проповедовать его идеи среди скандинавских социалистов. В июне 1916 года она с гордостью сообщала Шляпникову об успехах своей пропаганды в Скандинавии: «Какая у нас в Ларвике была демонстрация – прелесть! Шествие со знаменами, речи и, главное: как город волновался! Слышны были разговоры, что это начало „революции“, что это „гражданская война“»249.
В июле и августе 1916 года Коллонтай писала:
Использовать войну империалистическую и превратить ее в войну гражданскую – это лозунг. Не лозунг мира, а превращение современной империалистической войны в войну гражданскую. Еще недавно мне казалось, что лозунг мира – все исчерпывает. Сейчас мне ясно, что это тоже оппортунизм. Что мало понять причины войны и быть противником войны, надо знать: какими средствами бороться с войной? Это главное. <…> Задача пролетариата в России – революция в России и разжечь социалистическую революцию во всем мире. На меньшем нельзя мириться. Только революция, только баррикадные бои во всех странах остановят войну. <…> Для меня теперь совсем ясно, что никто так эффективно не борется с войною, как Ленин. Остальное – половинчатость. Только ударом масс, только волей пролетариата можно ее остановить. И эту волю надо спаять – солидарностью и решительностью к баррикадному бою. В этом наша задача250.
Как видим, в оценках практической пропаганды лозунга гражданской войны Шляпников, в отличие от Коллонтай, продолжал сохранять некоторую критическую дистанцию по отношению к тезисам Ленина. Отчасти это объяснялось тем, что аудиторией Коллонтай были молодые шведские и норвежские социалисты, жители нейтральных стран; для них перспектива гражданских войн в воюющих странах, прежде всего в России, казалась весьма заманчивой. Шляпников же общался с активистами, через которых ему передавались настроения «масс», простых русских рабочих. Они могли ненавидеть войну, но им сложно было понять, как гражданская война улучшит их положение. Для них лозунг гражданской войны не был только интеллектуальной конструкцией, более или менее убедительной; для них речь шла о гражданской войне, в которой им самим пришлось бы участвовать. Часть аудитории Шляпникова предпочитала делать выбор между войной и миром, а не размышлять над тем, какая из войн является более предпочтительной.
О соотношении пацифистских лозунгов и лозунга о перерастании империалистической войны в войну гражданскую рассуждали и те оппоненты Ленина, которые не являлись тогда большевиками. О полемике с лидером большевиков, не называя его прямо, Л. Д. Троцкий в мае 1916 года писал так: