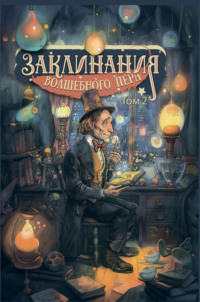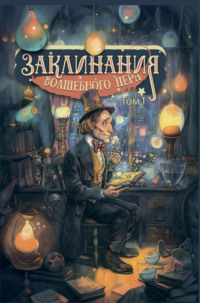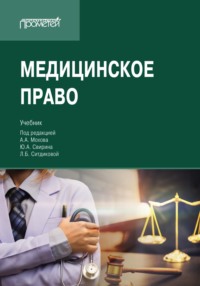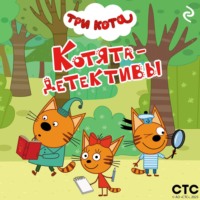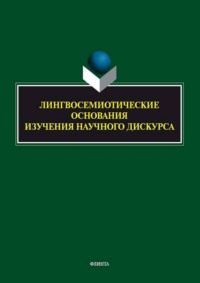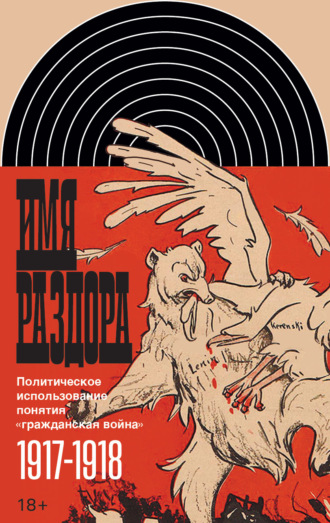
Полная версия
Имя раздора. Политическое использование понятия «гражданская война» (1917–1918)
Вместе с тем люди разных взглядов порой вспоминали революцию как уже начавшуюся гражданскую войну; речь шла не об опасной возможности, а о страшной реальности уже наступившей жестокой внутренней войны. Известный деятель правого лагеря Н. Е. Марков (Марков 2‑й) впоследствии отмечал:
В то время была гражданская война… [и] война была почти односторонняя; революционеры били мирных граждан, а мирные граждане отвечали на револьверные выстрелы и бомбы камнями и палками135.
При подобной интерпретации гражданскую войну начинали агрессивные противники режима: именно они, по мнению правого политика, положили начало процессу эскалации насилия, они же применяли огнестрельное оружие.
Разумеется, люди либеральных взглядов видели ситуацию иначе, но и они использовали словосочетание гражданская война, уделяя, однако, большее внимание не уличным столкновениям, а масштабным вооруженным конфликтам, в которых участвовала и регулярная армия. Описывая «революционные смуты»136, А. А. Кизеветтер вспоминал, что в октябре 1905 года «…в Севастополе разыгрались такие сцены, словно начиналась открытая междоусобная война: взбунтовавшиеся суда на рейде со своих батарей обстреливали город и предприняли затем штыковую атаку береговых казарм», а «Прибалтийский край был охвачен настоящей гражданской войной»137.
Действительно, масштаб и ожесточенность множества вооруженных конфликтов, в разной степени друг с другом связанных, заставляли многих современников употреблять слова гражданская война и гражданские войны при описании событий 1905–1906 годов. В борьбе с вооруженными восстаниями и партизанским движением повсеместно участвовали не только отдельные войсковые подразделения и части, но и целые соединения российских вооруженных сил. Порой при подавлении восстаний применялась артиллерия, а иногда одни войсковые части вступали в бой с другими. Антиправительственные силы поднимали восстания, использовали террор, вели партизанскую борьбу; к насилию прибегали и монархисты. Ситуацию осложняли конфликты между различными группами населения, в том числе этнические конфликты; иногда и они описывались современниками как гражданские войны. Порой и межпартийное противостояние на окраинах империи приобретало форму вооруженной борьбы: так, в 1905 году в Царстве Польском началась череда конфликтов и между поляками разных взглядов – сторонниками Национально-демократической партии и ее противниками, конфликтов, которые историки впоследствии окрестили «холодной гражданской войной»138.
На память о Первой российской революции влиял и язык, к которому прибегали современники. Уже в 1905 году Национальный корпус русского языка фиксирует резкий рост использования словосочетания гражданская война именно в этом году, затем наблюдается некоторый спад139. Для целей настоящего исследования возможности этого замечательного ресурса пока еще ограниченны, в нем отображено слишком мало источников для того, чтобы делать какие-то убедительные выводы относительно распространенности термина. Но нам представляется, что о какой-то подобной общей тенденции говорить можно. Это подтверждается, например, публикациями В. И. Ленина: в 1904 году словосочетание гражданская война упоминается им только один раз, и не применительно к текущей ситуации140. После 9 января 1905 года Ленин использовал этот термин для описания политической борьбы очень часто; в этом году он написал более двух десятков статей, в которых содержится понятие гражданская война. В 1906 году Ленин продолжал применять термин, хотя и не столь часто, но спад революционного движения привел к тому, что уже на заключительном этапе революции это словосочетание употреблялось лидером большевиков все реже: так, похоже, что в феврале–июне 1907 года он вообще не упоминал его в своих статьях141.
О распространенности словосочетания гражданская война во время Первой российской революции косвенно свидетельствует и наличие посвященных ему статей в популярных «народных» и «политических» словарях, которые были востребованы массовым читателем в условиях взрывной политизации, вызванной революцией. Нам удалось просмотреть 12 подобных словарей, термин гражданская война упоминается в семи из них. Для сравнения можно указать, что термин террор встречается в девяти словарях, и описания значения этого слова более обстоятельны. Гражданская война в этих изданиях описывается, как правило, весьма кратко: как «междоусобная, внутренняя война», «междоусобие», «междоусобная война», «война внутри государства, междоусобие»142.
Лишь в некоторых словарях даются более развернутые определения, которые, впрочем, тоже используют производные от слова «междоусобица» для описания понятия: «Гражданская война – внутренняя междоусобная война, например, между областями одного и того же государства, или война между вооруженным народом, инсургентами и правительственными войсками»143.
Выделяется определение, данное в словаре, выпущенном издательством И. Д. Сытина, оно связывает гражданскую войну с революцией: «…вооруженная борьба внутри страны во время государственного или общественного переворота (см. Политическая и Социальная революция) между сторонниками нового, лучшего строя и защитниками старого, отжившего порядка»144. Можно предположить, что автор этого словаря придерживался левых взглядов: термин гражданская война лишается исключительно негативной оценки.
Интересно, что в выявленных нами словарях понятие гражданская война не прояснялось с помощью слова смута, хотя, как мы увидим далее, в некоторых консервативных и бюрократических кругах эти слова часто либо являлись синонимами, либо смута выступала в роли заместителя табуированного словосочетания гражданская война.
На использование словосочетания гражданская война, на его восприятие и употребление в России начала XX века повлияло несколько обстоятельств. В стране существовали развитые и противостоящие друг другу традиции легитимации применения вооруженного насилия во внутренних конфликтах.
Для выполнения задач, входивших в сферу ответственности могущественного Министерства внутренних дел (МВД), не хватало сил, и с целью охраны общественной безопасности нередко привлекалась армия.
В других странах войска также использовались во время социальных и политических конфликтов; не только в России дело доходило при этом до стрельбы. Не только в России военнослужащие должны были противостоять и «врагу внешнему», и «врагу внутреннему». И все же Россия выделялась и количеством подобных конфликтов, и остротой их протекания. Порой участники беспорядков оказывали ожесточенное сопротивление не только полиции, но и армии, особенно в быстрорастущих городах. Вопрос о привлечении войск в помощь полиции стал предметом внутриведомственных и общественных обсуждений. Существовали документы, регулирующие использование армии в таких ситуациях, но все невозможно было предусмотреть, а координация усилий полиции и армии представляла собой непростую задачу. Армейские офицеры не имели должной подготовки и использовали навыки борьбы с «врагом внешним» в условиях противостояния с «врагом внутренним», что приводило к лишним жертвам и способствовало эскалации конфликтов. Привлечение армии для решения полицейских задач вызывало недовольство части профессиональных военных, которым не нравилось ни подчинение гражданским властям, ни отвлечение военнослужащих от своих основных обязанностей. Некоторые же офицеры были принципиальными противниками такой практики145.
Дискуссии касались и правил использования оружия в подобной ситуации; некоторые участники этих обсуждений выступали за жесткую регламентацию и обязательность проведения предупредительных и предварительных мер, предшествующих стрельбе на поражение. В офицерском корпусе, однако, распространены были и иные мнения: весьма авторитетный генерал М. И. Драгомиров считал, что никаких «холостых» залпов или стрельбы поверх голов быть не может. Должно быть только предупреждение, а если толпа не подчинится распоряжению разойтись, то будет дан залп боевыми патронами и с хорошим прицелом: «холостые залпы», стрельба поверх голов и увещевания толпы приведут только к «братанию» войск с участниками беспорядков. Многие офицеры были с этим согласны, а А. С. Лукомский, ставший во время Гражданской войны одним из лидеров Белого движения, полагал даже, что события Первой российской революции «подтвердили всю справедливость взглядов и требований» Драгомирова146.
Похоже, что, несмотря на подобные дискуссии, и военными специалистами, и полицейскими чинами, настаивавшими на участии армейских частей в подавлении внутренних беспорядков, не были должным образом оценены риски: привлечение войск для борьбы с волнениями в условиях масштабного политического кризиса могло в известной ситуации привести лишь к эскалации конфликтов, что проявилось и 9 января 1905 года, и в феврале 1917 года. Использование вооруженных сил для решения полицейских задач становилось своеобразной школой подготовки к гражданской войне, способствуя выработке ее политической культуры.
Случаи применения армии против народа служили революционерам оправданием насилия в их борьбе с режимом. Тема легитимации политического насилия в революционной традиции давно уже разрабатывалась исследователями. Для задач же настоящей работы важно упомянуть о милитаризации дискурса политического противостояния. Революционеры уже накануне революции 1905 года рассуждали о перспективах гражданской войны, подготавливаемой властью. В конце 1904 года социал-демократическая «Искра», в целом контролируемая меньшевиками, писала:
Но та гражданская война, которую, с беззастенчивостью испытанного авантюриста, провоцирует самодержавие, должна заставить широкие круги либерально-демократического общества не остановиться в самом начале этого пути.
Автор так описывал действия правительства:
Сегодня, по его почину, тамбовские хулиганы избивают земцев, завтра оно будет натравлять крестьянина на помещика, серого рабочего – на либерального фабриканта, в этой гражданской войне оно не остановится перед эксплуатацией всех тех иллюзий, которые, в первобытно наивной форме, сливаясь с архаическими идеалами варварской эпохи – православием и самодержавием, смутно бродят в непросветленной светом политического сознания души народных низов. Отклоняя мысль народа от политического переворота и, ради этой цели, разжигая все грубые инстинкты и страсти, эта гражданская война зальет пожаром и кровью деревни и города, всероссийский Кишинев – вот что сулит России самодержавие.
Только революция могла предотвратить, по мнению автора, ужасную гражданскую войну и всероссийский погром:
Гражданская война под знаменем демагогии и во имя цезаристского возрождения самодержавия, или демократическая революция – на этом распутьи стоит теперь страна147.
Тему внутренней войны использовали не одни только революционеры, о ней говорили и либералы. Как перманентную гражданскую войну, уже ведущуюся правительством против «общества», описывал в 1903 году политическую конфронтацию С. Н. Булгаков: «В силу того, что самодержавие находится на военном положении по отношению к обществу, поддерживает существование непрерывной гражданской войны, оно вносит заднюю мысль, полицейский страх и политический расчет решительно всюду»148.
Комментируя расстрел демонстрации в Златоусте в марте 1903 года, автор журнала «Освобождение» (П. Б. Струве?) писал:
Самодержавия нельзя мирно поддерживать в нашей стране: самодержавие есть гражданская война со всеми ее бедствиями. Вот о чем должна была бы говорить наша печать. Безустанно она должна повторять обществу и правительству: вы не хотите политических убийств и революционных насилий, так покончите же скорее с их источником – самодержавием149.
Автор статьи делал вывод:
…отношение органов либерального общественного мнения к политическим убийствам изменилось потому, что самодержавие с тех пор само окончательно провозгласило себя гражданской войной, само утвердилось на абсолютно безнравственной и в дурном смысле слова революционной позиции. Разве не есть гражданская война та настойчивая борьба, которую самодержавное правительство всеми средствами ведет с деятельностью, направленной на постепенное изменение русского государственного строя мирными и большей частью даже формально легальными действиями?150
Использование темы постоянной гражданской войны, которую ведет самодержавие с народом, свидетельствовало о такой степени отчуждения от власти, которая исключала любую поддержку режима, даже во время военных действий с внешним врагом. Это проявилось во время Русско-японской войны. Некоторые призывы радикальных организаций даже предвосхищали лозунги превращения «империалистической» войны в войну гражданскую, которые затем стали звучать во время Первой мировой войны. Одна анархистская группа в обращении, адресованном «рабочим и работницам», требовала
…прекращения внешней войны, затеянной японскими и русскими капиталистами. Пролетариям русским не нужна братоубийственная резня с японскими рабочими в мундирах. Мы должны, товарищи, заменить эту внешнюю войну войной внутренней, войной гражданской, войной между бедным людом и богачами, чтобы на жизнь или смерть бороться за полное свое освобождение151.
Близкие лозунги выдвигали и некоторые эсеры. Так, киевский комитет этой партии выпустил прокламацию, в которой он убеждал призывников отказаться от мобилизации и примкнуть к борьбе с режимом: «Нам нужен мир с Японией, но для этого должна начаться война (восстание-революция) против самодержавия»152.
Лозунг «Война войне», вновь появившийся во время Первой мировой войны, также встречается в связи с Русско-японской войной. Например, автор статьи, опубликованной в издании партии социалистов-революционеров, так формулировал позицию этой партии:
…мы объявляем войну этой бессмысленной, разорительной и самодержавно-капиталистической войне. Мы объявляем войну этой войне во имя человеческого блага и наших социалистических идеалов153.
Автор другой статьи, опубликованной в том же издании эсеров, писал о двух войнах, которые ведет Российская империя: война с Японией и «война внутренняя, война гражданская, которую самодержавие ведет против живых сил нации на всем широком пространстве русской земли», война, которая длилась уже «более века» и обострившаяся, когда МВД возглавил В. К. Плеве. Архаичная империя, ведущая одновременно две войны, обречена на поражение:
Здесь и там враг, отличающийся более современным характером, должен восторжествовать над допотопным режимом, осколком былых времен, который образует странный анахронизм среди цивилизации наших дней154.
Некоторыми либералами в это время «внешний враг» также не рассматривался как главная опасность; более того, порой он даже воспринимался как союзник. Хотя либералы в своем отношении к Русско-японской войне были расколоты, авторитетные политики этого направления формулировали позицию принципиального пораженчества. В. А. Маклаков впоследствии отмечал: «Японцы казались нашим союзником против самодержавия, и на их нападение либеральное общество ответило почти сплошным „пораженчеством“»155. Хотя в легальной печати высказывать такие взгляды было затруднительно, однако в неподцензурных изданиях они проявлялись, отражая довольно распространенные настроения156.
О том же писали и другие мемуаристы. А. В. Тыркова вспоминала о настроениях русской политической эмиграции того времени:
Чем хуже, тем лучше, было одним из нелепых изречений левой интеллигенции. Порт-Артур сдался. Французы выражали нам соболезнование, а некоторые русские эмигранты поздравляли друг друга с победой японского оружия. Война с правительством заслоняла войну с Японией157.
Запись же в дневнике А. В. Тырковой позволяет судить о причинах «японофильства» части оппозиционеров. 10 февраля 1904 года она отмечала:
Вопрос о том, прекратила ли война с Японией междоусобную войну правительства с народом, этот вопрос прежде всего спутал, больше – сбил с толку многих. Теперь он выясняется. Каждый день приносит новые известия об арестах и репрессиях (отчего нет русских слов для таких архирусских понятий?)158.
По мнению Тырковой, война «правительства» с «народом» продолжалась, ибо власти не были готовы заключить «мир» или хотя бы «перемирие» во внутренней войне даже ради победы в войне внешней.
Автор «Освобождения» описывал новые репрессивные действия МВД как очередной эпизод на фронтах затяжной внутренней войны:
Таковы «последние известия» с театра гражданской войны. Г. ф.-Плеве и его клевреты действуют с полной откровенностью, на несчастную Россию наступают одновременно враги внешние на Востоке и враги внутренние в самом ее сердце. У кого ныне может быть еще сомнение, что внутренним и самым опасным врагом России является ныне именно ее самодержавная клика?159
Суждения такого рода могли влиять на отношение к политическому террору. Люди разных взглядов считали, что глава МВД для страны более опасен, чем японцы, и убийство В. К. Плеве в 1904 году радовало не одних только революционеров. Убийца министра считал свой поступок эпизодом войны, развязанной правительством против народа: «Плеве еще до объявления войны с Японией устраивал войну внутри государства. Он смотрел на Россию, как на вражескую страну, заливал ее почву кровью ее граждан»160.
Некоторые либералы смотрели на ситуацию схожим образом. В семье П. Б. Струве, либерала-эмигранта, после получения вестей о смерти министра царило ликование, «точно это было известие о победе над врагом». Струве заявлял, что поражение в войне с Японией соответствует национальным интересам России. Сторонники Струве по-разному отнеслись к его высказываниям, но показательно, что представители японских спецслужб предложили ему финансирование, которое видный оппозиционер с возмущением отверг161. В то же время представители некоторых радикальных политических партий, общероссийских и национальных, на это сотрудничество пошли162.
Можно предположить, что на дискуссии русских революционеров и либералов о пораженчестве, «японофильстве» и превращении внешней войны во внутреннюю влияли и споры в международном рабочем движении, вызванные публикациями французского социалиста Гюстава Эрве, который в своей газете «Социальная война» призывал рабочих восстать, если правительство их страны начнет войну. Тексты Эрве вспоминали в России во время революции163.
Как видим, некоторые оппозиционеры и до начала революции описывали политическое противостояние правительства и его противников как гражданскую войну, а после 9 января 1905 года поводов для использования этого термина стало еще больше. Все новые авторы оценивали ситуацию как уже идущую гражданскую войну, хотя и интерпретировали ее по-разному. Меньшевистская «Искра» писала о гражданской войне, развязанной правительством против народа: «Цивилизованный мир не может равнодушно смотреть на то, что совершается в России. Царизм доживает свои последние дни среди гражданской войны, среди трупов своих восставших подданных». В другом случае то же издание сообщало, что гражданская война является следствием обострения классовой борьбы: «Вслед за затопленным в крови восстанием петербургского пролетариата, стачечное движение облетело всю Россию, превращаясь местами в прямую гражданскую войну». О «стачечной гражданской войне», охватившей значительную часть страны, газета писала и впоследствии164.
Социалисты-революционеры тоже провозглашали в начале 1905 года: «Гражданская война началась». Сторонники вооруженной борьбы и террора, террора индивидуального и террора «массового», обосновывали тем самым необходимость применения насилия: «Гражданская война начата. Ни слова об отступлении, ни слова о выжидании, ни слова о пощаде! В выжидании – смерть революции, в беспрерывном, неустанном наступлении – победа»165.
В некоторых пропагандистских текстах «преступная» внешняя война, война с Японией, противопоставлялась праведной внутренней войне; последняя порой объявлялась священной. Листовка Союза латышских социал-демократов, выпущенная в начале 1905 года, гласила: «Да здравствует святая война народа против народных палачей! Долой внешнюю войну, которую народные угнетатели ведут против дельного японского народа, который нам не сделал никакого вреда!»166
Некоторые авторы, которые ранее уже констатировали состояние гражданской войны в России, отмечали, что этот конфликт вступил в качественно иную фазу. П. Б. Струве в «Освобождении» обращался к российским офицерам: «Правительство само начало форменную гражданскую войну. Правда, оно ведет ее давно, но оно вело ее раньше полицейскими средствами. С 9 января, когда с мирными политическими заявлениями выступили большие массы народа, правительство призвало к участию в гражданской войне и русскую армию»167. Такая формулировка была равнозначна призыву сделать свой выбор в условиях уже идущей гражданской войны.
И впоследствии Струве и его политические друзья продолжали употреблять это словосочетание для описания текущей ситуации. В феврале 1905 года автор «Освобождения» (по всей видимости, сам Струве) писал: «Гражданский мир и самодержавие несовместимы в современной России, и мы будем продолжать жить в состоянии гражданской войны, пока самодержавие будет отстаивать себя»168. Такая формулировка предполагала, что только глубокие политические преобразования позволят завершить гражданскую войну и обеспечить гражданский мир.
По мере уступок со стороны власти и обострения политической борьбы взгляды Струве, однако, менялись. В конце 1905 года близкий ему С. Л. Франк писал: «…не только конституции, но и вообще никакого законного порядка в России теперь еще нет, а есть лишь одна гражданская война»169. С этой оценкой, соответствующей его прежним взглядам, Струве теперь уже не согласился, он считал подобное рассуждение «чреватым недоразумениями»170 и указывал на опасности новых забастовок.
Погромы осени 1905 года также способствовали использованию этого понятия в целях политической мобилизации. Радикально настроенный в то время писатель А. В. Амфитеатров находил в таком описании кризиса аргумент для спешного вооружения антимонархических сил и использования революционного насилия:
В России кипит гражданская война. Революции не придется взять эту вину на свою совесть. Она истратила все убеждения, слова и факты, чтобы добиться от старого режима перестройки обветшалого государства путем мирным171.
В то же время не все либералы полагали, что гражданская война уже началась, разрабатывалась и тема предотвращения гражданской войны. Авторы газеты «Русские ведомости» осенью 1905 года видели несколько опасных факторов, которые могли бы вызвать внутренний конфликт. Особый страх либералам внушали черносотенные погромы. Поддержка, оказываемая властями погромщикам, могла привести к опасному развитию событий:
Чего же хотят, о чем хлопочут подающие руку помощи невежественной толпе в ее диком самосуде? Чего они добиваются? Гражданской войны для того, чтобы показать: вот как мы были правы, настаивая на необходимости репрессивных мер? Мести отдельным личностям за неотвратимый и непреклонный ход истории? Смут, беспорядков, раздора?172
Если одни либеральные авторы в начале XX века использовали тему гражданской войны для мобилизации своих сторонников в борьбе с самодержавием, то другие в разгар революции стремились приостановить эскалацию конфликта, играя на страхе перед гражданской войной для критики правительства и побуждая власти пойти на уступки.
Обвинения правительства, поддерживающего погромщиков, в намеренном разжигании гражданской войны приобрели столь широкое распространение, что представители власти сочли необходимым их опровергать. В прессе цитировались слова санкт-петербургского генерал-губернатора, товарища министра внутренних дел Д. Ф. Трепова, который публично заявлял о непричастности правительства к организации погромов:
Я знаю, что меня теперь открыто обвиняют в том, что я – главный виновник и организатор всех происходящих в России ужасов, разгромов, кровопролитий. Нужно ли доказывать, что вовсе не в интересах благоразумного правительства разжиганием народных страстей вызывать на междоусобие, на гражданскую войну173.
В то же время страх некоторых либералов подпитывался и иными тревогами: некоторых из них пугали нарастающие конфликты в сельской местности. Автор «Русских ведомостей» писал: «Достаточно взглянуть, что теперь творится в местностях, пораженных аграрными беспорядками. Над ними уже витает призрак завтрашней гражданской войны между землевладельцами и крестьянами, между самими крестьянами»174.
Если одни авторы выражали беспокойство по поводу возможности начала гражданской войны, то другие считали, что она уже идет; кто-то обдумывал перспективы ее прекращения, а кто-то рассуждал об особенностях политической тактики в специфических условиях гражданской войны, последнее было присуще революционерам разного толка.