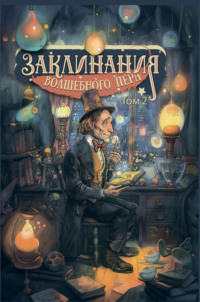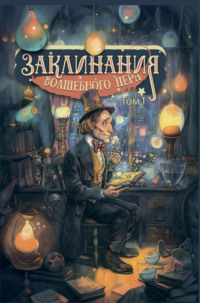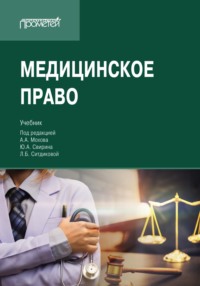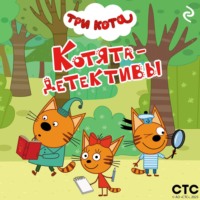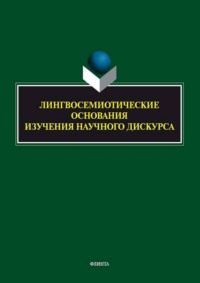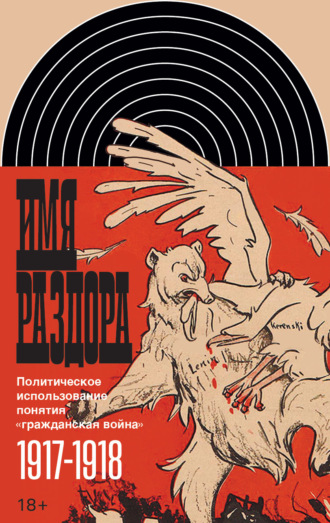
Полная версия
Имя раздора. Политическое использование понятия «гражданская война» (1917–1918)
На восприятие ситуации не одними только революционерами в это время влиял опыт Парижской коммуны, который часто понимался через упоминавшуюся уже работу Маркса «Гражданская война во Франции». Показательно, что этот текст неоднократно переиздавался во время революции175. Редактором одного из новых переводов был В. И. Ленин176. Над редактированием перевода Ленин трудился в июле 1905 года177; можно предположить, что работа лидера большевиков над этим важнейшим для марксистской традиции текстом влияла и на его анализ текущей политической ситуации178.
Вряд ли можно говорить о единой, цельной и непротиворечивой концепции гражданской войны, сложившейся у Ленина; тексты, созданные им в разное время и адресованные разным аудиториям, преследовали различные цели. И все же некоторые темы повторялись политиком, по всей видимости, они были особенно важны для него. Схожие оценки были присущи и другим революционерам, в том числе и тем, которые являлись в это время оппонентами Ленина.
Началом гражданской войны лидер большевиков считал Кровавое воскресенье, в январе он писал: «Льются ручьи крови, разгорается гражданская война за свободу. К пролетариату Петербурга готовы примкнуть Москва и Юг, Кавказ и Польша. Лозунгом рабочих стало: смерть или свобода!»179 Инициатором гражданской войны являлось царское правительство. Тон публикации соответствовал политической задаче, поставленной автором: мобилизация сил для вооруженной борьбы с режимом.
Схожие оценки ситуации мы встречаем и в текстах некоторых оппонентов Ленина: «С 9 января мы вступили в эпоху гражданской войны, в эпоху революции», – писал Ю. О. Мартов. Он также отмечал качественные особенности этой «эпохи»: «…в смысле революционизирования общества эпоха гражданской войны радикально отличается от исторических будней»180.
В отличие от авторов круга «Освобождения» и некоторых социалистов-революционеров, писавших о наличии гражданской войны в России и до 9 января, видные представители русского марксизма рассматривали сложившуюся ситуацию как принципиально новую, требующую радикальной корректировки политической тактики. В этом отношении они следовали скорее работе Маркса «Гражданская война во Франции», в которой говорилось об особенностях классовой борьбы в условиях революции, чем «Манифесту коммунистической партии», где «повседневная» классовая борьба пролетариата описывалась как гражданская война.
В издании же партии социалистов-революционеров, как уже отмечалось, упоминания об идущей уже гражданской войне встречаются и до 9 января 1905 года, но после этого события интерес к данной теме значительно возрастает: «Мобилизованная армия самодержавия и мобилизующаяся под неприятельским огнем армия труда столкнулись в вечно памятные январские дни грудь с грудью, лицом к лицу. Гражданская война началась». И далее слова «гражданская война началась» повторяются вновь и вновь, выделяя смысловые блоки статьи, которая завершается фразами:
Гражданская война начата. Ни слова об отступлении, ни слова о выжидании, ни слова о пощаде! В выжидании – смерть революции, в беспрерывном, неустанном наступлении – победа. И пусть же решительные времена создадут и двинут в бой решительных людей!
Автор публикации в издании эсеров использовал тему гражданской войны для обоснования необходимости вооруженной борьбы с режимом, в том числе для оправдания террора, вооруженных демонстраций и в конце концов – вооруженного восстания. Все те, кто проявлял ранее сомнения и колебания в отношении террора, должны их отбросить, партия должна быть едина в мнении по этому вопросу181.
Для Ленина также характерны повторяющиеся упоминания о совершенно особом, качественно ином характере политической борьбы в условиях идущей гражданской войны, для него это был важный аргумент в спорах с «новоискровцами»: предлагаемые ими решения вполне разумны и приемлемы в обычные, «мирные» периоды, но в условиях гражданской войны их просто невозможно реализовать; а это, в свою очередь, обосновывает актуальные политические задачи, которые ставит Ленин: подготовка вооруженного восстания и ведение «партизанских действий».
Для эсеров упоминание об особом характере политической борьбы в условиях гражданской войны было важной рамкой и при обсуждении вопроса о допустимом революционном насилии, и в дискуссии о возможности проведения террористических акций и экспроприаций; их сторонники утверждали, что исключительная ситуация идущей гражданской войны дает им на это право182.
У некоторых анархистских групп темы гражданской войны и экспроприации также были связаны. Федерация групп одесских анархистов-коммунистов провозглашала:
Открыто и смело призываем мы всех угнетенных, всех голодных к гражданской войне. Мы объявляем гражданскую войну всему существующему строю, мы объявляем ее теперь же, и в основу ее мы кладем великий и плодотворный принцип экспроприации183.
Важным является и утверждение Ленина о том, что, хотя гражданская война была начата политическим противником, но сама ситуация обостряющейся гражданской войны объективно более выгодна революционной партии, имеющей опыт подпольной, конспиративной организации и практики «прямых действий»:
Действительно революционная, закаленная в огне нелегальная партия, которая привыкла к гг. Плеве и не смущается никакими строгостями гг. Столыпиных, может оказаться в эпоху гражданской войны способной к более широкому воздействию на массы, чем иная легальная партия, способная «с желторотой наивностью» становиться на «строго конституционный путь»184.
Такая оценка партии в известной степени свидетельствовала и о самооценке ее лидера, который, по-видимому, полагал, что по сравнению с другими политиками он обладает должными политическими и психологическими качествами, необходимыми для политического руководителя в эпоху гражданской войны.
Как мы видим, не только Ленин, но и лидеры других революционных партий, считавших, что страна живет в условиях гражданской войны, думали, что единственным выходом из нее должна быть победа «народа» и поражение «царизма». Использование понятия гражданская война решало задачи политической мобилизации особого рода, предполагавшей вооруженное противостояние.
В то же время стал нарастать запрос и на выход из состояния гражданской войны. Так, известный резонанс вызвала статья видного общественного деятеля князя Е. Н. Трубецкого, призывавшего революционеров отказаться от политических убийств, а правительство – прекратить казни: «И разве гражданская война, не прекращающаяся в дни первых думских заседаний, не есть вызов самой Думе!» – восклицал он после открытия Государственной думы в мае 1905 года185. Этот призыв к деэскалации гражданской войны нашел положительный отклик у консервативного «Нового времени»186, хотя был в то время отвергнут не только социалистами, но и многими либералами, которые требовали амнистии и прекращения правительственных репрессий, однако не были готовы одновременно осудить террор и другие акции насилия, осуществленные революционерами. Ситуация продолжающейся гражданской войны, по их мнению, не оправдывала репрессии правительства. Автор кадетской газеты писал:
Если жертвы смертной казни считаются сотнями, то жертвы расстрелов – тысячами, может быть, десятками тысяч. Пусть нам не говорят: идет гражданская война. Камни вопиют о чудовищной, безумной, бесцельной жестокости невежественных, отупелых от военной дисциплины или сознательно-зверских укротителей187.
Вместе с тем не все авторы были готовы описывать общественно-политическую ситуацию как уже начавшуюся гражданскую войну: одни, признавая всю сложность и опасность ситуации, были противниками употребления этого понятия и находили иные слова для описания кризиса, а другие полагали, что вооруженное общественно-политическое противостояние еще не достигло такого уровня, когда использование термина гражданская война было бы обоснованным. Угроза гражданской войны, однако, представлялась им вполне реальной и актуальной; ставилась задача ее недопущения.
Нередко призыв предотвратить гражданскую войну исходил от консервативных кругов, которые заявляли, что радикальные социально-экономические и политические преобразования неизбежно будут лишь способствовать переходу вооруженного противостояния на качественно иной уровень. Страх перед угрозой полномасштабной гражданской войны, получивший широкое распространение, использовался для пропагандистского обеспечения консервативного политического курса, исключающего радикальные реформы.
Впрочем, в консервативной среде для характеристики явлений, обозначаемых с помощью понятия гражданская война, чаще употреблялись иные слова, прежде всего – смута188.
Распространению этого термина способствовало несколько обстоятельств. Историческая память о Смуте начала XVII века была очень важна для политической культуры монархического патриотизма189, а события 300-летней давности использовались как ключевая историческая аналогия для интерпретации общественно-политического кризиса в 1905 году; некоторые даже писали о «второй смуте» (ситуация повторится в 1917 году, а затем и во время Гражданской войны, когда консерваторы вновь обратились к Смутному времени для понимания революционного кризиса)190.
К тому же слово смута в начале XX века оставалось и юридическим понятием: глава пятая уголовного уложения, имевшая название «О смуте», состояла из 18 статей, касавшихся самых различных преступлений, которые в других случаях иногда обобщенно именовали «государственными» или «политическими»: от участия в «публичных скопищах» до членства в сообществах, «заведомо воспрещенных в установленном порядке», от оказания «дерзостного неуважения Верховной Власти» до восхваления тяжких преступлений191. Постоянно совершаемые действия, квалифицируемые как преступления такого рода, также заставляли вспоминать о смуте в условиях революции.
Были и иные причины, побуждавшие консерваторов чаще использовать слово смута для описания текущей ситуации. У понятия гражданская война и даже в большей степени у понятия революция, также очень ограниченно используемого и консервативными общественными деятелями, и бюрократами, был немалый потенциал для легитимации насилия. Сам термин гражданская война предполагал вооруженное противостояние членов одного гражданского сообщества. Слово же смута изначально отрицало подобную симметрию: отсылка к событиям XVII века криминализовала и интернационализировала внутренний конфликт: враги, противники и даже оппоненты описывались как «шайки преступников» и/или как орудие внешних врагов, интервентов, желающих ослабить и даже уничтожить Россию. При этом термин смута порой несколько модернизировался, приспосабливался к реалиям начала XX века: появились словосочетания «революционная смута», «гражданская смута».
Другая историческая аналогия, используемая консерваторами и в 1905 году, и в 1917‑м, – пугачевщина. Память о крестьянской войне XVIII века также ассоциировалась в этих кругах с темами преступности и «бунта», жестокой анархической и иррациональной борьбы не только с государством, но и с самой идеей государственности. Пугачев с его сообщниками и Екатерина II с ее генералами и бюрократами не были «согражданами», их нельзя назвать членами одного гражданского сообщества. Подобная аналогия также затрудняла применение понятия гражданская война в консервативной среде.
Было, однако, одно необычайно важное исключение: М. О. Меньшиков, ведущий автор «Нового времени», употребил термин гражданская война в конце 1905 года, а затем неоднократно его использовал. Взрыв насилия осенью привел к тому, что одни авторы (разной политической направленности) стали говорить о принципиально новой фазе гражданской войны, а другие лишь теперь констатировали ее начало.
В ноябре 1905 года Меньшиков писал о реальной угрозе гражданской войны, которую готовы немедленно развязать революционеры:
В столице, где естественно должна решиться судьба анархии, она надвигается неумолимо, как ночь. Разве каждый день с утра до вечера не продаются – и нарасхват! – десятки и сотни тысяч экземпляров мятежных изданий? Разве в этих изданиях не раздаются оглушительные воззвания к гражданской войне? <…> Петербург еще не испытывал внешних нашествий и гражданских войн. Кажется, пришел срок испытать и это192.
На эту публикацию отреагировали современники. Л. Д. Троцкий цитировал слова Меньшикова, чтобы обличить насилие со стороны консервативных сил:
Революция защищает свою героическую грудь от штыков и ножей разбойничьей реакции, – обезоружить ее, связать ее по рукам и по ногам, опрокинуть ее навзничь и наступить на нее казацким сапогом! Эй, палачи, за работу!193
Для Меньшикова гражданская война – это война инородцев, прежде всего выходцев с инородческих окраин империи, против России; это восстание, угрожающее самому существованию державы:
Вовсе это не «великая русская революция», а великая инородческая смута. Строго говоря, это вовсе даже не революция, а под личиной ее форменная война, объявленная России коалицией ее внутренних соседей <…> идет не революция, а действительная война <…> есть ли смысл называть революцией то, что по существу есть война?194
Мысль о том, что сложившуюся ситуацию следует понимать как внутреннюю войну, Меньшиков развивал и в последующих своих публикациях: «Пора понять нам, что это не просто бедствие: это война, и, может быть, самая отчаянная из всех, какие велись за жизнь России»195.
Вопрос о роли национальных территорий в общероссийской гражданской войне стал в это время предметом полемики: так, одни авторы уделяли преимущественное внимание событиям в Польше и на Кавказе, то есть речь шла не о единой гражданской войне, но о ряде гражданских войн в разных частях империи196; другие же говорили об общероссийском характере начавшейся гражданской войны.
Меньшиков не только описывал текущую ситуацию как гражданскую войну, он открыто призывал своих читателей к прямым действиям, соответствующим ситуации внутренней войны, к использованию оружия для подавления политических противников. Такая позиция была присуща и части людей, записывавшихся в это время в правые организации. А. А. Киреев в конце ноября 1905 года сделал запись в дневнике:
Вот она, междоусобная война! Я внес в кассу свой золотой и сделался членом «Союза русского народа». Мой [билет] № 2951. Вот та «guerre civile», которой так испугалась Zizi Нарышкина, когда на днях я ей сказал, что она необходима! Что без этой gue
По мнению современного биографа Киреева, в 1905–1906 годах генерал призывал создавать «белые сотни» и «не останавливаться перед уличными боями и гражданской войной, лишь бы удалось подавить революцию»198.
Нельзя сказать, что позиция Меньшикова разделялась другими авторами «Нового времени», предпочитавшими использовать слово смута для описания текущей ситуации, но все же в этой среде он не был одинок.
В этом параграфе мы в соответствии с задачами нашего исследования предложили читателям интерпретацию цитат, иллюстрирующих применение словосочетания гражданская война в 1905 году. Такая подборка высказываний может создать ошибочное представление о том, что этот термин был для современников ключевым интерпретационным понятием. Вряд ли это соответствовало действительности: слова революция, самодержавие, конституция, вооруженное восстание и, разумеется, слово смута активнее и чаще использовались разными политическими силами. Даже в текстах тех авторов, которые употребляли понятие гражданская война, оно встречалось реже, чем некоторые из этих слов.
Все же даже беглый очерк истории применения этого словосочетания позволяет высказать несколько предположений.
Авторы, представляющие различные сегменты политического спектра, использовали понятие гражданская война, преследуя разные, порой противоположные политические цели. Опыт проживания в условиях серьезных конфликтов, которые описывались частью авторов как гражданская война или гражданские войны, оказал воздействие на российскую политическую культуру. Уже в 1905 году Ленин писал, что 9 января «рабочий класс получил великий урок гражданской войны; революционное воспитание пролетариата за один день шагнуло вперед так, как оно могло бы шагнуть в месяцы и годы серой, будничной, забитой жизни»199. В начале 1905 года многие жители России, возмущенные Кровавым воскресеньем, разделяли если не мнение Ленина, то острое чувство негодования, которое очевидно в тексте лидера большевиков, и эту эмоцию для политической мобилизации в новых политических условиях использовал не только он. Последующие события, полные насилия разного рода, заставили с тоской вспоминать «годы серой, будничной и забитой жизни» и многих из тех, кто изначально поддерживал гражданскую войну с самодержавием. И это тоже был урок революции 1905 года. Одни приобрели навыки решения политических и социальных проблем с помощью оружия, а другие испытывали страх перед повторением гражданской войны и готовы были поддержать использование силы ради сохранения порядка.
Память о революции 1905 года становилась элементом политической культуры. Многие участники революции 1917 года в своих действиях опирались на свой жизненный опыт, а для политических аналитиков события 12-летней давности становились излюбленной исторической аналогией – наряду со Смутой начала XVII века и Французской революцией, пугачевщиной» и Парижской коммуной.
Во время Первой российской революции наблюдается качественно новая фаза милитаризации политического дискурса. Понимание революции как войны, присущее и дореволюционным текстам, становится буквальным, влияя на выбор политической тактики, ярким примером чего могут служить разные источники, в том числе тексты Ленина и статьи Меньшикова.
Удивительно, однако, что интенсификация политического использования понятия гражданская война не стимулировала научного изучения описываемого им социального явления. Даже опыт проживания в условиях кризиса не подвиг, насколько можно судить, российских историков и юристов, социальных и политических мыслителей, военных теоретиков и философов сделать гражданскую войну предметом специального исследования. Словосочетание, пробуждавшее сильные эмоции, не становилось аналитическим понятием (некоторое исключение составляли марксисты). Феномен гражданской войны оставался преимущественно предметом толкований журналистов и политиков.
3. Тема гражданской войны в эпоху мировой войны
Первая мировая война, породившая цепь внутренних конфликтов, часть из которых описывалась современниками, а затем и историками как гражданские войны, оказала воздействие на концептуализацию гражданской войны. Беспрецедентный опыт глобального конфликта побуждал современников произвести ревизию используемых аналитических инструментов. Впрочем, и накануне Первой мировой войны произошли важные события, заставлявшие думать о сущности гражданских войн.
Тема гражданской войны была актуализирована в 1914 году в связи с планами британского правительства принять закон о введении самоуправления в Ирландии (гомруль), согласно которому в этой стране формировался собственный парламент200. Тем самым удовлетворилось бы давнее требование ирландского национального движения, но эта серьезная реформа вызвала протесты лоялистов, по преимуществу протестантов, живших в основном в Северной Ирландии, которые опасались, что в стране установится господство католического большинства. Разговоры о гражданской войне в Ирландии шли уже в 1912 и 1913 годах, но накануне мировой войны ситуация необычайно обострилась; и сторонники гомруля, и лоялисты готовились к вооруженному противостоянию, а часть высокопоставленных офицеров британской армии заявила, что они не будут действовать против лоялистов. Британские войска и полиция стреляли по сторонникам гомруля. Есть основания полагать, что лишь мировая война предотвратила гражданскую войну в Ирландии: после вступления Британской империи в войну и многие сторонники гомруля, и очень многие лоялисты добровольно записывались в армию, став основой элитных войсковых соединений. Конфликт, однако, был лишь отсрочен, но не предотвращен: в 1916 году в Дублине произошло неудачное восстание сторонников независимости Ирландии, а после окончания мировой войны, в 1919 году, началась война за независимость. Ситуация, однако, к этому времени качественно изменилась, что и проявлялось в описании этого конфликта: термин гражданская война уже не был столь востребован201.
О ситуации в Ирландии в 1914 году писала российская пресса. «Известия министерства иностранных дел» передавали содержание речи Георга V, посвященной «ульстерскому вопросу». Монарх заявил, что «исключительные обстоятельства оправдывают действия Короля в такое время, когда слова „гражданская война“ находятся на устах наиболее ответственных и трезвомыслящих людей»202. Об опасности гражданской войны в Ирландии российские читатели могли узнать и из переводов художественной литературы203. По мере нарастания конфликта российская пресса передавала заявления британских политиков, рассуждавших о гражданской войне. Так, первый лорд Адмиралтейства У. Черчилль произнес в палате общин в апреле 1915 года: «…если будет восстание – мы постараемся его подавить; если будет гражданская война, мы постараемся в ней победить»204. Подобные высказывания вызывали интерес, они могли способствовать распространению языка гражданской войны.
Вместе с тем не всякое масштабное силовое противостояние воспринималось как гражданская война. Началу мировой войны предшествовали острые социальные конфликты в Петербурге: демонстрации рабочих, стачки и митинги переросли в массовую забастовку, сопровождавшуюся столкновениями с войсками и полицией; дело доходило до строительства баррикад и перестрелок205. Хотя эти акции и воспринимались порой как революция, они не оценивались, насколько мы можем судить, как гражданская война, большее распространение получил дискурс хулиганства; современники разных взглядов широко использовали язык, криминализующий действия протестующих.
На использование же понятия гражданская война в связи с началом Первой мировой войны влияло несколько обстоятельств.
По крайней мере с XVIII века существовала интеллектуальная традиция описания войн между европейскими государствами (а иногда и войн вообще) как гражданских войн, достаточно назвать имена Вольтера, Фенелона, Руссо, Гюго. Неудивительно, что некоторые образованные европейцы воспринимали Первую мировую войну как войну гражданскую. Немецкий художник Франц Марк, вскоре погибший на фронте, назвал войну «европейской гражданской войной»206, войной между носителями одной и той же европейской культуры. Такое понимание конфликта оказало воздействие на формирование концепций «долгой европейской гражданской войны», начало которой нередко – хотя и не всегда – датируется 1914 годом207.
Восприятие Первой мировой войны как войны гражданской и/или братоубийственной противостояло различным тактикам создания и поддержания гражданского мира – заключаемого на время войны соглашения о сотрудничестве основных политических и социальных сил воюющих стран; частью этого соглашения должен был стать классовый мир или классовое перемирие, а важными его участниками – профсоюзы и социалистические партии. Так, в июле 1914 г. обложка «Сатирикона» с рисунком Н. В. Ремизова изображала рабочего, крестьянина, чиновника и интеллигента, дружно взявшихся за меч208.
Ф. Л. Блументаль, в 1920‑х годах исследовавший пропаганду эпохи мировой войны, писал: «Гражданский мир – стержень всей пропаганды, и вокруг него строилась в частности вся система пропаганды подготовки войны и обработки населения во время войны»209. Вывод советского военного комиссара может показаться пристрастным, но его фактически разделяли и разделяют другие авторы, изучающие феномен гражданского мира, основой которого был отказ от межпартийной и межклассовой борьбы внутри страны ради успешного продолжения войны.
Гражданское объединение, в которое входили и многие социалисты, в том числе и недавние противники войн, объявлялось высшей политической ценностью и даже сакрализовалось, во Франции оно и именовалось «священным союзом» – Union sacrée210. Зримым воплощением этого единства воюющих наций стали патриотические манифестации в европейских городах. Степень этого единства, впрочем, не следует преувеличивать: историки впоследствии деконструировали миф об объединяющем «духе 1914 года», согласно которому население переживало патриотическое единение, участвовало в демонстрациях и парадах, восторженно провожало солдат на войну211.