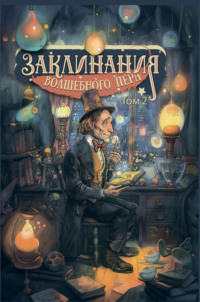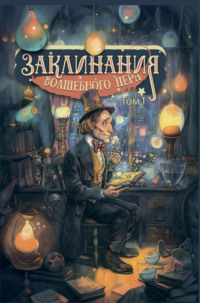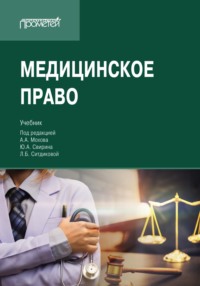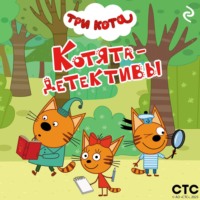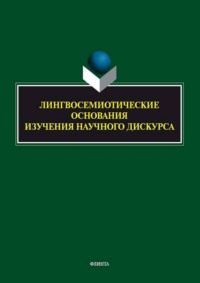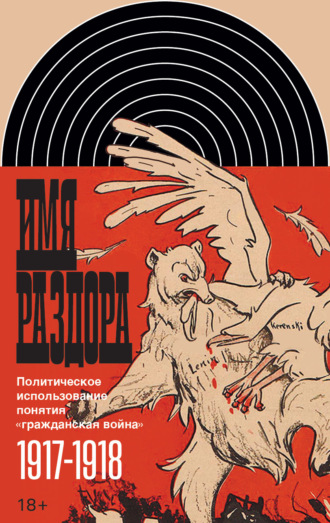
Полная версия
Имя раздора. Политическое использование понятия «гражданская война» (1917–1918)

Имя раздора. Политическое использование понятия «гражданская война» (1917—1918)
УДК [355.426(47+57)«1917/1918»]:001.4
ББК 63.3(2)612в3
И50
Редакторы серии «Интеллектуальная история» Т. М. Атнашев и М. Б. Велижев Коллективная монография под ред. Б. И. Колоницкого (отв. ред.), К. В. Годунова, А. В. Резника, К. А. Тарасова Монография рекомендована к печати ученым советом Санкт-Петербургского института истории РАН и ученым советом Европейского университета в Санкт-Петербурге. Книга подготовлена в рамках исследования, проводимого в Европейском университете в Санкт-Петербурге при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 20-18-00369-П «Процессы легитимации насилия: культуры конфликта в России и эскалация гражданской войны»
Имя раздора: Политическое использование понятия «гражданская война» (1917—1918) / М.: Новое литературное обозрение, 2025. – (Серия «Интеллектуальная история»).
В начале XXI века гражданские войны все чаще становятся предметом политических дебатов и научного анализа. Какие культурные механизмы превращают отдельные конфликты в большие пожары гражданских войн? В поисках ответа на этот вопрос коллектив авторов пытается проследить, как в 1917–1918 годах в России использовалось понятие «гражданская война». Соединяя подходы различных школ интеллектуальной, культурной и политической истории, исследователи анализируют, какие значения вкладывались в этот термин, как им манипулировали различные политические силы, какие контексты определяли его употребление и каким было восприятие этих высказываний адресатами. Одна из главных задач книги – понять, как предварительное проговаривание насилия по отношению к «внутренним врагам» способствует реальной эскалации конфликтов.
В оформлении обложки использована иллюстрация «Борьба за мир в России». Der Wahre Jacob. 1917. Heft 819 (4 Dezember).
ISBN 978-5-4448-2886-1
© Б. И. Колоницкий, состав, введение, заключение, 2025
© Авторы, 2025
© Д. Черногаев, дизайн обложки, 2025
© АНООВО «ЕУСПб», 2025
© OOO «Новое литературное обозрение», 2025
Введение
В первой четверти XXI века о гражданских войнах говорят и пишут много, может быть, даже слишком много.
Мы завершаем работу над этой книгой в 2025 году. В начале прошлого года на экраны вышел американский фильм «Гражданская война»1. По всей видимости, он был задуман в связи с президентскими выборами, которые состоялись в ноябре. В центре сюжета этой кинокартины – воображаемый вооруженный конфликт между федеральным правительством США и союзом противостоящих ему штатов, восставших против президента страны. Антиутопия отражает нарастающие страхи перед политическим размежеванием Америки, расколом, который проявляется уже не только в партийном, но и в культурно-политическом противостоянии, порождающем риторику гражданской войны. Само по себе это свидетельствует об актуализации темы гражданских войн в современном общественном сознании. Некоторые консервативно настроенные американские политики годами развивают идеи о праве народа на восстание, а центристы и левые рассуждают об уже идущей в США холодной гражданской войне. Говорят о перспективах гражданской войны и в европейских странах: одних пугает распространение популистских и антилиберальных настроений в регионе (эту тему можно встретить в выступлениях Э. Макрона), других – весь комплекс проблем, связанных с миграциями, и нередко эти темы переплетаются2. Все эти страхи кажутся явно преувеличенными, однако обращение к понятию гражданская война и образам, визуализирующим этот конфликт, симптоматично.
О возможной в будущем гражданской войне рассуждают и популярные современные писатели, чьи работы рассматриваются историками литературы как часть восходящей к древности традиции описания гражданских войн. Главному герою популярного романа Мишеля Уэльбека «Покорность» (2015), жанр которого сам автор называет «политической фантастикой», принадлежат слова: «Франция, как и другие западноевропейские страны, давно дрейфует к гражданской войне. Это очевидно…» Страх перед гражданской войной, который испытывают герои Уэльбека, влияет на описываемые автором политические процессы; этот страх, вызванный межэытническим и межконфессиональным противостоянием, присутствует в описаниях европейских городов: «…в Брюсселе, в большей степени, чем в любой другой европейской столице, чувствовалась близость гражданской войны»3.
Нельзя не сказать и о том, что гражданская война привлекает ныне особое внимание и некоторых философов. В свое время М. Фуко, отталкиваясь от известного высказывания К. фон Клаузевица, отметил: «И если верно, что внешняя война является продолжением политики, то мы должны сказать в ответ, что политика является продолжением гражданской войны»4. Для французского философа, полемизировавшего с той традицией понимания гражданской войны, которая восходит к Т. Гоббсу, гражданская война на время стала важнейшим понятием, центральным для изучения сферы политического. Впоследствии некоторые философы также рассматривали этот термин как важнейшее парадигматическое понятие, достаточно вспомнить книгу Дж. Агамбена5.
Впрочем, некоторые исследователи полагают, что в современных вооруженных конфликтах исчезает сама возможность отличать войны между государствами от внутренних войн. Новая ситуация возникает и в результате глобализации, уровень взаимосвязанности конфликтов становится иным, что позволяет ряду ученых вновь говорить о мировой гражданской войне6. Термин мировая гражданская война, широко использовавшийся радикальными социалистами и коммунистами во время Первой мировой войны и Гражданской войны, получает новую жизнь, приобретая иные смыслы.
Обостренный интерес к гражданским войнам и распространенные страхи перед гражданской войной далеко не всегда свидетельствуют о ее реальной угрозе, но их тиражирование, нередко имеющее своей целью манипуляцию общественным сознанием, часто является симптомом обострения социальных и политических проблем развитых стран, проблем не всегда проговоренных.
Другой, еще более важной причиной пробуждения интереса к феномену гражданской войны являются современные вооруженные конфликты. Если с середины XVII века войны велись по преимуществу между государствами, то после окончания Второй мировой войны количественно преобладали всевозможные внутренние вооруженные конфликты, которые определялись – по крайней мере, частью экспертов и некоторыми их участниками – как гражданские войны. Эта тенденция усилилась после 1989 года: лишь 5% войн последних десятилетий были вооруженными конфликтами между государствами. Гражданские же войны и в начале XXI века с трудом поддаются учету: достаточно упомянуть Афганистан, Ирак, Йемен, Ливию, Сирию, Сомали, Южный Судан… Такой список никак нельзя назвать полным или точным: одни участники и исследователи этих конфликтов считают их гражданскими войнами, а другие отрицают эти характеристики; в настоящее время нет общепризнанного определения гражданской войны. Это проявлялось и в описаниях вооруженных конфликтов прошлого: одни авторы считали, что династические, религиозные, антиколониальные войны и крупные этнические конфликты можно считать гражданскими войнами, а другие с этим суждением не были согласны, полагая, что чрезмерно расширительное использование термина затрудняет понимание сути самого явления. Дискуссии исследователей по этому поводу продолжаются и по сей день, и нет никаких оснований полагать, что они прекратятся. Да и участники конфликтов, как уже отмечалось, в разных ситуациях с разной степенью готовности применяли и применяют этот термин, ибо его использование влечет за собой политические, юридические и экономические последствия, которые могут быть невыгодны какой-либо из противоборствующих сторон7.
По оценке некоторых исследователей, в 2015 году в мире одновременно шло более сорока гражданских войн8. Иные авторы называют другие цифры, однако сами дискуссии об определениях вооруженных конфликтов и принципах их классификации свидетельствуют о востребованности изучения и современных гражданских войн, и истории внутренних вооруженных конфликтов. Актуальные и для первой четверти XXI века задачи прекращения, ограничения, локализации и предотвращения гражданских войн придают особое значение изучению различных аспектов зарождения, ведения и завершения внутренних вооруженных конфликтов.
В этом отношении сложнейший грандиозный комплекс разнообразных и разнородных вооруженных конфликтов на постимперском пространстве, совокупность которых мы вслед за многими современниками не вполне точно называем Гражданской войной в России, представляет особый интерес не только для историков.
История этой Гражданской войны важна и в другом отношении: нередко межгосударственные масштабные войны порождают войны гражданские, переплетаясь с ними. Например, в годы Второй мировой войны во Франции военные и полицейские формирования режима Виши сражались с силами Сопротивления, этот «франко-французский» вооруженный конфликт описывается частью исследователей как гражданская война, и именно такой характер этого противостояния делал память о Виши в послевоенной Франции особенно конфликтогенной9. Вооруженная борьба фашистов и антифашистов в Италии в 1943–1945 годах также приобретала характер гражданской войны, переплетающейся с войной мировой10. Современные историки часто описывают и Гражданскую войну в России как продолжение – с иными средствами, в иной форме и с иными силами – Первой мировой войны. Подписание Брестского мира, например, не привело к тому, что постимперское пространство было исключено из глобального противоборства11.
Важен также вопрос о связи революций и гражданских войн. Известно, что В. И. Ленин, опираясь на некоторые тексты Маркса, описывал порой революцию как уже идущую гражданскую войну (этот сюжет рассматривается в нескольких главах этой книги). На этом основании историк И. Гетцлер характеризовал взгляды лидера большевиков на революцию как «упрощенные, ограниченные и жестокие», считая их специфической особенностью политического мышления Ленина12. Между тем о тесной связи революций и гражданских войн писали и представители иных политических лагерей. Н. А. Бердяев, имевший свой опыт проживания в условиях революции и гражданской войны, заявлял: «Гражданские войны во время революции являются роковой неизбежностью…»13 Автор «Вех» вряд ли сам мог иначе относиться к феномену революции, но о связи масштабных революций и гражданских войн пишут и современные авторитетные ученые: «Любая великая революция – гражданская война»14. Фактически тем самым повторяется и тезис В. И. Ленина, который, как мы увидим в этой книге, неоднократно писал об этом в 1917 году, хотя и совершенно иначе, чем Бердяев, относился и к революциям, и к гражданским войнам15. Но не являются ли такие утверждения телеологичными? Не знаем ли мы отдельных случаев сравнительно мирных революций? Не способствует ли подобное понимание революций тому, что страх перед гражданской войной использовался и используется для блокирования революционных преобразований, а порой и всяких глубоких общественно-политических изменений, становясь препятствием для реформ? Это само по себе делает актуальным изучение политического использования страха перед гражданскими войнами, которое, как мы видим, наблюдается и по сей день.
Гражданские войны становятся глобальной проблемой, они представляют собой особый вызов для нынешнего поколения политиков и дипломатов, для спецслужб и военных, для международных гуманитарных организаций и врачей, противостоящих эпидемиям и голоду, для связанных со всеми этими группами экспертных сообществ: политологов, социологов, экономистов, юристов и – не в последнюю очередь – для историков. В настоящее время многие исследователи, представляющие разные дисциплины, обратились к изучению гражданских войн; следствием чего стало появление специальных выпусков академических периодических изданий16, даже создание междисциплинарных научных журналов, посвященных изучению гражданских войн17. Возникают и соответствующие книжные серии18. В настоящее время под руководством профессора Роберта Герварта (Университетский колледж в Дублине) реализуется большой исследовательский проект, в центре внимания которого находятся внутренние вооруженные конфликты в Европе в период, именуемый «веком европейских гражданских войн» (1914–1949)19. Еще более симптоматично создание новых научных центров, посвященных исследованиям гражданских войн20.
Вряд ли изучение такого сложного явления, как гражданские войны, будет плодотворным, если использовать какой-то один исследовательский подход. Мы же хотим посмотреть на Гражданскую войну преимущественно через призму культурной истории, учитывая результаты изучения социальной, интеллектуальной и прежде всего политической истории. Авторы настоящего исследования исходят из представления о том, что гражданским войнам предшествует упреждающая культурная легитимация насилия по отношению к противнику, к потенциальному «внутреннему врагу», что проявляется в предварительном проговаривании подобного насилия, в воображении, визуализации и риторическом оформлении грядущего насилия. Изучение культурных аспектов политических мобилизаций и иных форм подготовки гражданских войн представляет, по нашему мнению, немалый интерес. В этом отношении важны известные работы, посвященные различным аспектам политической культуры Французской революции XVIII века, которые повлияли на изучение истории революций и гражданских войн в других странах и в иные эпохи21.
Такой подход вызывает, впрочем, возражения со стороны части «стасиологов» – социологов и политологов, сопоставляющих различные гражданские войны и революции. С. Каливас, автор одной из последних обобщающих работ, посвященных логике насилия в гражданских войнах, пишет, что теории, объясняющие насилие с помощью изучения эмоций, культуры и идеологии, неубедительны22, он предлагает социологические объяснения процессов эскалации гражданских войн. При всей важности этого подхода представляется все же, что изучение языка политической мобилизации в качестве одного из факторов скатывания страны к гражданской войне имеет немалое значение. Показательно, что и сам Каливас, отрицая значение культурных аспектов гражданских войн, постоянно возвращается к тому, как гражданские войны проговаривались и во время конфликтов, и в воспоминаниях их участников23.
Если же согласиться с тем, что язык и культура важны для понимания гражданских войн, то первоочередной задачей является изучение тех слов, с помощью которых современники описывали масштабные вооруженные конфликты на разных этапах их подготовки и протекания. В центре нашего исследования – политическое использование понятия гражданская война в 1917–1918 годах.
Не существует, как уже было сказано, единого определения этого термина, и мы не планируем его давать. Мы пытаемся изучить особое самосознание людей эпохи революции и гражданской войны, реконструируя те смыслы, которые они вкладывали в понятие гражданская война, и те цели, которые преследовали политические акторы, его использовавшие. Через описание различных случаев применения понятия гражданская война (а также его отрицания, табуирования) мы хотим посмотреть на процессы политической борьбы на разных уровнях; это позволит лучше понять, как, с помощью каких культурных механизмов отдельные очаги насилия превращались в большие пожары гражданской войны. Как проговаривание гражданской войны – в том числе и с помощью этого понятия – связано с эскалацией разных конфликтов и с попытками предотвращения, а затем и прекращения гражданской войны? Это самый важный вопрос, который мы задаем в этой книге.
Такая постановка вопроса имеет и некоторое отношение к дискуссии о хронологических рамках Гражданской войны на территории бывшей Российской империи: известно, что разные авторы относят ее начало к совершенно разным событиям. Одни авторы традиционно считают, что Гражданская война начинается с событий мая–июня 1918 года, другие признают главным рубежом захват власти большевиками в октябре 1917 года, а третьи полагают, что уже и период с февраля по октябрь был временем специфичной гражданской войны24. Так, например, с событиями Февраля 1917 года связывал начало Гражданской войны Ю. А. Поляков25. Дж. Смил, автор важной обобщающей работы о гражданских войнах в России, отметил, что весь период с февраля по октябрь 1917 года, в течение которого все значительные политические, военные и социальные силы все дальше отходили от компромисса, но еще не переходили к открытой вооруженной борьбе, лучше всего можно охарактеризовать как период необъявленной и «странной» гражданской войны26. Хотя нас интересует прежде всего вопрос о том, как начинались и как проговаривались гражданские войны, а не то, когда именно они начинаются, но мы надеемся внести некоторый вклад в эту дискуссию о хронологических рамках гражданской войны, изучая то, как современники в разное время ставили вопрос о подготовке, начале, предотвращении и прекращении гражданской войны.
Если относительно начала Гражданской войны продолжаются дискуссии, то никто, однако, не спорит с тем, что в конце 1918 года она уже шла, поэтому для понимания культурной подготовки комплекса крупных вооруженных конфликтов важен прежде всего изучаемый нами период (февраль 1917 – ноябрь 1918 года). Мы изучаем те слова, те риторические приемы, с помощью которых описывалось все более сильное «предчувствие гражданской войны» – здесь мы не можем не вспомнить знаменитую картину Сальвадора Дали, созданную в год начала Испанской гражданской войны (1936–1939).
Наше исследование находится на пересечении нескольких исследовательских традиций, но мы, признавая их бесспорное влияние, не отождествляем себя полностью с этими авторитетными и весьма востребованными ныне научными направлениями.
Нам представляется важным подход, предлагаемый К. Скиннером и некоторыми другими представителями Кембриджской школы истории идей, которые подчеркивают важность реконструкции контекста политического высказывания, особое внимание уделяя намерениям и целям его автора. Мы также считаем необходимым анализировать тексты, созданные «второстепенными» участниками политического процесса. Только так можно изучать политический дискурс эпохи, без понимания которого исследование борьбы за власть невозможно27.
Вместе с тем наш подход весьма отличается от трудов Кембриджской школы, что обусловлено предметом настоящего исследования: нас интересует интерпретация текстов через контекст, но в большей степени для нас важно понимание контекста, прежде всего контекста политического, через историю употребления словосочетания гражданская война.
Наш подход отличается и от немецкой истории понятий (Begriffsgeschichte), изучающей важнейшие для немецкой культуры термины на основе текстов авторитетных авторов эпохи и подробных академических словарей28. Все же для нашего проекта представляет значительный интерес изучение понятий революция, бунт, смута, гражданская война и их истории, предпринятое Р. Козеллеком и его коллегами в рамках этого знаменитого научного проекта29.
Особенно же важно для нас исследование развития в истории идеи гражданской войны, выполненное Д. Армитеджем, которого считают представителем второго поколения Кембриджской школы30. Эта работа привлекла большое внимание специалистов, представляющих различные научные дисциплины31. В книге исследуется история развития основных концепций гражданской войны в европейской интеллектуальной традиции: от их зарождения в Древнем Риме и до наших дней. Для этого Армитедж привлекает многочисленные и разнообразные источники на нескольких языках: труды философов, историков, юристов, сочинения политиков и государственных деятелей, произведения писателей и поэтов. Этот автор, однако, не уделил должного внимания влиянию марксизма на описания гражданских войн их современниками; между тем его воздействие на многие внутренние конфликты XX века было чрезвычайно большим. Язык российской Гражданской войны, испытывавший воздействие европейской интеллектуальной традиции и в то же время на нее влиявший, также не рассматривался Армитеджем.
Мы же, в отличие от всех перечисленных авторов, уделяем внимание не только «второстепенным», но и «третьестепенным» участникам политического процесса; некоторых из них никак нельзя отнести к числу важных политических акторов, а иногда для нас важны свидетельства и аполитичных современников. Прежде всего нас интересуют политические акторы разного уровня, соответственно, в центре нашего внимания – заявления органов государственной власти и общественно-политических организаций, высказывания и публикации их лидеров. Для исследователей политического языка важны резолюции митингов и собраний, агитационные и пропагандистские материалы, публицистика и аналитика разного рода. Многие подобные тексты публиковались в газетах и журналах, поэтому пресса является незаменимым источником, и в своей работе мы старались привлечь разные периодические издания, имеющие различную политическую направленность и ориентированные на разные группы читателей. Весьма важны для нас политические словари, рассчитанные на массового читателя и фиксирующие нормативные для разных политических сил расшифровки, интерпретации понятия гражданская война32. Наконец, интерес для нас представляют синхронные источники личного происхождения – дневники и письма, которые позволяют судить о восприятии и понимании, усвоении и отторжении политических посланий на индивидуальном уровне.
Наличие схожих мотивов и интерпретаций на разных «этажах» политических сообществ и в разных сегментах политического спектра позволяет делать некоторые выводы относительно общих тенденций. Асимметричность же описания и восприятия ситуации заставляет высказать предположения относительно политических условий бытования термина гражданская война. Мы полагаем, что изучение различных случаев использования этого понятия на разных уровнях позволит по-новому посмотреть на историю его употребления. Мы пытаемся реконструировать всевозможные описания и интерпретации этого важного политического конфликта, сопоставляя различные источники и помещая их в контекст события. Особое внимание мы уделяем использованию понятия гражданская война, его синонимам и иным словам, описывавшим этот конфликт, а также тем образам врага, которые возникли и активно использовались во время острого политического противостояния и после его завершения. Мы ставим перед собой и более сложные задачи, пытаясь рассмотреть и интерпретировать случаи неиспользования, табуирования понятия гражданская война, замены его иными словами.
Мы полагаем также, что для понимания языка революции и гражданской войны большое значение имеют подходы, разработанные историками эмоций, прежде всего теми учеными, кто изучал эпохи радикальных социально-политических переворотов. Термины, использовавшиеся участниками событий, не были бесстрастными абстрактными понятиями; они не только отражали эмоциональное состояние авторов, но и нередко употреблялись для того, чтобы управлять эмоциями адресатов политических посланий, намеренно пробуждая чувства энтузиазма, страха или ненависти. Особенно полезны для нас те работы, в которых изучаются эмоции, сопровождавшие ход революций, прежде всего труды по истории Французской революции XVIII века33. Авторы новейших работ о Российской революции также уделяют немалое внимание анализу эмоций: без этого трудно адекватно понять политические, социальные, экономические и культурные конфликты эпохи34. Изучение эмоционального фона подготовки Гражданской войны и эмоционального фона использования этого понятия – одна из задач книги.
Через историю использования понятия мы стараемся лучше понять борьбу за власть в эпоху революции, поэтому для нас важны, разумеется, труды историков, в особенности тех из них, кто изучал политический язык и политическое сознание. Уже довольно давно В. И. Миллер, например, отмечал, что исследование многозначности понятия гражданская война весьма важно для понимания массовой психологии революционной эпохи35. В нашем исследовании мы опирались в том числе и на отечественную традицию изучения политического сознания эпохи революции, прежде всего на работы представителей «Ленинградской школы». Для нас особенно важны тексты Ю. С. Токарева, исследовавшего «народное правотворчество», Г. Л. Соболева, изучавшего революционное сознание рабочих и солдат Петрограда, О. Н. Знаменского, анализировавшего общественную психологию (в том числе изменение эмоционального настроя) различных групп интеллигенции в 1917 году36. Эти работы продемонстрировали, что исследование политического языка и массовой культуры может существенно расширить наши представления о политической истории.