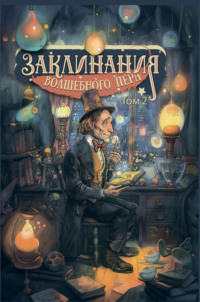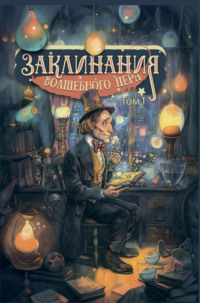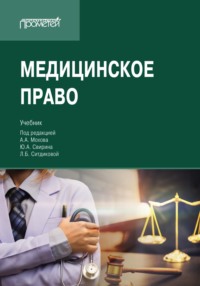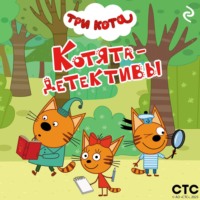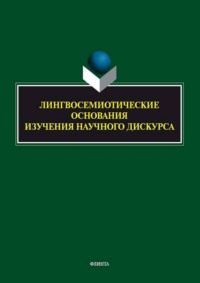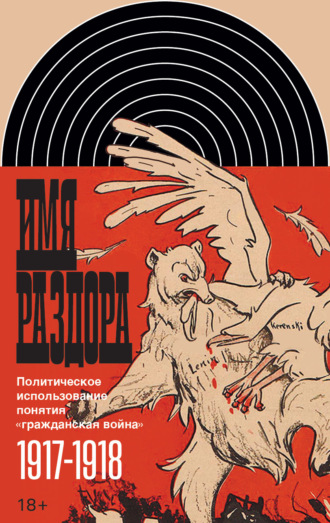
Полная версия
Имя раздора. Политическое использование понятия «гражданская война» (1917–1918)
Среди книг, переведенных на русский язык и изданных в России, в которых рассматривался этот термин, можно назвать исторические сочинения, где как гражданская война описывались и события европейской истории Нового времени: например, то, что происходило во Франции при Карле IX и Генрихе III, или Война Алой и Белой розы82. А. И. Подлисецкий, выпустивший в начале XIX века перевод переписки Екатерины II с Вольтером, так переводит одну из фраз письма Вольтера 1771 года, саркастически отзывавшегося о французском судебном сословии: «Они ведут на письме гражданскую войну, похожую на междоусобную войну мышей с лягушками»83. Вольтер использовал образ «Батрахомиомахии» (пародии на гомеровскую «Илиаду»); при этом речь шла уже не об истории, а о современности, и несомненно, что французский аналог понятия гражданская война был знаком российской императрице.
Это подтверждается тем, что в манифесте «О начатии войны с Оттоманскою Портою» 1768 года Екатерина II ссылалась на угрозу «явной опасности и неизбежных бедствий гражданской войны и междоусобия»84 как на причину, заставившую ее ввести российские войска на территорию Речи Посполитой. Возможно, что подобное описание событий Барской конфедерации и Колиивщины как гражданской войны было самым ранним примером использования этого понятия российским лидером в целях практической политики, для обоснования интервенции.
«Гражданская или междоусобная война» упоминается в истории Испании, переведенной с французского, которая была напечатана в 1782 году85. В середине или во второй половине XVIII века была переведена названная выше книга Э. К. Давилы, получившая в русском переводе название «История междоусобных во Франции войнах» (перевод этот остался неопубликованным)86.
Термин использовался и при переводе с английского сочинения, изданного в 1811 году, в ней речь шла о французских Религиозных войнах XVI века: «Несправедливость и вероломство Двора заставили опять протестантов прибегнуть к оружию. Конде и Колиньи подняли знамя, и гражданская война вновь началась»87. В книге термин гражданская война приобретает тираноборческое, по сути своей революционное значение:
Люди иногда с терпением несут иго. В них часто недостает того мужества, которое вдыхает решимость скорее умереть, чем влачить жизнь в рабстве. Есть время, когда они повинуются и вместе ненавидят своих тиранов. Но если зло возросло уже до такой степени, что никакие средства не могут исправить его; если чудовища пожирают самое их существование, отнимают у них последний остаток свободы и не оставляют ничего, кроме рабства и цепей, тогда они умеют истребить своих притеснителей. Тогда возгорается гражданская война, которая раскрывает дарования, таившиеся во мраке, и творит неизвестные пособия; возникают необыкновенные люди и являют себя достойными путеводительствовать их сограждане. Без сомнения, это страшное пособие, – смутная и кровопролитная эпоха, в которую Государства испытывают жестокие потрясения. Но оно иногда необходимо; иначе вольность не возвратна. В то время народ, принужден будучи разорвать общественный договор, чтобы получить неотъемлемые права свои, совершает чудеса храбрости88.
Любопытно, что тираноборческое сочинение такого рода было опубликовано в Российской империи.
В переводах на русский язык исторических трудов начала XIX века как гражданские войны описывались разные вооруженные конфликты прошлого: восстание Томаса Мюнцера89, восстание в Вандее во времена Французской революции90 и, разумеется, гражданские войны в Древнем Риме91. Как гражданские войны описывались также междоусобицы в Древней Хазарии92 и в Перу – накануне прибытия конквистадоров93. Словосочетание встречается и в переводах на русский язык произведений художественной литературы94.
В переводе книги немецкого историка А. Герена – одном из первых обобщающих трудов по древней истории – описывались и «ужаснейшие гражданские войны»95 эпохи заката Римской республики.
Не позже 1811 года термин появляется и в оригинальных сочинениях русских авторов. Так, рассказывая о вооруженных конфликтах в разных местностях Франции во время революции, автор, биограф А. В. Суворова Е. Б. Фукс пишет, что в Тулузе вспыхнула «гражданская междоусобная война»96.
Термин использовался порой и для описания современных конфликтов. В датированных 1839 годом (но опубликованных лишь в 1905 году) «Записках о Сирии и Палестине» В. Г. Теплякова, прикомандированного к константинопольской миссии, упоминаются «анархия и распря, переходящая иногда в настоящую гражданскую войну» в отдельных провинциях Египта97.
Со временем термин стал изредка применяться и для описаний событий российской истории, прежде всего истории XVII века98.
Некоторые образовательные программы способствовали распространению этого понятия. Воспитанники российских учебных заведений знакомились с историей гражданских войн в Риме, соответствующие темы освещались в школьных пособиях99. Гимназисты шестого класса Ларинской гимназии в Санкт-Петербурге в 1842/43 учебном году проходили по грамматике Н. Ф. Белюстина100 переводы с русского на латинский текстов, которые в отчете о занятиях обозначены как «первая гражданская война, первое триумвиратство и вторая гражданская война»101. Это давало учащимся представление о термине, хотя и связывало его преимущественно с одним историческим периодом истории Рима, а не с социальным явлением, присущим разным эпохам. В некоторых учебниках и английская революция описывалась как гражданская война.
Итак, не позже второй четверти XVIII века русские читатели познакомились с некоторыми значениями термина гражданская война, а во второй половине этого столетия русские авторы начинают его использовать и в собственных сочинениях; в первой половине XIX века образованным жителям империи термин был хорошо знаком по разным источникам. Но к этому времени понятие гражданская война стало уже испытывать влияние нового важного концепта – концепта революции, а отчасти и было потеснено им.
Первоначально термин революция использовался в астрономии и астрологии, но постепенно его стали употреблять для описания политических процессов прошлого и настоящего. Современное значение понятие приобрело в XVIII веке, это было связано прежде всего с Французской революцией102.
Если термин гражданская война вошел в русский язык со значительным опозданием по сравнению с языками европейскими, то термин революция был усвоен очень быстро. Слово встречается уже в русских текстах первой трети XVIII века, оно имело значение «перемена», «изменение» в жизни государств и народов. В последней трети XVIII века слово революция и в России чаще всего употребляется при описании событий во Франции. Специальные исследования показали, что к концу XVIII века все значения французского слова révolution, отмеченные в Словаре Французской академии 1786 года, а также полностью сформировавшееся после событий 1789–1790 годов терминологическое значение были известны в русском языке103. Различные значения термина революция влияли на понимание и употребление понятия гражданская война.
К третьей четверти XIX века термин гражданская война уже устоялся и активно использовался в исторической и обществоведческой литературе на русском языке, преимущественно все же переводной, относясь при этом к Древнему Риму, междоусобным конфликтам Средневековья и Нового времени, войне между штатами в США и т. д. На распространение и восприятие понятия влияло и его употребление авторами популярных художественных произведений, среди которых был и В. Гюго, произведения которого переводились на русский язык104.
Перед революционерами, в том числе и перед российскими, встал вопрос о соотношении революции и гражданской войны, и разные авторы давали различные интерпретации. Негативные коннотации термина гражданская война не могли не сказаться на некоторых текстах, но обвинения в развязывании внутреннего конфликта порой адресуются противникам революционеров, тем самым возрождаются аргументы тираноборчества. Часть же революционеров открыто оправдывала гражданские войны.
Так, если в одних текстах А. И. Герцен писал о возможности мирного развития революции, то в других своих трудах он сближал понятия революция и гражданская война. Еще более важным это понятие было для М. А. Бакунина, который, решительно отвергая гражданский мир, рассматривал гражданскую войну как постоянное и естественное явление; он выражал надежду, что грядущие вооруженные конфликты между государствами перерастут в гражданские войны105. В известной степени это суждение предвосхищало концепции перерастания внешней войны во внутреннюю, гражданскую, которые появились в XX веке.
О готовности царского режима вести войну против собственного народа писали в 1881 году народовольцы. Комментируя введение «Положения о мерах к охранению государственного порядка и общественной безопасности», автор статьи в журнале «Народная воля» писал о наделении генерал-губернаторов и губернаторов особыми полномочиями:
Наши «чрезвычайные охранители» предвидят, что им придется стать у себя дома «главнокомандующими армией в военное время» и вести эту армию против недовольного народа. Много нужно бесстыдства, чтобы, видя, до каких размеров может разрастись общественное недовольство, кидать обществу в лицо заявление, что самодержавие не отступит ни перед множеством жизней, ни перед попранием элементарных человеческих прав, ни перед кровавой гражданской войной106.
Борьба с государством, ведущим гражданскую войну против своего собственного народа, оправдывала революционное насилие, в том числе и революционный террор.
Некоторые же революционеры ставили вопрос об ограничении масштабов насилия во время неизбежной грядущей революции и сопутствующей ей гражданской войны. Например, в русской версии «Записок революционера» П. А. Кропоткина содержатся такие слова:
…я постепенно начал понимать, что революции, – то есть периоды ускоренной эволюции и быстрых перемен – так же сообразны природе человеческого общества, как и медленная эволюция, наблюдаемая теперь в культурных странах. И каждый раз, когда темп такой эволюции ускоряется и начинается эпоха широких преобразований, – может вспыхнуть гражданская война в более или менее широких размерах. Таким образом, вопрос не в том, как избежать революции – ее не избегнуть, – а в том, как достичь наибольших результатов при наименьших размерах гражданской войны, то есть с наименьшим числом жертв и по возможности не увеличивая взаимной ненависти107.
Сюжет о минимизации жертв гражданской войны во второй половине XIX века приобрел особую актуальность в связи с Гражданской войной в США. Американские юристы и военные, продолжая дискуссии правоведов XVII и XVIII веков, поставили вопрос о правовом регулировании ведения гражданских войн108. Насколько можно судить, эти дискуссии не вызвали большого интереса у русских юристов.
На понимание сути явления гражданской войны революционерами большое воздействие оказали работы К. Маркса. Среди текстов, влиявших на понимание гражданской войны Марксом, были и классические сочинения, часть которых он читал на языке оригинала. Так, например, Маркс особенно ценил суждения Аппиана о «материальной подкладке» гражданских войн. Позднее и Ф. Энгельс указывал на значение борьбы за землевладение как на одну из причин гражданских войн, также ссылаясь на Аппиана109.
В трудах Маркса и Энгельса словосочетание гражданская война встречается в разных значениях, но чаще всего оно связано с понятиями класс и классовая борьба, оказывая воздействие и на марксистское понимание природы революции. При этом в разных своих сочинениях они по-разному описывали гражданскую войну как общественное явление. Авторы «Манифеста коммунистической партии» заявляли:
…мы прослеживаем более или менее прикрытую гражданскую войну внутри существующего общества вплоть до того пункта, когда она превращается в открытую революцию, и пролетариат основывает свое господство посредством насильственного ниспровержения буржуазии110.
В иных своих текстах, созданных примерно в то же время, постоянную борьбу промышленных рабочих за свои права основоположники марксизма именовали «настоящей гражданской войной», они писали о «жестокой гражданской войне класса против класса в современном обществе», а движение чартистов в Англии характеризовалось ими как «социальная гражданская война»111.
В такой интерпретации гражданская война «нормализовалась», становилась не чрезвычайной и исключительной ситуацией, а повседневным явлением, постоянным конфликтом, неизбежно присущим капиталистическому обществу. Если в большинстве политических концепций гражданская война являлась неким особым временем, то эти тексты рутинизируют гражданскую войну, которая постоянно, непрерывно, с переменным успехом ведется пролетариатом против буржуазии, а буржуазией – против пролетариата. Если в некоторых интерпретациях революция может перерасти в гражданскую войну, то в понимании данных текстов постоянная гражданская война, неизбежно и беспрерывно идущая в классовом обществе, обостряясь, достигает фазы революции.
Не все марксисты ставили впоследствии вопрос именно так; некоторые из них предпочитали реформы и отвергали революцию как перспективу развития, а другие, считая себя революционерами, размышляли о том, как предотвратить превращение революции в гражданскую войну. Эти разногласия проявились в дискуссиях конца XIX – начала XX века, где обсуждались и осуждались различные аспекты ревизии марксизма. В этих острых спорах те радикальные социалисты, которые готовы были планировать гражданскую войну ради достижения революционных целей, могли в качестве важного аргумента использовать и другие авторитетные тексты Маркса.
Одним из таких текстов была работа Маркса «Гражданская война во Франции», посвященная опыту Парижской коммуны (1871). Здесь гражданская война описывается не как повседневная борьба пролетариата, а как классовый конфликт особого рода, начатый классовым врагом французского пролетариата, врагом внутренним, французскими правящими классами, при содействии врага внешнего, союза германских государств, возглавляемого Пруссией:
Таким образом, невиданное дотоле разорение Франции побудило этих патриотов – представителей земельной собственности и капитала на глазах и под высоким покровительством чужеземного завоевателя завершить внешнюю войну войной гражданской, бунтом рабовладельцев112.
В этой ситуации не рабочие, не революционеры, а господствующие классы превращают внешнюю войну в войну гражданскую. Революционные организации Парижа в описании Маркса безуспешно пытаются предотвратить гражданскую войну, навязанную классовым врагом113.
Как видим, здесь Маркс употребляет понятие в ином смысле: гражданская война описывается как классовый конфликт особого рода, отличающийся от «повседневной» гражданской войны, от классовой борьбы обычного нереволюционного времени. Это сочинение Маркса могло быть использовано впоследствии как теми марксистами, которые считали возможным противостоять классовому врагу, пытающемуся начать гражданскую войну, так и их радикальными оппонентами, полагавшими, что французские революционеры проявили чрезмерную сдержанность и уступчивость, что и определило неблагоприятный для них исход борьбы за власть.
Текст Маркса был быстро переведен на русский язык; за границей было выпущено несколько изданий, первое из них появилось уже в 1871 году114. Всплеск интереса к нему наблюдается и в 1905 году (см. ниже). Несколько переводов начала века вышли под заглавиями «Общественное движение во Франции»115 и «Парижская коммуна»116.
Не вполне совпадающие подходы Маркса, по-разному связывающие концепции классовой борьбы и гражданской войны, широко использовались российскими социалистами и во время Первой российской революции, и в 1917–1918 годах.
Наиболее ранний известный нам случай применения понятия гражданская война к российской современной обстановке консервативными авторами обнаруживается в антиреволюционном памфлете К. В. Трубникова, изданном в 1880 году. Клеймя российских революционеров, автор писал:
Нигилистические идеи не новы; они принадлежат старому обществу, до такой степени недовольному всем существующим, что оно обратилось к утопиям и стало желать чего-то вроде гражданской войны, которая, разрушив все существовавшие учреждения, осуществила бы их мечты117.
Термин, очевидно, автор заимствовал из текстов своих политических оппонентов и постарался использовать его против них же. В этот период получило развитие представление о том, что «правительство и общество вынуждены вести „войну“ друг с другом внутри собственной страны»118.
В России о гражданских войнах размышляли не только читатели нелегальных изданий. Публика, интересовавшаяся международным положением, и из подцензурной печати узнавала о том, что различные вооруженные конфликты описывались как гражданские войны.
Не всегда, впрочем, интерес к важному событию, который характеризовался частью современников как «гражданская война», сопровождался всплеском употребления понятия. В России, например, внимательно следили за Гражданской войной в США, но для описания этого вооруженного конфликта часто находились иные слова; неудивительно, что и в названиях книг, переводящихся на русский язык, употреблялись наименования «Американская война»119, «Северо-американская междоусобная война»120. Вместе с тем о том, что Маркс именует североамериканский конфликт гражданской войной, российский читатель мог узнать и при жизни автора, пусть даже опосредованно, из реферата книги «История торговых кризисов в Европе и Америке» политэконома, представителя манчестерской школы М. Вирта. Автор употреблял выражение «американская гражданская война», цитируя «Капитал» К. Маркса121. Впрочем, в той же статье война между северными и южными штатами 1861–1865 годов описывается также как «междоусобная война», «междуусобная [sic] война»122.
Российские военные не считали полезным изучение опыта Гражданской войны в США; исследователи предпочитали рассматривать «большие войны», вооруженные конфликты между державами. Военный теоретик Н. Н. Сухотин, изучавший этот конфликт, сетовал, что «опыт американской войны в забросе у нас вследствие предубеждения и предвзятой мысли о неприменимости его»123. Его диссертация (позднее переработанная в книгу) была посвящена конным рейдам в ходе американской Гражданской войны; этот труд стал одной из немногих работ российских авторов, специально исследовавших вооруженное противостояние Севера и Юга. Вспоминал ли кто-то эту книгу во время знаменитых кавалерийских рейдов эпохи российской Гражданской войны?
Возможно, относительно редкое использование понятия гражданская война было связано с тем, что и в самих Соединенных Штатах этот термин, употреблявшийся частью современников, первоначально не применяли широко ни южане, ни северяне: первые заявляли о своей независимости, считая, что отражают агрессию враждебного государства, в то время как федеральные власти сначала считали конфликт «мятежом», криминализируя тем самым действия противника; словосочетание гражданская война использовалось северянами не столь часто.
Об особом характере этой войны писал свидетель событий, чью книгу можно было прочесть и в русском переводе: американская война, по его мнению, «в одно и то же время имеет характер и междоусобной и международной войны»124.
Впрочем, другой межгосударственный вооруженный конфликт заставил читающую русскую публику размышлять о гражданских войнах, и в данном случае на употребление термина влияла терминология, которую использовали сами участники конфликта. В 1866 году произошла война между Австрийской империей, которую поддерживали некоторые немецкие государства, и Пруссией, возглавлявшей другую коалицию германских стран. Война, закончившаяся победой Пруссии, стала важным шагом на пути к объединению Германии; она воспринималась немалой частью немцев как германо-германская война, ее именовали также и гражданской войной. Термин использовали представители разных общественно-политических течений, в том числе те, кто осуждал политику Бисмарка125.
Схожие оценки мы можем найти и в некоторых российских изданиях: «…война Пруссии с Австрией была не международная, но гражданская война. Европа и отнеслась к ней как к войне гражданской, как она отнеслась к междоусобию в Северо-Американских штатах», – сообщал «Вестник Европы»126.
В конце XIX века словосочетание гражданская война применялось в подцензурной научной и публицистической литературе, рассчитанной на образованного читателя, прежде всего как исторический термин127. Вместе с тем гражданские войны прошлого и настоящего не стали, похоже, объектом изучения российских исследователей, представляющих различные научные дисциплины.
Показательно отсутствие специальной статьи «Гражданская война» в известном энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона: редакторы отсылали читателя к статье «Междоусобная война». Но и она не появилась; можно предположить, что редакторы планировали опубликовать статью на эту тему, но не нашли для нее автора. Теперь читателя отсылали уже к статье «Право войны». Она была напечатана, однако гражданской войне там уделялось совсем мало внимания; ее автор, известный специалист в области международного права В. Э. Грабарь описывал ситуацию гражданской войны без употребления понятия гражданская война:
Полномочие воевать (субъективное право войны) имеет только государство, но, при известных условиях, его может получить и восставшая против правительства часть населения, еще не успевшая организоваться в особое государство. Оно дается в форме признания воюющей стороной, благодаря которому мятеж, караемый уголовным законом, превращается в законную, с международной точки зрения, войну, со всеми вытекающими из нее правами и обязанностями128.
Профессор Петербургского университета востоковед И. Н. Березин писал в составленном им «Русском энциклопедическом словаре», что «Гражданская война, тоже что междоусобная»129, а как междоусобную войну определял ситуацию, «когда один и тот же народ, раздвоившись в смутах, враждует между собою оружием»130. Такое краткое описание, не очень отличающееся от текстов популярных толковых словарей, само по себе свидетельствует о слабой разработанности понятия.
Создается впечатление, что российские революционеры интересовались природой гражданских войн гораздо больше, чем профессиональные философы и юристы, историки и военные теоретики. Тема гражданской войны не представляла, казалось, значительного общественного интереса. Но уже в начале XX века жителям России пришлось столкнуться с гражданскими войнами разного толка: именно так описывали современники различные события Первой российской революции.
2. Гражданская война, гражданские войны, смута: использование понятий во время Первой российской революции
В годы Первой российской революции появилась карикатура, на которой изображались «Автократия» (Николай II в короне) и бородатый мужик в русском национальном костюме, олицетворяющий «Народ» и «Революцию». Два персонажа, находящиеся на разных краях глубокой пропасти, перетягивали канат, желая столкнуть друг друга в бездну «Гражданской войны»131.
Наличие открытки с изображением этой карикатуры в архивной коллекции партии социалистов-революционеров заставляет предположить, что симпатии художника были на стороне «Народа» и «Революции», в результате идущей гражданской войны «Автократия» непременно должна быть повержена, а «Народ» – спасен. С другой стороны, возможно, что автор рисунка имел в виду страхи перед гражданской войной, и вполне вероятно, что он и сам опасался, что в пропасти гражданской войны могут оказаться все те, кто занимался перетягиванием каната…
Об угрозе начала гражданской войны во время Первой российской революции впоследствии писали историки. Образ страны, с трудом удержавшейся от падения в бездну, использовал и С. В. Тютюкин: «В декабре 1905 года Россия заглянула в пропасть гражданской войны, но сумела остановиться буквально на ее краю»132. «Репетиция гражданской войны» – так обозначил в своей статье события декабря 1905 года в Москве Ю. А. Петров133. Для нашего же исследования важно, что схожим образом воспринимали ситуацию и современники событий: подобным образом ситуация описывалась и в их воспоминаниях и, что еще более важно, в синхронных источниках.
В. А. Маклаков, видный либерал и часто цитируемый мемуарист, полагал, что только своевременные уступки правительства предотвратили в России гражданскую войну, исход которой трудно было предсказать:
Если бы самодержавие продолжало упорствовать, оно довело бы до открытой гражданской войны; оно могло бы победить, что очень возможно, и эра либерализма была бы еще надолго отсрочена. Оно могло бы пасть перед революцией, и мы в 1905 году получили бы 1917 год. Но это все гадание задним числом. Самодержавие сумело вовремя уступить и этим избавить Россию и от гражданской войны, и от революции134.