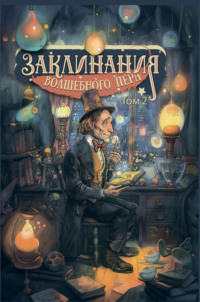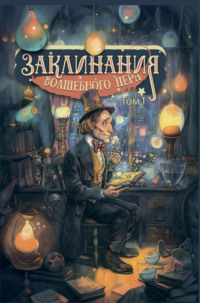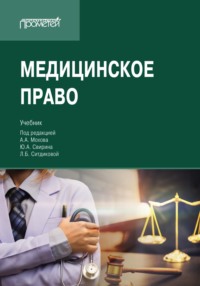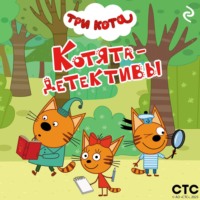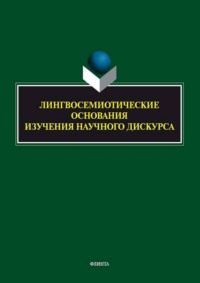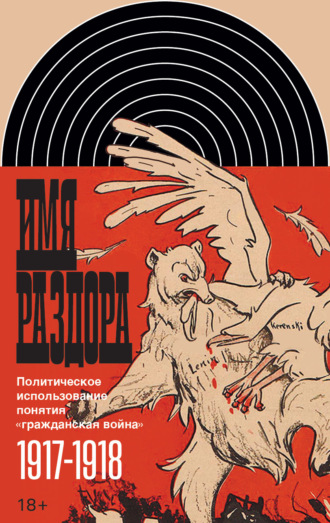
Полная версия
Имя раздора. Политическое использование понятия «гражданская война» (1917–1918)
Пока существует сравнительно мало исследований, специально посвященных изучению понятия гражданская война в России начала XX века, но важное исключение представляют собой интересные статьи М. Е. Разинькова37. Этот историк рассматривает различные слова и словосочетания, которые использовались для описания вооруженного противостояния в 1917–1922 годах. В некотором отношении мы продолжаем исследования этого автора, но в чем-то корректируем его выводы, опираясь на гораздо более широкую источниковую базу. М. Е. Разиньков пытается дать чрезмерно обобщенную характеристику партийным интерпретациям явления гражданской войны (предлагаемых большевиками, меньшевиками, эсерами, конституционными демократами, лидерами Белого движения и др.), не уделяя должного внимания разногласиям внутри политических организаций, изменениям политических оценок, а главное – особенностям контекста политического высказывания и адресатам этого высказывания. О позициях партий и даже о взглядах какого-то партийного деятеля нельзя судить только на основании их текстов. Например, М. Е. Разиньков рассматривает концепцию гражданской войны, предлагаемую Лениным, как поступательно развивающуюся, совершенствующуюся теорию. Между тем взгляды лидера большевиков порой кардинально менялись под воздействием меняющейся политической обстановки, в зависимости от первоочередных политических задач, а неактуальные интерпретации термина отбрасывались, хотя еще совсем недавно они объявлялись им научно обоснованными и единственно верными. М. Е. Разиньков не отрицает того обстоятельства, что взгляды Ленина существенно менялись, но он видит это как смену одной концепции другой, в которой он корректировал свои ранние ошибки:
Ленин не только пересмотрел отдельные положения своей концепции, но и пытался отказаться от старой концепции в пользу новой. Советская историография игнорировала этот важный факт, предпочитая доказывать цельность и непротиворечивость ленинских взглядов на феномен и этапы Гражданской войны, нежели признать за Лениным некую ошибку, которую он сам же попытался исправить38.
Такой «линейно-эволюционный» взгляд на работы Ленина вряд ли точно описывает взгляды лидера большевиков на гражданскую войну: он нередко возвращался к тем своим оценкам, которые сам ранее отбрасывал39.
Авторы этой книги опираются и на собственный опыт изучения политической культуры, политического языка и политической коммуникации Российской революции и первых лет советской власти40. Некоторые авторы настоящей монографии также приступили к изучению языка гражданской войны и, в частности, истории понятия гражданская война; опубликованные ими статьи стали после переработки основой ряда параграфов этой книги41.
Монография завершает работу над исследовательским проектом, который был поддержан грантом Российского научного фонда № 20-18-00369 «Процессы легитимации насилия: культуры конфликта в России и эскалация гражданской войны». Промежуточные результаты этого проекта нашли отражение в статьях, часть из которых упоминалась выше, и в сборнике статей, который привлек уже некоторое внимание исследователей42. Идея же этой книги родилась уже в ходе реализации исследовательского проекта, она была также поддержана Российским научным фондом, который продлил финансирование гранта на два года.
Мы далеки от того, чтобы считать эту тему закрытой; дальнейшая работа может потребовать и расширения круга источников, и привлечения специалистов из смежных дисциплин, прежде всего филологов. Особый интерес мог бы представить проект, объединяющий историков, которые работают на территории постсоветского пространства; важно было бы посмотреть, как гражданская война проговаривалась на языках народов, населявших Российскую империю. Было бы также полезно сопоставить употребления понятия гражданская война в ходе различных кризисов начала XX века. Мы надеемся, что публикация этой монографии будет способствовать появлению подобных международных и междисциплинарных проектов.
Книга состоит из восьми глав.
Первая глава имеет вводный характер. Ее первый параграф кратко представляет историю понятия гражданская война в европейской и российской традициях, а два других описывают использование понятия во время Первой российской революции и в ходе Первой мировой войны. Каждый из затронутых в этой главе сюжетов заслуживает дальнейшего специального исследования, хотя некоторые из них уже частично рассматривались нашими предшественниками. В этой книге, однако, нельзя было обойтись без такой главы, ибо без знания предыстории использования понятия нельзя понять ситуацию его употребления в 1917 году.
Остальные главы соответствуют этапам развития революции 1917 года.
Несколько особняком стоит последняя, восьмая глава монографии, по сравнению с предшествующими главами она охватывает гораздо более широкий период. К тому же и ситуация в это время складывается иная: хотя историки и ведут споры относительно начала Гражданской войны, никто, похоже, не спорит с тем, что в июне 1918 года эта война уже шла, исследователи пишут о полномасштабной войне, начавшейся в это время; порой они делают вывод о начале в это время так называемой «фронтовой» войны. Применительно к этому времени нельзя уже никак говорить о «предчувствии гражданской войны». Вместе с тем, однако, мы решили пересечь данный хронологический рубеж, ибо без этого будут непонятны и некоторые тенденции использования понятия гражданская война.
Благодарности
Работа над книгой велась в рамках проекта «Процессы легитимации насилия: Культуры конфликта в России и эскалация гражданской войны», поддержанного Российским научным фондом.
Мы признательны участникам проекта Е. Я. Вальковой, М. А. Кондратьеву, Д. А. Коцюбинскому, С. Ш. Мамедли, П. Г. Рогозному, Д. В. Шишкину. Благодарим также А. В. Шмелева, И. В. Саблина, М. Е. Разинькова, Ё. Икеду за участие в сборнике «Слова и конфликты: язык противостояния и эскалация гражданской войны в России», некоторые наблюдения этих авторов были учтены при подготовке данной книги.
Многие ученые проявили интерес к нашему исследовательскому проекту, результатом которого стала эта книга.
В. В. Журавлев, В. В. Лапин, Н. В. Михайлов были внимательными, доброжелательными и критичными рецензентами монографии.
Варианты текста книги обсуждались на заседаниях Ученого совета факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге и Отдела истории революций и общественного движения России Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Мы признательны Т. А. Абросимовой, П. Г. Рогозному, Н. Н. Смирнову за критические замечания и советы.
М. М. Кром, А. И. Миллер, К. А. Соловьев, О. В. Хархордин, Ю. Э. Штенгель высказали ценные соображения после прочтения различных фрагментов исследования. Консультации А. К. Гаврилова, Д. В. Панченко и В. В. Шишкина помогли при работе над первой главой книги, советы А. В. Ганина были важны при исследовании языка Гражданской войны в 1918 году.
Промежуточные результаты исследования были представлены на различных конференциях и семинарах. Вопросы и комментарии В. Б. Аксенова, С. Д. Анисимовой, В. П. Булдакова, К. В. Ваничевой, Е. Ю. Василик, Е. С. Гавроевой, Р. Герварта, М. Винсент, А. Д. Моисеенко, А. Б. Николаева, Ш. Олстон, Ю. П. Орловой, В. Н. Самоходкина, В. И. Шишкина были очень важны.
Благодарим И. Джахуа за помощь в работе в архивах Грузии.
А. М. Бессонова, И. Г. Ивченков, Е. В. Мишин, Н. В. Романова, П. В. Тихомиров, Е. Д. Флигинская, Д. В. Шишкин помогли в сборе источников, важных для книги. В книге были использованы материалы периодической печати, которые собрали студенты НИУ ВШЭ Д. С. Богданова, Д. А. Бутолина, Д. Г. Вартазарьян, Р. Р. Гафиатуллин, Е. В. Иванова, Ю. Р. Каверина, Э. С. Кунижева, С. А. Куликова и К. Ю. Чечот в рамках проектной деятельности.
В. Б. Аксенов, К. О. Макаров, А. А. Ромахин оказали помощь в подборе иллюстраций.
Полезны были советы главных библиографов информационно-библиографического отдела Российской национальной библиотеки А. Я. Лапидус и Т. Э. Шумиловой.
Благодарим администрацию Европейского университета в Санкт-Петербурге за поддержку проекта, в особенности мы признательны Е. Е. Лаврентьевой за помощь при подготовке отчетной документации.
Благодарим Н. А. Славгородскую за помощь в редактировании монографии.
Выводы монографии отражают мнения авторов и могут не совпадать с позициями упомянутых исследователей и научных центров.
Выражаем благодарность выпускающим редакторам серии «Интеллектуальная история» Т. М. Атнашеву и М. Б. Велижеву, а также редактору О. В. Карповой за внимательную работу над текстом и ценные редакторские рекомендации.
Глава 1
Из истории понятия гражданская война
1. Понятие гражданская война в европейской интеллектуальной традиции и его использование в России
Понятие Bellum civile возникло в латыни в связи с чередой масштабных вооруженных конфликтов принципиально нового типа. Считается, что цикл гражданских войн начался в 88 году до н. э., когда Сулла ввел свои войска в Рим, игнорируя обычаи римлян и распоряжения властей республики. Впервые римская армия была использована против сограждан, как если бы она вела бои с внешним врагом. В Риме существовала традиция называния войн по имени противостоявшего ему противника: Пунические войны, Митридатовы войны и пр. Риторика, традиционно применяемая для характеристики внешних врагов, использовалась государственными деятелями и против политических противников43, это стало важным элементом культурной легитимации насилия внутри сообщества граждан. С этой целью стали употребляться различные словосочетания: гражданское зло (malum civile), гражданский раздор (civilis discordia) и др., но наиболее долгую жизнь получило словосочетание гражданская война44. Для его появления необходимо было уже иметь развитые понятия гражданин, гражданское сообщество, однако впоследствии словосочетание гражданская война использовалось и вне связи с концепцией гражданства.
Некоторые исследователи полагают, что впервые словосочетание гражданская война употребил Сулла в не дошедших до нас мемуарах45. Цицерон был первым известным автором, использовавшим его46, он произнес его в 66 году до н. э. в речи, напоминавшей о заслугах Помпея:
Войны гражданская, африканская, трансальпийская, испанская, война с рабами, война на море, различные и по своим особенностям, и по характеру врагов, он не только вел сам, но и удачно закончил, а это доказывает, что в военном деле нет ни одной области, которая бы могла быть неизвестна этому мужу47.
С помощью словосочетания гражданская война Цицерон способствовал принятию выгодного ему политического решения: уже тогда понятие использовалось не только для описания текущей политической ситуации, но и для ее изменения48.
Позднее, характеризуя собственное положение на начальном этапе противостояния Цезаря и сената, Цицерон писал: «…я оказался в самом пламени гражданских раздоров или, лучше, войны»49. В трактате «Об обязанностях» (44 год до н. э.?) Цицерон отметил, что гражданские войны Рима отличались от внутренних конфликтов в Греции и своим масштабом, и своим характером: для Афин были характерны «сильнейшие раздоры», для Рима же – «не только мятежи, но и губительные гражданские войны»50.
Цицерон способствовал формированию представлений о гражданской войне как о самом страшном бедствии для государства: «Нет большего несчастья, чем гражданская война»51. Это высказывание повторялось потом на протяжении столетий в связи с самыми разными вооруженными конфликтами.
Цезарь дважды использовал термин гражданская война в своих воспоминаниях, что позволило части переписчиков дать его мемуарам название «Гражданская война»52. В действительности же Цезарь придавал немалое значение тому, чтобы начатую им войну не рассматривали как bellum civile, в то время как его противники – Помпей и сенат – именовали вооруженный конфликт именно так53. Уже с момента появления термина его употребление могло быть выгодно лишь одной из противоборствующих сторон.
Разумеется, и ранее в разных языках существовали термины, описывающие вооруженные конфликты внутри государства. Древние греки, например, отличали полемос, войну с внешним врагом, от противостояния – нередко вооруженного – граждан одного и того же полиса. Для описания последнего использовались различные слова, среди которых выделяется стасис, имевшее, впрочем, разные значения и разную эмоциональную нагрузку, порой весьма негативную. После появления термина гражданская война он порой переводился с латыни на греческий как стасис; именно так называли гражданские войны Рима авторы, писавшие по-гречески54. Впоследствии яркие фрагменты книги Фукидида, касающиеся войн внутри полисов, нередко цитировались в исследованиях, посвященных гражданским войнам, а некоторые авторы и сейчас используют понятие гражданская война для описания истории Древней Греции55.
Но все же, как и писал Цицерон, появление нового понятия было связано с возникновением невиданного ранее явления, беспрецедентного и по своим масштабам, и по своему характеру. Предпосылкой для возникновения гражданских войн было появление на большой территории развитого сообщества граждан; гражданские войны были одним из индикаторов развития римской цивилизации. Неудивительно, что некоторые авторитетные исследователи считают анахронизмом использование понятия гражданская война для описания конфликтов в античной Греции56.
Тема гражданской войны получила дальнейшее развитие в других важных для римской традиции литературных и исторических текстах. Марк Анней Лукан в I веке н. э. создал поэму «Фарсалия, или поэма о гражданской войне», в которой он описывал противостояние Цезаря и Помпея, уделяя немалое внимание жестокостям, которые сопровождали внутренний вооруженный конфликт57. XIII–XVIII книги «Римской истории» Аппиана Александрийского, написанные на греческом во II веке н. э., в переводе на латынь носили общее название «Гражданские войны»58.
Возникло представление о том, что свирепые гражданские войны – неизбежная черта общественного устройства Рима; термин стал использоваться и для описания более древних событий римской истории: одни считали поворотной точкой, определившей движение Рима к гражданским войнам, убийство Тиберия Гракха, другие – смерть его брата Гая59. В известном смысле циклически повторяющиеся гражданские войны были следствием невиданного ранее уровня цивилизации, они являлись платой за развитие Рима. Внутренние распри были результатом военных и внешнеполитических успехов республики, которые подготовили ее смерть. На гражданскую войну ветераны былых сражений отправлялись с энтузиазмом, желая быстрого обогащения.
Дальнейшее развитие понятия гражданская война было связано с тем, что оно использовалось для обоснования разных политических программ.
Термин мог употребляться для утверждения легитимности новой формы государственного устройства Рима: империя, сменившая республику, смогла разорвать порочную цепь ужасных гражданских войн и принести долгожданный гражданский мир; неудивительно, что выразителем подобных идей был сам император. Август писал: «В шестое и седьмое консульство, после того как Гражданские войны я погасил, с общего согласия став верховным властелином, государство из своей власти я на усмотрение сената и римского народа передал»60. Создавая образ мудрого правителя, прекратившего гражданские войны, Август выстраивал легитимность своей власти61. Подобные аргументы, основанные на распространении страха перед гражданской войной, использовались и столетия спустя для обоснования необходимости сильного государства и недопущения внутренних конфликтов.
Не всегда, однако, гражданские войны рассматривались как наибольшее зло; Сенека, например, утверждал, что «…в царствование Тиберия была распространенной и почти всеобщей неистовая страсть к доносам, опустошавшая Римское государство хуже всякой междоусобной войны»62. Здесь можно допустить намеренное риторическое преувеличение, но подобное суждение могло использоваться для решительной борьбы с тиранией. Продолжала существовать традиция прославления республиканских институтов прошлого, важной частью которого был культ тираноборцев; тирания рассматривалась как наибольшее зло, борьба с тиранами превозносилась. По мнению носителей этой традиции, тирания – продолжение гражданской войны другими средствами. Гражданские войны поэтому хоть и нежелательны, но возможны, когда речь идет о борьбе с тиранами. Обоснования тираноборчества, допускающие насилие, мы встречаем в европейской интеллектуальной традиции и впоследствии, в том числе и в традиции революционной.
Подобное сочувственное описание гражданских войн прошлого и тем более прославление некоторых их участников могло показаться властям империи опасным. В такой ситуации даже изучение истории внутренних конфликтов в истории республиканского Рима выглядело подозрительным: их авторов порой обвиняли в скрытой проповеди гражданской войны63.
Термин гражданская война использовали и христианские мыслители. Августин довольно часто употреблял это словосочетание, оно было важно для его аргументации. Он противопоставлял греховный «град земной», неизбежно раздираемый жестокими противоречиями, ведущими к ужасным гражданским войнам, которые он, следуя уже сложившейся традиции, считал наихудшим бедствием, и «Град небесный»64.
Применение термина гражданская война Августином способствовало сохранению и использованию этого понятия в христианском мире, однако новую жизнь оно получило в связи с культурными и социальными процессами раннего Нового времени. Немалое значение имело распространение светского образования, предполагавшее изучение латыни; в связи с этим новых читателей обрели и важные классические тексты, описывавшие гражданские войны. Появились и переводы некоторых сочинений на европейские языки.
Закреплению понятия способствовали и новые, неизвестные прежде конфликты раннего Нового времени. Древний термин гражданская война, известный из римской истории, использовался для описания и анализа современных войн, особенно войн нового типа, для легитимации позиций противостоящих сторон и выработки политической тактики. Так, Религиозные войны XVI–XVII веков воспринимались и характеризовались частью современников как войны гражданские. Большим вниманием пользовалась переведенная на несколько языков книга Энрико Катерино Давилы (1630), который описал «…гражданские войны, на протяжении сорока лет без перерыва прискорбно угнетавшие Французское королевство…»65.
В ходе масштабных вооруженных конфликтов Нового времени политическая теория получала новые импульсы для развития, это относилось и к дальнейшему осмыслению явления гражданских войн. Ряд авторов, начиная с Ж. Бодена, выдвинул идею о необходимости монополизации насилия. Гражданские войны они, опираясь на античные сочинения, считали наибольшим злом, преодолеть которое может лишь сильное государство66. Если ранее о гражданских войнах писали преимущественно историки и поэты, то теперь к ним присоединились политические философы и юристы.
Страх перед гражданской войной стал важным побудительным мотивом для творчества Т. Гоббса, переводчика Фукидида, современника и одного из первых историков английских гражданских войн XVII века. Характеризуя политическое тело государства – «великого Левиафана», Гоббс писал, что «гражданский мир – здоровье, смута – болезнь, и гражданская война смерть»67.
По мнению Гоббса, важнейшая цель политической философии – предотвращение гражданских войн; в этом отношении английский мыслитель, считавший классическое образование важной причиной смут, сам следовал развитой античной традиции. Страх Гоббса и многих его современников перед гражданской войной влиял и на осмысление природы государства: история для Гоббса была «бесконечным чередованием циклов от гражданской войны к государству и от государства к гражданской войне»68.
В это время получивший новую жизнь термин проецировался и на события прошлого; так, в исторических сочинениях Войны Алой и Белой розы стали описываться как войны гражданские. Это помещало современные внутренние конфликты в более широкий исторический контекст. Тема гражданских войн появилась и в новых художественных произведениях, что свидетельствует о ее растущей популярности. Перенос понятия, применявшегося ранее преимущественно при описании истории Рима, на другие эпохи имел большое значение, увеличивался аналитический потенциал термина.
Разработка правовых основ, международных правил ведения войны повлекла и попытки правового регулирования ведения внутренних конфликтов. Г. Гроций, в частности, в своей классификации войн уделил внимание и войнам гражданским69. Вопрос о связи революций, гражданских войн и интервенций, о праве государств на интервенцию рассматривался политическими философами, юристами и историками по крайней мере с XVIII века. Особое значение имел труд Эмера де Ваттеля (1758), который писал о ситуации, когда связь между сувереном и народом разрывается:
Когда мужественный народ берется за оружие в борьбе против своего угнетателя, то помощь людям, которые защищают свою свободу, означает лишь проявление справедливости и великодушия. Поэтому, когда дело доходит до гражданской войны, иностранные державы могут помогать той стороне, которая представляется им борющейся за правое дело70.
Книга Ваттеля повлияла, в частности, на лидеров Американской революции.
В русском языке термин гражданская война появился в XVIII веке. По всей видимости, это словосочетание было знакомо Петру I71. Дальнейшее употребление его в России было связано с переводами книг с латыни, немецкого, французского и английского языков, а также с публикацией соответствующих словарей. Обучение иностранным языкам приводило и к тому, что все больше жителей Российской империи читали книги на языке оригиналов, самостоятельно знакомясь с термином.
В петровский период встречаются и попытки дать варианты переводов понятия. В переведенном в 1724 году сочинении немецкого богослова В. Стратемана говорилось: «Улрик Звинглий Пастор Тигуринский… на брани гражданской за веру… умре сего [1531] лета»72. Словосочетание bellum civile из «Левиафана» Т. Гоббса С. Кохановский перевел как «междоусобная брань»73.
Наиболее ранний обнаруженный нами случай употребления понятия гражданская война на русском языке относится к 1732 году. В календаре на 1733 год, составленном Г. В. Крафтом и изданном Академией наук, название месяца августа в честь императора Августа объяснялось тем, «что сей Кесарь в сем месяце гражданскую войну пресек, и государство в такой мир и тишину привел, что он храм Януса в Риме, который в военные времена день и ночь отворен стоял, и в 200 лет никогда не затворялся, затворить повелел»74. Этот пример довольно определенно связывает источник заимствования именно с рецепцией истории Древнего Рима и с той традицией, которая связала прекращение гражданской войны с установлением империи.
Словари, изданные во второй половине XVIII века в Санкт-Петербурге и Москве, дают представление о том, как переводились на русский язык словосочетания Civile bellum, Guerre civile, der Bürgerkrieg (der Bürgerlicher Krieg). Так, определение «гражданская или внутренняя война» используется в словаре, изданном Академией наук еще в 1755 году75. В словаре же, выпущенном в 1782 году, в качестве толкований соответствующего немецкого и латинского слова упоминаются «гражданский мятеж, междоусобная, внутренняя брань, война, смятение»76. Словосочетание встречается и в переводе словаря Французской академии, выпущенном в 1786 году: «Guerre civile, interfrine – Межусобная, гражданская война»77. Попадается также толкование «междоусобная, или внутренняя война»78. В 1790 году этот термин появляется и в словаре Российской академии, он определяется как «брань междоусобная»79.
Проникало выражение и в художественную литературу: изначально в качестве заимствования, отображающего связанное именно с римской историей понятие. В изданном в 1775 году переводе трагедии французского писателя П. Корнеля «Смерть Помпея» (1644) Я. Б. Княжнин так передал одну из реплик Клеопатры:
О вы, которые вселенну предаетеНа снедь гражданския ужасныя войны;Коль боги, будете отмщать за смерть его,В карании своем щадите наши грады;Египет смертию Помпея не вините,Свершили Римляне злодейство здешних стран80.В оригинале Корнель употребил выражение discordes civiles81, то есть гражданские раздоры/разногласия. Но, вероятно, ввиду того, что пьеса Корнеля основана на материале древнеримской истории, Княжнин опирался на словоупотребление, которое уже устоялось применительно к истории Рима. Современный ему русский язык знал это выражение.