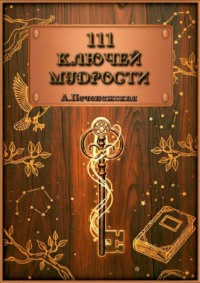Полная версия
Истинный лик Иисуса. Том 2
Он посмотрел в глаза Йешуа, в которых отражалось серое небо, и них увидел не ожидание или приказ, а разрешение и доверие.
Иоанн положил вторую руку ему на затылок, глубоко вздохнул, набираясь не воздуха, а решимости, и медленно, с бесконечной, благоговейной осторожностью начал погружать Его в воду. И в этот миг он понял, что происходит на самом деле: он не просто крестил человека, а передавал Ему всё.
Погружая Йешуа в эту реку, он символически отдавал ему Иордан, эту священную границу Израиля, своё служение, своё крещение, которое теперь теряло смысл, исполнив своё предназначение и этих людей – мытарей, рыбаков, блудниц, – всех, кого он пробудил своим криком.
В этот момент Иоанн умалялся и чувствовал это физически, словно сила, которая наполняла его все эти годы, перетекала из него в того, кто был сейчас в его руках. Его огонь гас, чтобы ярче разгорелся чужой. Его голос замолкал, чтобы зазвучал другой. Он был светильником, который догорел до рассвета. И вот, он сам, своими руками, погружал светильник в воду, потому что взошло Солнце.
Голова Йешуа скрылась под водой – и на мгновение всё замерло. И в этой подводной тишине Иоанн почувствовал, что старый мир кончился, и его собственная жизнь – жизнь Иоанна-Крестителя, величайшего из пророков, – тоже кончилась. Он был лишь мостом. И тот, для кого он был построен, только что перешёл по нему.
Иоанн не держал Йешуа под водой, просто отпустил его, и тот сам вышел из реки. Он не вынырнул с отчаянным вдохом, как все остальные, а поднялся из воды плавно, спокойно, словно просто перешёл из одной стихии в другую.
И в этот момент произошло то, что никто не смог бы потом описать словами. Не было ни громового голоса с небес, ни разверзшихся облаков. Для большинства людей на берегу не изменилось ничего. Они видели лишь, как один человек крестил другого, но для Иоанна мир преобразился.
Когда Йешуа вышел из воды и с его волос и лица стекали струи, садящееся солнце вдруг пробилось сквозь облачную дымку. Его лучи ударили в воду под определённым углом, и на миг поверхность реки вокруг Йешуа вспыхнула расплавленным, нестерпимо ярким золотом. Капли, стекавшие с него, не были просто каплями: горели на свету, как жидкие алмазы. Свет был таким плотным, таким живым, что, казалось, его можно было коснуться.
И в тот же миг налетел ветер. Руах. Не тот яростный, пыльный ветер пустыни, к которому привык Иоанн, а другой – чистый, сильный, ласковый порыв, который прилетел из ниоткуда. Он не поднял пыли – лишь коснулся их лиц, зашелестел в тростниках, и в его шелесте не было ни тоски, ни угрозы, только тихая, древняя песнь творения.
Иоанн замер, перестав дышать. Он всем своим существом, каждой порой своей кожи ощутил Присутствие. Оно не спустилось, а просто проявилось. И сейчас, в этом месте, вокруг этого Человека, оно стало таким плотным, что, казалось, воздух загустел, превратившись в мёд. Это было то самое Присутствие, которое он смутно ощущал в самые тихие часы в своей пещере, но усиленное в тысячу раз. Присутствие чистое, любящее и всеобъемлющее. Присутствие Отца, который с безграничной нежностью смотрел на Своего Сына.
И в этом свете, в этом дыхании ветра и разлитом в воздухе Присутствии Иоанн увидел его. Не просто Йешуа. Не просто Слово. Он увидел Агнца, чистого, невинного Агнца Божьего, который добровольно вошёл в эту грязную реку, принимая на себя всю муть и всю боль этого мира. Это был знак не для толпы, а для него: подтверждение, что его путь пройден.
Йешуа стоял, не замечая ни света, ни ветра. Он смотрел куда-то вверх, и на его мокром лице была тень улыбки – тихой, сокровенной, предназначенной не этому миру. Казалось, он тоже слушает то, что не слышно ушам.
Иоанн медленно опустил руки, почувствовав, как что-то внутри него окончательно отпустило. Он был пуст. И в этой пустоте не было больше ни боли, ни гордыни, ни даже радости. Был только покой свидетеля, который выполнил свою работу.
Свет погас. Ветер стих. Присутствие растворилось в обычном вечернем воздухе. Всё снова стало обычным, и от этого контраста перехватывало дыхание. Йешуа стоял на берегу, глядя в глаза Иоанна.
В их взглядах не было нужды в словах, ибо было прощание двух воинов, встретившихся на поле битвы, каждый из которых знал своё предназначение. В глазах Иоанна была бесконечная усталость, печаль и покой исполненного долга. В глазах Йешуа – тихое сострадание, благодарность и бремя пути, который только начинался. Не было ни объятий, ни рукопожатий. Иоанн лишь едва заметно склонил голову – этого было достаточно.
И Йешуа, не оглядываясь на толпу, не говоря ни слова ученикам Иоанна, повернулся и пошёл. Но не назад, в Галилею, откуда пришёл. Он пошёл на восток, вглубь Иудейской пустыни. Туда, откуда сам Иоанн когда-то вышел.
Иоанн остался стоять на берегу, глядя ему вслед, пока его фигура не растворилась в сгущающихся сумерках. Он остался один, но уже был другим. Огонь в нём не погас, но он изменил своё свечение. Он перестал быть всепожирающим пламенем. Теперь это был ровный, ясный огонь маяка, который уже указал кораблю путь и теперь просто горел в ночи, свидетельствуя о том, что гавань существует.
Йешуа ушёл в пустыню не для того, чтобы быть испытанным. Он ушёл, чтобы всё, что произошло, улеглось в его душе. Крещение было не просто событием. Это была инициация. Печать, поставленная на его служении. И теперь, прежде чем выйти к людям, он должен был побыть в абсолютной тишине, чтобы услышать не гул толпы, а тихий голос Отца и чтобы осмыслить дальнейший путь Слова.
Он провёл в пустыне не сорок дней, а лишь несколько. Ему не нужно было бороться с ней, как Иоанну, ибо был с ней в мире. Тишина была для него не врагом, а его собеседником. Ночью Йешуа лежал на холодной земле и смотрел на звёзды, и их далёкий, вечный свет говорил с ним о вечности. Днём он сидел в тени скалы, и её молчание говорило с ним о несокрушимости правды.
Именно там, в этой первозданной тишине, его путь окончательно прояснился. Он думал об Иоанне: «Его слово было как топор, как молот, разбивающий камень, и было необходимо, чтобы сломать стену». Но его собственное Слово должно быть другим. Как вода, что просачивается в трещины, как семя, что падает во вспаханную землю. Иоанн говорил о гневе Божьем, а он должен рассказать им о сердце Отца и любви.
Там, в пустыне, родилась его первая проповедь. Не слова, но её суть. Она была проста, как сама жизнь. Любовь. Прощение. Милосердие. Он понял, что пришёл не судить этот мир, а спасти его. Не сжечь, а согреть.
Через несколько дней Йешуа вышел из пустыни. Его лицо было исхудавшим, но глаза светились спокойной, ясной силой. Он знал, что теперь ему делать и пошёл домой, в Назарет.
Он вернулся в зелёные холмы Галилеи, в маленький городок, где все знали его как сына каменщика, к запаху родного дома и тёплого хлеба. Но это был уже не тот человек, что ушёл отсюда несколько недель назад. Тот, прежний, остался там, в мутных водах Иордана. А этот, новый, принёс с собой тишину пустыни, свет звёзд и знание о своём пути. Служение началось.
Глава 7. Разрыв с Прошлым. Начало пути
Йешуа стоял на пороге отчего дома, и закатное солнце Галилеи ложилось ему на плечи. Возвращение его не было триумфом. Не было ни толпы, ни восторженных криков, лишь тишина знакомой улицы, запах пыли и вечерней прохлады. Он просто пришёл.
Дверь открыла Мирьям, и, увидев его, замерла, вытирая руки о передник. Она смотрела на него, и материнское сердце, которое знает о своём сыне больше, чем любые слова, почувствовало перемену. Это был он, её Йешуа. То же лицо, те же руки, которые она целовала, когда они были покрыты ссадинами. Но что-то изменилось в самой его сути. Он не стал выше или старше. Казалось, внутренняя тишина в нём обрела вес и плотность камня. Он стоял на пороге своего дома, но уже не принадлежал ему.
Он вошёл, и дом окутал его знакомыми запахами – остывающего очага, сушёных трав и того самого, родного запаха всей его прошлой жизни. Он провёл рукой по резному каменному колесу – подарку отца, коснулся знакомого глиняного ложа, в котором размышлял в ночной тиши и встречал рассвет, робко заглядывавший в окно. Мир остался прежним, но человек, который к нему теперь прикасался, изменился навсегда.
Они сели друг против друга за простым деревянным столом, когда сумерки уже начали сгущаться в углах комнаты.
– Ты выглядишь… – начала она, не в силах подобрать слово. – Уставшим. И… другим.
– Я нашёл свое предназначение, мама, – тихо ответил он, и его голос был спокоен, как глубокая вода. – То, для которого родился.
Он рассказал ей. Не обо всём. Не о знаках, не о голосах, а о человеке в верблюжьей шкуре, о его огненных глазах и его крике, который будил души. И о воде. О том, как он вошёл в эту реку, чтобы встать рядом с мытарями и блудницами, чтобы начать свой путь не с высоты, а из самой грязи, из самой боли этого мира.
Мирьям слушала, и её лицо, обычно такое спокойное, было полно тревоги и чего-то ещё, более глубокого. Она смотрела на своего сына, на этого человека, в котором проснулась несокрушимая тихая сила, и поняла, что тайна, которую она носила в себе тридцать лет, больше не может быть только её, поскольку уже не была её прошлым, а стала объяснением его настоящего.
– Твоё предназначение… – прошептала она, и её взгляд ушёл куда-то вглубь себя, в тот день, который изменил всё. – Оно началось не у реки, Йешуа. Оно началась здесь. Во мне.
Он молча смотрел на неё, ожидая.
– Люди думают, что знают, как ты родился, – её голос был тихим, как шелест сухих листьев. – Они думают, что был мужчина… твой отец Йосеф. Он был им, лучшим из людей, но он не был твоим отцом по плоти.
Она сделала паузу, собираясь с силами.
– Не было мужчины, сынок. Не было никого. Я была одна. И не было ни чуда, ни ангела с огненным мечом. Была лишь тишина. И… согласие.
Она пыталась найти слова для того, у чего не было имени.
– Это было не вторжение. Не что-то, что пришло снаружи. Это была… дрожь. Тихая, почти неуловимая. Словно моё тело само, изнутри, вспомнило, как начинается жизнь, будто сама земля во мне отозвалась на зов, который никто не произносил. Это было не зачатие от кого-то, а рождение из согласия. Из глубокого, полного «да» всему живому. Ты не был дан мне, ибо вырос из меня, из этого молчаливого, одинокого «да».
Мирьям замолчала, и в комнате повисла такая тишина, что было слышно, как догорают угли в очаге. Она поведала ему тайну его начала.
Йешуа слушал, и его лицо было непроницаемо. Он не был удивлён и не был шокирован, поскольку чувствовал, как последняя, самая важная часть его собственной сути встала на своё место. Он всегда знал, что он – другой. Всегда ощущал эту прямую, никем не опосредованную связь с Источником. И теперь он понял, почему. Он был не нарушением закона природы, а её самой глубокой, самой забытой возможностью. Жизнью, начавшейся не от слияния, а от абсолютного, чистого согласия.
Он протянул руку через стол и накрыл её ладонь своей.
– Я догадывался, мама, – сказал он тихо. – Теперь знаю.
На следующее утро, когда Йешуа вышел из дома, чтобы принести воды от колодца, Назарет встретил его прищуренными взглядами. Новость о его возвращении уже пронеслась по пыльным улочкам, от дома к дому, обрастая домыслами и недоумением.
Две женщины, стоявшие у колодца с кувшинами, замолчали, когда он подошёл. Они проводили его взглядами, и, как только он отошёл на достаточное расстояние, их шёпот достиг его в утреннем воздухе.
– Это он, Йешуа? Сын Йосефа? – спросила одна, пожилая, с лицом, похожим на печёное яблоко. – Смотри, как идёт, будто не по земле, а над ней.
– Тише ты, Сарра! – одёрнула её вторая, молодая. – Но ты права… он другой. Глаза… Ты видела его глаза? Раньше были как у всех, а теперь… будто смотрят сквозь тебя. Муж рассказывал, что он ходил к тому дикарю, что у реки. К сыну Захарии. Представляешь?
– К этому оборванцу? Тот, что ест саранчу и носит шкуру вместо одежды? Что порядочному человеку делать у такого? Ума лишился, не иначе. Видно, жара иорданская ему голову напекла.
Йешуа слышал этот шёпот. Он не прислушивался, но он был частью воздуха, частью этого городка, где все знали всё про всех. Он шёл дальше, и взгляды следовали за ним.
У лавки торговца тканями сидели двое мужчин, обсуждая цены на шерсть. Увидев его, они прервали разговор.
– Гляди-ка, блудный сын вернулся, – усмехнулся один, коренастый, с руками, испачканными краской. – Йешуа, сын Йосефа. Бросил ремесло, пошёл бродить по пустыням. Хорош помощник для матери.
– А я тебе скажу, Ионафан, – ответил другой, поглаживая свою седую бороду. – Что-то в нём есть. Я сегодня утром видел, как он на мать свою смотрел. Не как сын, а как… не знаю. Как старик, который всё уже повидал. В нём тишина какая-то. Не наша, не назаретская.
– Тишина? – фыркнул первый. – Бездельем это называется! Его отец, мир его праху, был честным каменщиком. Руки у него были в мозолях, спина согнута от работы. А этот? Посмотри на его руки. Чистые, словно и не держали зубила.
Они воспринимали его только через призму его прошлого. Он был сыном Йосефа, чинил им крыши, латал заборы и мастерил столы. Он был их соседом. Одним из них. И сама мысль о том, что он мог стать кем-то большим, казалась им нелепой, почти оскорбительной.
Его перемена их не восхищала, а раздражала, ибо нарушала привычный, понятный порядок вещей. В этом городке, где жизнь текла из поколения в поколение по одному и тому же руслу, любая перемена воспринималась как угроза.
Когда Йешуа проходил мимо синагоги, на ступенях стоял старый раввин Леви, который учил его Закону, когда он был мальчиком. Их взгляды встретились. В глазах старика не было ни радости, ни тепла. Было лишь строгое, испытующее недоумение.
– Мир тебе, Йешуа, сын Йосефа, – произнёс он, намеренно подчёркивая его земное происхождение. – Слышал я, ты искал мудрости у Иордана. Надеюсь, ты не забыл мудрость, которой учили тебя здесь, в доме твоего отца?
Это был не вопрос, а предупреждение, напоминание о его месте.
Йешуа молча поклонился и пошёл дальше. Он чувствовал, как вокруг него сгущается стена, построенная не из камня, а из самого прочного материала на свете – из людской привычки. Они знали его слишком хорошо, чтобы суметь увидеть его по-настоящему. И это создавало то глухое, тяжёлое напряжение, которое всегда предшествует буре.
Слова «вернулся в силе Духа» были для него лишь слабой попыткой описать то, что невозможно было выразить. Не было ни видимого сияния, ни ауры, которую могли бы заметить глаза. Перемена была глубже, ибо была в самой ткани его существа, и люди, сами того не осознавая, чувствовали её, как животные чувствуют приближение землетрясения.
Сила эта проявлялась прежде всего в его несокрушимом спокойствии. Назарет был деревней шумной, полной суеты. Женщины спорили у колодца, мужчины громко торговались в лавках, дети с криками носились по пыльным улицам. Это был обычный, нервный ритм человеческой жизни. А он двигался сквозь этот шум, как будто находился в центре циклона. Его движения были неспешными, но не медлительными. В них не было ни капли лишнего, ни одного суетливого жеста. Он ставил кувшин с водой на землю так, словно совершал священнодействие, и слушал крики торговцев с таким же спокойным вниманием, с каким слушал шелест листьев. Эта глубинная, незыблемая тишина внутри него была почти осязаемой, поэтому его присутствие заставляло людей замолкать.
Когда он входил в лавку или подходил к группе разговаривающих, их слова сами собой стихали, потому что рядом с его молчанием их собственная болтовня вдруг казалась им мелкой, пустой и неуместной. Его тишина была такой плотной и насыщенной, что поглощала любой шум, но была громче их самых громких слов. Люди чувствовали себя рядом с ним обнажёнными, и это их смущало и злило. Они привыкли прятаться за словами, за суетой, за привычными ритуалами, а он одним своим молчаливым присутствием срывал с них все эти покровы.
Глубина его взгляда стала другой. Раньше его глаза были глазами вдумчивого, доброго юноши. Теперь в них появилось что-то, что видело не только то, что было на поверхности. Казалось, он смотрит сквозь, видя не лицо, а душу. И в этом взгляде не было осуждения, лишь спокойная, всё понимающая ясность, от которой становилось не по себе. От этого взгляда нельзя было укрыться за вежливой улыбкой или умной фразой.
Раньше, как и во всех молодых людях, в нём чувствовался вопрос, поиск своего места, своего пути и своего ответа. Теперь вопроса не было, ибо он знал ответ, и это знание было не высокомерным или навязчивым, а таким же естественным, как дыхание. Оно сквозило в том, как он держал голову, как слушал, в той тишине, что наступала после его редких, но всегда веских слов. Йешуа обрёл свой центр тяжести, свою ось, которой был не он сам, а то Слово, которое теперь жило в нём. Эта внутренняя сила и спокойное знание и были той «силой Духа», которую чувствовали все, но не мог объяснить никто.
Откровенный разговор с матерью состоялся не сразу. Несколько дней Йешуа просто был дома. Чинил расшатавшуюся ножку стола, заплел лозой дыры в плетне, заготовил дрова и хворост для печи, помогал ей носить воду, ежедневно подметал двор, навел порядок в мастерской отца… А между дел молча сидел рядом, когда она молола зерно. Йешуа делал всё то же, что и раньше, но его присутствие изменилось: он был рядом, но одновременно где-то далеко. Мирьям чувствовала это каждой частицей своей души. Она видела, как он смотрит на закат не как на конец дня, а как на обещание, незаметно наблюдала, как он слушает ветер не как шум, а как речь, и чувствовала, что теряет его. Однажды вечером, когда они сидели у догорающего очага, она не выдержала. Тишина была слишком громкой.
– Йешуа, – начала она тихо, и её руки, перебиравшие шерсть, замерли. – Что ты делаешь?
Он медленно повернул к ней голову. Его взгляд был мягким, но в нём уже не было той сыновней податливости, что раньше.
– Что говорят люди, мама?
– Говорят разное, – она отвела глаза. – Соседи спрашивают, не помутился ли твой разум. Они смеются… передавая друг другу, что сын Йосефа возомнил себя пророком.
Её голос дрогнул., но это был не упрёк, а страх матери, чей ребёнок выбирает путь, который она не может понять и на котором не в состоянии его защитить.
– Этот путь опасен, сынок, – прошептала она. – Люди не любят тех, кто не похож на них. Они не прощают тех, кто заставляет их смотреть на себя. Они… они могут сделать тебе больно.
Он молчал, давая её страху вылиться до конца, не перебивал, не успокаивал, просто принимал её боль.
– Мама, – сказал он наконец, и его голос был тихим, но в нём была твёрдость гранита. – Помнишь, как отец учил меня работать с камнем? Он говорил: прежде чем строить дом, нужно подготовить камни. Обтесать их, убрать всё лишнее, придать им форму.
Мирьям непонимающе посмотрела на него.
– Иоанн… – продолжил Йешуа. – Он делает эту работу. Он обтёсывает души людей и готовит их. Его работа – суровая, ибо она в щепках, мозолях, и боли, однако без неё нельзя.
– Но при чём здесь ты? – в её голосе звучало отчаяние. – Ты не такой, как они. Тебе не нужно… очищение.
– Вода – это не только очищение, – мягко сказал он. – Иногда вода – это граница. Порог. Я должен был переступить его. Не для себя, а для них, чтобы показать, что я с ними. Не над ними, а рядом. В той же реке, в той же грязи и в той же надежде.
Он рассказал ей о крещении. Но в его рассказе не было ни разверзшихся небес, ни таинственных голосов. Была лишь простая, суровая необходимость.
– Это была точка, мама, после которой нельзя вернуться назад. Йешуа, которого ты знала, остался на том берегу. Теперь моя работа другая. У каждого она своя. Отец строил дома из камня и дерева. Иоанн готовит людей. А я…
Он замолчал, и его взгляд устремился на огонь.
– А что ты, сынок? – шёпотом спросила она, боясь услышать ответ.
– А я должен построить дом, у которого нет стен.
В его словах была такая спокойная, несокрушимая определённость, что её сердце сжалось от двойственного чувства. Она видела перед собой не просто своего сына, а человека, который нашёл своё место во вселенной, которое далеко было от её тихого дома в Назарете. После всех странствий она обрела сына другим – и в тот же миг окончательно потеряла. Это была трагедия её материнства и его величие.
Мирьям протянула руку и коснулась его щеки, словно пытаясь запомнить его таким – близким, сидящим у её очага.
– Я не понимаю твоего пути, Йешуа, – прошептала она, и слеза медленно скатилась по её щеке. – Но я верю тебе. Всегда верила.
Он накрыл её руку своей. И в этом прикосновении было всё: его любовь, благодарность за её веру и тихое, печальное прощание с той жизнью, которая уже никогда не будет прежней.
Суббота пришла в Назарет, как приходила сотни раз до этого: с запахом испечённой халы, с тишиной на улицах и с ощущением предписанного покоя. Воздух, обычно наполненный стуком молотков и криками торговцев, стал сонным и неподвижным.
Йешуа пошёл в синагогу вместе с другими мужчинами. Он шёл по знакомым улицам, и каждый камень, казалось, помнил его детские шаги.
Синагога была небольшой, сложенной из грубого местного камня. Внутри пахло старым деревом, маслом от светильников и пылью, которая веками впитывала в себя шёпот молитв. Всё было до боли знакомым. Скрип деревянных скамей, на которых он сидел ещё мальчиком рядом с отцом. Тусклый свет, падающий из узких окон, в лучах которого танцевали пылинки. Знакомые лица соседей – серьёзные, принявшие на себя субботнюю важность. Лицо старого раввина Леви, который с привычным достоинством занимал своё место.
Для них это был ритуал. Важный, священный, но привычный, как смена времён года. Они пришли исполнить долг: отбыть повинность перед Богом, чтобы потом с чистой совестью вернуться к своим будничным делам. Они слушали текст Закона, и слова его, знакомые с детства, пролетали мимо их сознания, не задевая души. Они монотонно качались в такт молитве, их губы шептали заученные фразы, но мысли их были далеко – о неурожае оливок, о болезни жены, о долге соседа… Это была благочестивая, сонная обыденность.
Но Йешуа воспринимал всё иначе. Для него это место не было просто зданием. Он видел не стены, а камни, каждый из которых был свидетелем веры и сомнений поколений, слышал не монотонное бормотание, а эхо тысяч молитв – горячих и холодных, искренних и лицемерных. Он смотрел на лица людей и видел не соседей, а целую вселенную за каждым из них – их тайные надежды, застарелые обиды и глубинную тоску по смыслу.
И в этой сонной, привычной атмосфере он чувствовал напряжение. Оно было почти физическим, как воздух перед грозой, как тишина, которая сгущается за миг до того, как зверь прыгнет. Люди этого не замечали. Они были слишком погружены в свой ритуальный сон, но он – знал, что сегодня эта сонная тишина будет взорвана, что слова, которые сейчас безжизненно слетают с уст чтеца, оживут и обретут плоть, и что этот обычный субботний день станет для Назарета точкой невозврата.
Йешуа сидел на своём месте, спокойный и неподвижный, но внутри него собиралась вся сила, вся ясность, обретённая в пустыне и у реки. Он не был спокойным, но готовым, как натянутая струна, которая ждёт лишь одного прикосновения, чтобы издать свой единственный, истинный звук. И он знал, что это прикосновение неотвратимо, поскольку эта обычная, пыльная синагога в маленьком галилейском городке должна была стать его первой сценой.
Когда очередной чтец закончил свой отрывок, служка синагоги, как это было заведено, обвёл взглядом собравшихся. Его взгляд остановился на Йешуа. В этом был и обычай – дать слово гостю или тому, кто давно не был, – и скрытое любопытство. Весь город хотел услышать, что же скажет этот изменившийся сын каменщика. Служка подошёл и протянул ему тяжёлый свиток пророка Исаии.
Йешуа встал. Он принял свиток в свои руки с той естественной бережностью. Все взгляды в синагоге были прикованы к нему. Он медленно, без суеты, развернул пергамент. Его пальцы скользили по тексту, и было видно, что он не ищет случайный отрывок. Он шёл к конкретному месту, к тому, которое уже звучало в нём. Он нашёл его, поднял глаза на собравшихся и начал читать.
И с первого же слова всё изменилось. Это был не монотонный, напевный голос, которым обычно читали Писание. Его голос был тихим, но он заполнял всё пространство. В нём не было ни капли ритуальности. К тому же он не читал о ком-то, а свидетельствовал.
– Дух Господень на мне, – произнёс он, и слово «мне» прозвучало не как цитата, а как констатация факта. – Ибо Он помазал Меня благовествовать нищим…
Люди замерли. Они перестали качаться в такт молитве. Руки, перебиравшие кисти на талитах, застыли. Этот голос, который они знали с детства и который спрашивал о цене на оливки, теперь звучал иначе, ибо обрёл глубину и власть.