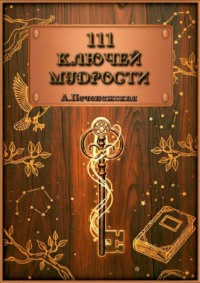Полная версия
Истинный лик Иисуса. Том 2
– …и послал меня исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение и отпустить измученных на свободу…
Он говорил, и слова эти, слышанные ими сотни раз, обретали новую, страшную и прекрасную жизнь. Они были не о далёком прошлом или туманном будущем, а звучали так, словно происходили здесь и сейчас. «Пленными» были они: пленники своих долгов и страхов. «Слепыми» тоже были они, не видящие ничего дальше своего порога. И «измученными» были они, измученные бессмысленной тяжестью жизни.
– …проповедовать лето Господне благоприятное.
Йешуа закончил, не став читать дальше, где говорилось о дне мщения, и остановился на обещании и благой вести.
В синагоге стояла звенящая, напряжённая тишина. Йешуа медленно свернул свиток и, не торопясь, отдал его служке, и тот, словно заворожённый, принял его. Затем Йешуа сел. Это был знак того, что сейчас он будет толковать прочитанное.
Он обвёл взглядом лица своих соседей и знакомых, с кем вырос, и тихо, но так, что его услышал каждый в последнем ряду, произнёс:
– Ныне исполнилось Писание сие, которое вы слышали.
И всё. Он не стал ничего объяснять, не стал толковать, а просто поставил точку.
Сначала было молчание. Мгновение абсолютного, оглушённого молчания, когда люди пытались осмыслить то, что только что услышали. А потом, как вода, прорвавшая плотину, начался гул.
– Что он сказал? – зашептал один из старейшин своему соседу. – Исполнилось? Ныне? Здесь?
– Он говорит о себе! – возмущённо прошипел торговец краской, тот самый, что смеялся над ним днём ранее. Он называет себя Помазанником!
– Но как он читал… – растерянно пробормотал один и молодых назарян. – У меня мурашки по коже… Словно сам Исаия говорил…
– Не богохульствуй, юноша! – одёрнул его отец. – Это просто Йешуа. Мы знаем его. Знаем его мать, его братьев. Откуда у него эта премудрость? Не у отца ли он её набрался, когда тот обтёсывал камни?
Гул нарастал, превращаясь в возмущённый ропот. Люди поворачивались друг к другу, их лица выражали смесь шока, недоверия и подспудного униженного гнева. Заворожённость, вызванная его голосом, сменилась раздражением.
– Он безумен! – решил кто-то.
– Нет, он просто горд! Слишком горд!
– Пусть покажет нам чудо, если он тот, за кого себя выдаёт!
Атмосфера в синагоге накалилась до предела. Сонная обыденность была взорвана. Но на её месте родилось не благоговение, ярость маленького городка, который не мог простить своему сыну того, что он посмел стать другим.
Гул недоумения быстро перерос в нечто большее. Это был не просто гнев, а глубокая, личная обида, словно каждый из них был обманут в своих ожиданиях. Йешуа сидел на своём месте, молчаливый и спокойный, и слушал, как вокруг него рушится мир его детства.
– Не сын ли это Йосефов? – этот вопрос, заданный кем-то из старейшин, стал спусковым крючком. Он висел в воздухе, и каждый наполнял его своим смыслом.
– Йосефов? – подхватил резкий голос плотника, который когда-то работал вместе с ним. – Я помню, как он учился держать пилу! Руки у него были не такие ловкие, как у отца! А теперь он говорит, что Дух Господень на нём? Какой дух? Дух гордыни, не иначе!
– И откуда у него такая премудрость? – вмешался булочник. – Он не учился в школах в Иерусалиме, не сидел у ног великих учителей, а жил здесь, в Назарете, и дышал той же пылью, что и мы все! Кто дал ему право так говорить?
Это была оскорблённая фамильярность. Они не могли, да и не хотели принять величие в том, кто был для них таким привычным и понятным. Его вчерашняя обычность делала его сегодняшнюю исключительность невыносимой.
– Я помню его мальчишкой, – зашептала одна из женщин своей соседке, и в её голосе была почти злость. – Он гонял голубей на площади, как и мой сын. А теперь говорит, что пришёл отпустить пленных на свободу? Пусть сперва отпустит свою мать от тяжёлой работы!
– Да! Да! – подхватил другой. – Кто он такой, чтобы так говорить с нами? Мы знаем его с детства! Знаем его братьев – Иакова, Иосию, Иуду, Симона. Они – обычные люди, как и мы. Чем он лучше их? Тем, что пропадал двенадцать лет неизвестно где?
Зависть, тонкая и ядовитая, начала просачиваться в их слова. Если он, один из них, мог стать таким, то что это говорило о них самих? Об их собственной жизни, такой простой и предсказуемой? Легче было объявить его безумцем или самозванцем, чем признать, что они сами упустили что-то важное.
Йешуа смотрел на них, на эти знакомые, родные лица, искажённые теперь смесью гнева, обиды и недоверия. Он видел их всех, как на ладони, и его сердце наполнялось в ответ не гневом, а глубокой, бездонной, почти невыносимой печалью.
Он находился посреди этого гула, этой бури из обид и требований, но внутри него была тишина. Йешуа смотрел на их лица, и его взгляд был взглядом врачевателя, который ставит безошибочный и печальный диагноз. Затем перевел взгляд на старого плотника, который кричал о его неумелых руках, и видел не злобу, а страх человека, чей мир был прост и понятен, а теперь в него вторглось нечто, что нельзя измерить локтем.
Он смотрел на женщину, которая говорила о его матери, и видел не яд, а усталость от бесконечной, однообразной жизни, в которой никогда не происходит ничего великого, и её раздражение было лишь завистью к тому, кто посмел вырваться из этого круга; на раввина Леви, требующего чуда, и видел не неверие, а слепоту человека, который так привык читать старые свитки, что разучился видеть живую жизнь. Он искал подтверждения в знамениях, потому что его сердце уже не могло распознать правду, когда она находилась прямо перед ним.
«Они не видят, – звучал внутри Йешуа тихий, печальный голос. – Они смотрят на меня, но видят не меня, а мальчика, который бегал по этой улице, видят сына каменщика Йосефа и моих братьев. Они видят всё, чем я был, и это прошлое, как плотная завеса, заслоняет им то, чем я стал».
Он понял с глубокой, пронзительной печалью: они никогда не смогут его увидеть, и не потому, что злы, а потому что слишком хорошо его знают. Их знание стало их слепотой, поэтому и не могут поверить, что из их глины, их пыли и их обыденности могло вырасти нечто большее. Принять его – значило бы признать, что и в их собственной жизни возможна тайна, возможно чудо, а это было слишком страшно и ответственно. Легче было объявить его самозванцем, чем пересмотреть всю свою жизнь.
«Они хотят чуда, – продолжался его внутренний монолог, – чтобы поверить. Но не вера рождается от чудес, чудеса – из веры. Они просят меня доказать, кто я. Но как я могу показать свет слепому? Я могу лишь быть светом. А увидят ли они его – зависит не от меня».
И в этот момент, в этой маленькой, пыльной синагоге, в окружении лиц, которые были ему дороже всех на свете, в нём родилось не разочарование и не обида, а знание. Горькое, как полынь, и ясное, как вода в горном источнике: «Никакой пророк не принимается в своём отечестве». Это был не закон, написанный в книгах, а истина, выстраданная его собственным сердцем. Его дом, его родина, его Назарет отвергли его.
И Он понял, что должен уйти. Это был единственный способ дать им шанс когда-нибудь прозреть. Уйти – значит стать для них чужим, просто слухом, легендой, чтобы однажды они смогли забыть сына каменщика и, возможно, увидеть Сына Человеческого.
Йешуа не стал отвечать на их требования, спорить и доказывать. Слова были бессмысленны. Он посмотрел на них в последний раз – на эти гневные, растерянные, знакомые лица, – и в его взгляде не было ни осуждения, ни обиды – лишь глубокая, тихая печаль.
И потом он просто встал. В этом простом движении была вся его окончательная решимость. Он неспешно пошёл к выходу, и толпа, которая ещё мгновение назад бурлила и кричала, инстинктивно замолчала и расступилась, образуя живой коридор. Он шёл сквозь стену их враждебного молчания и гневного шёпота, ничего не сказав в ответ, но Его уход был самым громким ответом, который без слов говорил: «Я не буду играть в ваши игры и не стану вашим домашним чудом. Я принёс вам истину, но вы выбрали привычку, а вместо свободы вы выбрали свои цепи». И вышел из синагоги на залитую солнцем улицу, не оглянувшись.
Дома его ждала Мирьям. Она не была в синагоге, но вести в маленьком городке летят быстрее птиц. Она всё знала, и увидев его на пороге, всё поняла по его лицу. На нём не было ни гнева, ни разочарования, лишь спокойная, твёрдая определённость.
– Я ухожу, мама, – сказал он тихо.
Она молча кивнула. Слёзы стояли в её глазах, но она не давала им воли.
– Они… не приняли тебя, – прошептала она.
– Они не могут принять то, чего не понимают, – ответил он. – Они видят сына каменщика, а он должен чинить дома, а не души.
Йешуа подошёл к матери и взял её руки в свои.
– Ты должна остаться здесь, – сказал он мягко. – Это твой дом. И мои братья, здесь. Им ты нужнее.
– А тебе? – вырвался у неё сдавленный вопрос, полный материнской боли. – Кто будет заботиться о тебе?
Он улыбнулся, и эта улыбка была полна бесконечной нежности и печали.
– У меня теперь другая семья, мама. И другой дом.
Он обнял её. Не так, как обнимает сын, ища утешения, а так, как обнимает взрослый мужчина, прощаясь навсегда. Он вдохнул её запах, запах родного дома и отпустил. Затем собрал в узелок немного хлеба, фиников и оливок, поскольку больше ему ничего не было нужно, и вышел на дорогу, ведущую из Назарета. На холме он остановился и обернулся, чтобы бросить последний взгляд на деревню своего детства.
Отсюда она была видна вся, как на ладони. Маленькие, прилепившиеся друг к другу домики. Узкие, пыльные улочки, по которым он бегал мальчишкой. Оливковая роща, где он прятался от полуденного зноя. Мастерская отца, откуда больше не доносился стук зубила.
Это был не просто уход из враждебного места, а окончательный, бесповоротный разрыв с прошлым. Он прощался не с людьми, которые его отвергли, а с самим собой – с Йешуа, сыном Йосефа, с тихой, предсказуемой жизнью, запахом камня, семейными ужинами, простыми человеческими радостями и печалями. Эта дверь закрылась навсегда. Теперь его домом будет вся Галилея, крышей – небо, а семьёй – те, кто услышит его Слово. Он смотрел на свой Назарет, и в сердце его была светлая печаль, но пророк должен быть странником.
Йешуа отвернулся и пошёл по дороге на восток, к Кинеретскому озеру. Он шёл к рыбакам, мытарям, больным и потерянным. К тем, кто не знал его прошлого и, может быть, поэтому был способен увидеть его будущее. Его публичное служение началось с отвержения, и это стало его путём.
Глава 8. Четыре тени, следующие за одной
Дорога из Назарета вела вниз, к озеру. С каждым шагом каменистая почва предгорий смягчалась, уступая место более тёмной, податливой земле Галилеи. Воздух менялся: сухой, горячий жар сменялся влажным, тёплым дыханием, и в нём уже можно было уловить далёкий, едва заметный запах пресной воды, водорослей и рыбы.
Йешуа шёл по пыльным тропам, которые вились между оливковыми рощами и террасами виноградников. Вдали, на склонах холмов, виднелись одинокие фигуры крестьян, согнувших спины на своих полях. Их движения были медленными, вечными, как сама эта земля. Они были частью пейзажа, неотделимого от него. Он смотрел на них, и в его сердце не было ни жалости, ни желания немедленно всё изменить, а лишь глубокое, тихое знание их усталости.
А впереди, за последним холмом, открылась вода. Огромное, сияющее под солнцем полотно Кинеретского озера, которое здесь называли морем. После пыли и охры холмов его синева была такой яркой, такой живой, что резала глаза. Это была не просто вода, а жизнь и обещание.
Он спускался всё ниже, и мир наполнялся новыми звуками и запахами. Шум прибоя. Крики чаек. И тот самый густой, ни с чем не сравнимый запах озера, смешанный с пылью дороги.
Люди, которых он встречал, были другими, нежели в Назарете: более открытыми и шумными. Их жизнь была связана не с тишиной мастерских, а с капризами воды и ветра.
В одной из деревень, через которую он проходил, его окликнул старик, сидевший у порога своей лачуги, который плёл сеть из камыша.
– Эй, путник! Не тебя ли я видел в прошлом году, когда у нас в долине хижины затопило? Ты помогал вытаскивать ослика у старого Леви?
Йешуа остановился. Он помнил тот день: промокшие до нитки люди, дети на плечах, женщины, спасающие глиняную посуду, как помогал укреплять плотину из глины и ветвей, а потом нёс за спиной мальчика, пока вода не ушла.
– Я был там, отец, – ответил он с тёплой улыбкой.
– Был! – обрадованно воскликнул старик. – Я так и подумал! Лицо знакомое. А что же ты теперь? Снова на заработки? Или к родне в Кфар-Нахум?
– К родне, – просто ответил Йешуа, не желая вступать в долгие объяснения.
– Добрый путь тебе! – крикнул старик ему вслед. – Передавай привет Симону-рыбаку, если увидишь! Скажи, Ахав до сих пор вспоминает его рыбу!
Чуть дальше дорогу ему преградили дети, игравшие в пыли. Они замолчали и уставились на чужака. Один, самый смелый мальчишка, с выпачканным инжиром ртом, подошёл ближе.
– Ты кто? – спросил он прямо.
– Путник, – так же просто ответил Йешуа.
– А куда идёшь?
– Туда, где вода, – сказал Йешуа, и его губы тронула лёгкая улыбка.
Дети проводили его любопытными взглядами и снова вернулись к своей игре. Для них он был просто человеком, идущим по дороге. Их не интересовало его прошлое.
Он отвечал на узнающие и любопытные взгляды с одинаковым спокойным вниманием, ибо в нем не было ожидания. Он не искал ни признания, ни помощи. Он был как река, которая течёт мимо берегов, отражая и деревья, и камни, и облака, но не задерживаясь, не привязываясь ни к чему. Он просто шёл… к воде.
И каждый шаг уносил его всё дальше от Назарета, но эхо того дня в синагоге всё ещё звучало внутри. Это была не обида, не гнев, а тихая, ноющая боль, как от раны, которая уже не кровоточит, но напоминает о себе. Боль от закрытой двери, которую закрыли те, кого он любил.
И в этой тишине, под мерный стук собственных шагов, он думал, осмысливая это отвержение, и оно, как горькое лекарство, очищало его от последних иллюзий.
В его памяти вставал образ Иеремии, пророка, чей плач стал его проповедью. Того, кто говорил правду людям, а они бросили его в грязную яму, потому что правда была невыносима. «Его слова, – думал Йешуа, – превращались в камни во рту тех, кто его слушал. Они не могли их проглотить и потому пытались убить того, кто их произносил».
Он видел перед собой Илию, огненного, несокрушимого, который после своей величайшей победы на горе Кармил бежал в пустыню от гнева одной женщины. Бежал, чтобы умереть от одиночества и истощения. «Даже самый сильный из них, – размышлял он, – узнал, что такое быть изгнанником, что дом пророка – не там, где его чтят, а там, куда его гонят».
И тогда, в пыли галилейской дороги, он понял с окончательной ясностью: они тоже уходили не потому, что их не любили, а потому, что их слово было больше, чем стены любого города, даже Иерусалима. Их дом был не в стенах, а в их слове.
И в этот миг Йешуа почувствовал, как последняя ниточка, привязывавшая его к Назарету, к его прошлому и его человеческой потребности в принятии, истлела и оборвалась. «Я иду не к людям, – прозвучала в нём ясная, спокойная мысль. – Я иду сквозь них».
И в этот момент внезапно понял, что он – не пастух, который должен собрать стадо в один загон, а река, которая течёт сквозь песок, касается каждой песчинки, смачивает её, сдвигает с места и даёт на миг почувствовать свою прохладу, но не остаётся с ней, а стремится дальше, к своей цели – великому морю. Его цель не в том, чтобы каждый город принял его, а донести свою воду, своё слово до конца пути.
Это новое знание дало ему странное состояние – ощущение отрешённости и одновременно предельного внимания. Он не думал о результате, о том, примут его или отвергнут, поймут или осмеют. Это больше не имело значения. И именно поэтому он стал невероятно внимателен ко всему, что его окружало.
Йешуа больше не был поглощён мыслями о своей миссии, ибо стал ею. И теперь он мог видеть, как дрожит лист на оливковом дереве, страх в глазах ящерицы, шмыгнувшей под камень, усталость в согбенной спине крестьянина на дальнем холме. Отныне он видел мир таким, какой он есть, во всей его болезненной, прекрасной и трагической полноте. Боль Назарета не сломала его, но освободила, сделала его странником, который был готов идти куда угодно.
Он вошёл в Кфар-Нахум, как в бурлящий котёл. Это был не сонный, замкнутый на себе Назарет, а кипящая, пёстрая, пограничная рыбацкая деревня, где жизнь не текла, а билась и пульсировала.
Первое, что ударило по нему, – это запахи. Густой, солёный, всепроникающий запах рыбы – свежей, только что вытащенной из сетей, и сушёной, которая висела длинными, серебристыми гирляндами под навесами домов. К нему примешивался острый запах дыма от жаровен, где на углях шипела рыба, и кисловатый запах дешёвого вина, который доносился из открытых дверей харчевни.
Потом на него обрушились звуки. Громкие, гортанные крики рыбаков, которые с натугой тащили на берег тяжёлые, полные бьющейся рыбы сети. Резкие, пронзительные визги чаек, круживших над гаванью в надежде на добычу. Шумный гомон рынка, где женщины яростно торговались за каждую монету, а торговцы наперебой расхваливали свой товар. И поверх всего этого – мерный, тяжёлый топот сандалий римского патруля, чеканившего шаг по каменной мостовой. Блеск их доспехов и шлемов под галилейским солнцем был постоянным, немым напоминанием о том, кто здесь настоящая власть. Вокруг кипела жизнь. Она была грубой, честной, полной труда, пота и простых, понятных страстей.
Йешуа не стал сразу искать приют. Он нашёл место на большом плоском камне у гавани и просто сел, став частью этого хаоса. Несколько часов он сидел неподвижно, наблюдая. Его взгляд скользил по рукам рыбаков, грубым, мозолистым, с въевшейся в кожу чешуёй, которые с невероятной ловкостью чинили дырявые сети. Он смотрел на лица торговцев, хитрые и уставшие, слушал, как ругаются из-за цены, как смеются над солёной шуткой, как играют у самой воды чумазые дети, строя замки из мокрого песка. Он не оценивал, не судил, а впитывал ритм этого места – ритм борьбы, труда и выживания.
Когда солнце начало клониться к вечеру и рыбаки, закончив работу, стали расходиться по домам, Йешуа встал. Он знал, к кому идти – к братьям Симону и Андрею, которые приютили его, когда он на некоторое время ранее останавливался в Кхфар-Нахуме.
Их небольшой, сложенный из тёмного базальта дом, от которого пахло дымом и рыбой, находился недалеко от берега. Дверь была открыта. На пороге сидел сам Симон – крупный, широкоплечий мужчина с обветренным лицом и густой всклокоченной бородой. Он молча чистил рыбу, и его движения были резкими, уверенными.
Йешуа подошёл и остановился в нескольких шагах. Симон поднял голову, и его глаза, привыкшие всматриваться в водную гладь, изучающе и немного настороженно оглядели пришельца.
– Мир твоему дому, Симон, сын Ионы, – тихо сказал Йешуа.
Симон открыто улыбнулся, узнав его, и встал, приветствуя кивком головы и показывая в рыбной чешуе руки.
– Видел твоего брата Андрея, – добавил Йешуа. – Он в учениках у Иоанна Крестителя у реки.
Лицо Симона мгновенно изменилось. Настороженность ушла, сменившись чем-то вроде грубоватого, молчаливого уважения. Он слышал рассказы брата о странном пророке и о миссии, приход которого он предрекал.
Симон не стал задавать лишних вопросов. Он вытер руки о свои грубые штаны, кивнул в сторону входа и пробасил:
– Входи, Йешуа. Дом мой не богат, но, ты знаешь, место для тебя найдётся. Жена как раз похлёбку варит.
Он принял его. Просто, без церемоний и расспросов, как принимают море, которое сегодня дало улов, или ветер, который нагнал тучи, как принимают то, что больше тебя, и чему не нужно объяснений.
Йешуа прожил в доме Симона несколько дней. Он не был просто гостем, ожидающим, когда его накормят, а стал частью их жизни. Рано утром уходил с рыбаками в море, и его сильные, привычные к работе руки помогали им тащить тяжёлые сети. Днём сидел на берегу и молча чинил дыры в сетях вместе со всеми. Он не учил, просто был рядом. И его молчаливое присутствие делало тяжёлую работу легче, а скудный ужин – вкуснее.
Рыбаки, люди простые и грубоватые, относились к нему с настороженным уважением. Но постепенно они привыкли к его тишине и заметили, что рядом с ним их обычная грубая брань как-то сама собой стихает, а споры из-за улова кажутся мелкими и глупыми. В его присутствии хотелось быть лучше, чем ты есть на самом деле. Именно поэтому вокруг него начали собираться люди.
Это не было запланированным собранием. Просто однажды после полудня, когда вся работа была сделана, Йешуа сидел на берегу на старой перевёрнутой лодке, глядя на воду. Симон присел рядом, чтобы отдохнуть. Несколько женщин, пришедших к озеру постирать бельё, увидев их, тоже остановились неподалёку, утирая потные лбы. Группа чумазых детей, игравших рядом, привлечённая тишиной взрослых, подбежала и уселась на песок у их ног. Подошёл и старый хромой нищий, который обычно сидел у рынка в надежде, что здесь ему что-то перепадёт. Они сидели в тишине, полной и мирной. И никто не решался её нарушить.
Первым не выдержал Симон. Он всю ночь закидывал сети, а вытащил лишь тину да пару тощих рыб. Его руки гудели от усталости, а в душе была свинцовая досада.
– Пустая ночь, – прорычал он, скорее в воздух, чем кому-то конкретно. – Вся работа – насмарку, словно проклял кто-то море.
Йешуа медленно повернул к нему голову.
– А если сеть твоя была дырявой, Симон? – тихо спросил он. – Виновато ли в этом море?
Симон осёкся. Он знал, что в его сетях были дыры, которые он всё ленился заделать. И вопрос этот был не про рыбу. Он вдруг почувствовал, что и в его душе есть такие же дыры, сквозь которые утекает вся радость и вся надежда.
Одна из женщин, молодая вдова по имени Лия, услышав это, набралась смелости.
– Йешуа, – сказала она, и её голос задрожал. – А если сердце моё – как дырявая сеть? Если я пытаюсь удержать в нём радость, а она вся уходит, и остаётся только горе? Как залатать такое сердце?
Взгляд Йешуа стал мягким. Он посмотрел на неё, и в его глазах было столько сострадания, что у женщины навернулись слёзы.
– Заплатку не ставят на гнилую ткань, Лия, – сказал он. – И в старые мехи не вливают молодое вино. Может, не латать нужно, а соткать новое?
Так начался их разговор. Он не проповедовал, а отвечал на их невысказанную боль, на их простую, как сама жизнь, усталость. Говорил не о законах и ритуалах, а о том, что они знали.
О крошечном горчичном зерне. Таком маленьком, что его почти не видно. Но если посадить его в добрую почву, оно вырастает в огромное дерево, в тени которого могут укрыться птицы. «Не ищите Царствие в громе небесном, – говорил он. – Ищите его в самой малой своей надежде, в самом тихом своём добром деле. И дайте ему вырасти».
Йешуа рассказал о женщине, потерявшей драхму, и о том, как она зажгла фитиль и мела весь дом, пока не нашла её. «Так и Отец Небесный, – его голос стал теплее, – ищет каждую потерянную душу. Для него нет ничтожных потерь. И радость Его о вас, найденных, больше, чем о тех, кто никогда не терялся».
Он говорил просто. Его слова были как чистая вода – они утоляли глубинную жажду, о которой многие и не подозревали. И люди, которые собрались вокруг него, – эти рыбаки, женщины, нищие, – слушали, и их загрубевшие сердца начинали понемногу оттаивать. Впервые с ними говорили не как с грешниками, которых нужно напугать геенной огненной, а как с потерянными детьми, которых любят и ждут дома.
Йешуа не говорил им о высокой теологии, не цитировал сложных мест из Пророков, не спорил о тонкостях Закона. Он говорил о том, что они видели каждый день и что было их жизнью.
Глядя на каменистую почву у берега, где едва пробивались чахлые сорняки, он сказал:
– Царство подобно человеку, который вышел сеять. И вот, когда он сеял, одно семя упало при дороге, и птицы налетели и склевали его. Другое упало на камень, где было мало земли, и быстро взошло, но, когда солнце вошло в зенит, увяло, потому что не имело корня. Третье упало в терние, и сорняки выросли и заглушили его. А четвёртое… – он сделал паузу, и его взгляд потеплел, – оно упало в добрую землю. И принесло плод.
Люди слушали и понимали. Они знали эту каменистую почву, знали эти сорняки и понимали, что он говорит не о земле, а об их сердцах.
Йешуа смотрел на женщин, которые несли свои корзины с рынка, и говорил:
– Ещё Царство подобно закваске, в которую женщина взяла и положила в три меры муки, доколе не вскисло всё.
Они кивали. Каждая из них знала, как маленькая, серая, почти незаметная закваска способна изменить целое тесто, сделать его пышным, живым. И они начинали смутно догадываться, что та маленькая надежда, что зародилась в их душе от его слов, может так же изменить всю их жизнь.