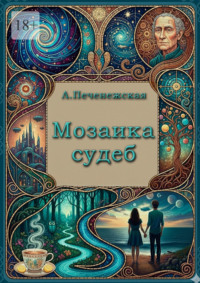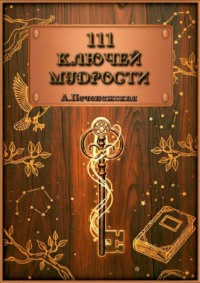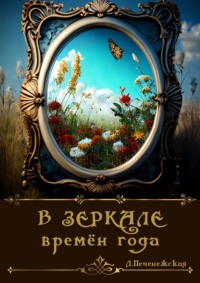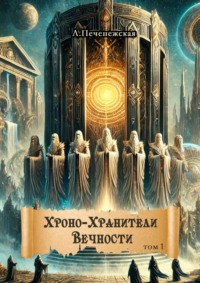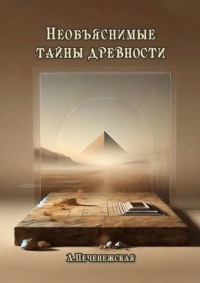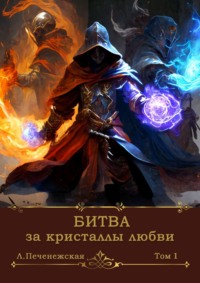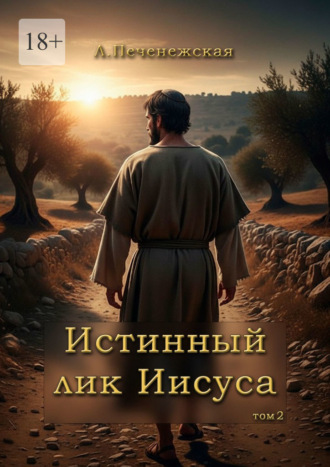
Полная версия
Истинный лик Иисуса. Том 2

Истинный лик Иисуса. Том 2
Лариса Печенежская
© Лариса Печенежская, 2025
ISBN 978-5-0068-0119-6 (т. 2)
ISBN 978-5-0068-0118-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Часть III. Пророк: годы земной славы
Глава 1. Как корень из сухой земли…
В этой горной деревне тени от инжирных деревьев падали длиннее, чем день. Между домами извивались тропинки – не улицы, а следы шагов, выжженные временем. Изредка по ним проходили женщины с кувшинами, и только звук воды внутри напоминал, что время здесь хоть немного движется.
Аин Карем был укрыт зеленью: виноград, розмарин, колючие кусты граната росли у каменных оград и сбрасывали зрелые плоды прямо на дорогу. Здесь не кричали, а говорили вполголоса, даже на базаре. Летом воздух был терпким от кипарисов и пыли, зимой пахло дымом от печей, где пекли ячменные лепёшки и сушили инжир.
Деревня держалась на воде и памяти. Колодец у источника считался священным: женщины опускали туда шерстяные нити, и если вода затягивала узел, значит, молитва будет услышана. У каждой хижины был свой способ смотреть на небо – через проём между ветками, через щель в ставне, через испуганные глаза стариков.
Внизу шумел источник. Местные говорили, что он появился ещё при Иевусеях и с тех пор не пересыхал, даже когда всё остальное умирало. Над ним висела слива с грубым, перекрученным стволом. Дети, если бы они тут были, играли бы в её тени. Но в Аин Кареме детей было немного, и смеха слышно не было давно.
Весной цвели персики, горько пах шалфей, а в воздухе стояла та особая тишина, которая бывает лишь там, где никто больше ничего не ждёт. В такую тишину не вмешивается даже Бог.
Дом Захарии был чуть выше источника, на выступе скалы, крошившейся от старости. Камни, из которых он был сложен, за века научились хранить жар, как память: тускло, но упрямо. В нем было всего две комнатки.
Во дворе рос куст мирта да старый гранат, который почти не плодоносил, но весной выбрасывал пару рваных цветков. Под навесом висели пучки высушенных трав: чабрец, полынь, иногда лавр – их жгли, когда в доме стояла сырость. Вход в дом был оплетен виноградом.
Внутри было тесно, но чисто. В одной комнате стояла кровать с тонким покрывалом и железным светильником у изголовья, в другой – низкий стол, глиняная посуда, сундук с молитвенными свитками Захарии, да полка, где хранились сосуды с маслом, зёрнами и редкими вялеными фруктами. Вдоль стены – каменная лавка, на ней кувшин с водой и деревянная чаша. Запах в доме был устойчивый: пыль, масло, сухая трава и старая ткань.
Здесь жила семья древних кровей: Захария происходил из череды священников, служивших в Храме ещё со времён Садока. Тихий и сдержанный, он не любил говорить о вещах громко и считал, что служение должно быть незаметным, как дыхание. Он уходил в Иерусалим по установленным срокам и возвращался, неся на себе запах ладана и усталость храмовой тишины. Елисавета, его жена, была женщиной кроткой, но с внутренней волей. О её роде напоминали разве что старые молитвенные формулы, которые она всё ещё помнила наизусть, и походка, выпрямленная годами стояния в храме. Они прожили вместе больше тридцати лет без детей, но с молитвой, которая сначала была горячей, потом – упорной, а в последние годы – молчаливой. Их брак держался на ритуале и памяти, как те камни, что удерживали дом на склоне.
Елисавета была женщиной, которую жизнь обтесала до прочности. Она происходила из рода Аарона – того самого, чьё имя поколениями передавалось среди храмовых служителей. В её семье умели молчать перед Богом и долго стоять – не от усталости, а от веры. Это молчание она унаследовала вместе с прямой, настороженной осанкой и способностью терпеть не обиду, а пустоту.
Она не жаловалась, не жалела, не вела счёта годам – только хранила в себе странную, сухую ясность. Её лицо было тонким, с выражением, которое казалось мягким, но внутри него чувствовалась твёрдость как у коры, покрывшей дерево, пережившее все зимы. Серебро в волосах она не пыталась прятать, но каждый вечер аккуратно их расчёсывала, как будто это могло восстановить не молодость, а порядок.
Её дни были просты и замкнуты, как кольцо: до рассвета – подняться, натопить печь сухими ветками, собранными с прошлого лета, замесить хлеб, вытереть пол у входа. Потом – колодец, кувшин, дорога в сторону родника, где женщины обменивались несколькими словами, избегая смотреть друг другу в глаза. Возвращение с водой, полив мирта и трав под навесом, подметание двора, чтение псалма, не вслух, а губами. В полдень – еда: лепёшка, маслины, иногда яйцо, если соседи приносили. После – тишина. Иногда днём она слышала, как в потолке щёлкало – сухо, неожиданно, словно дом, затаившийся с утра, вдруг напоминал о себе. Эти звуки не пугали её, ибо были частью того немногого, что ещё двигалось вокруг. Пальцы её подрагивали, когда она сшивала старую ткань. Один раз ей показалось, что за окном прошёл ребёнок, но, когда она вышла, это был куст с потрёпанными листьями.
Работы было немного, но жизнь требовала движения, иначе в доме начинала скапливаться тяжесть. Елисавета перебирала зёрна, перешивала старые платья, разбирала сухие травы, меняла ткань на ширме. Вечером – тёплая вода, гребень, сдержанный взгляд в медное зеркало и снова – неподвижность, как будто воздух забыл, куда ему идти. Казалось, время стояло на месте. Оно оборачивалось в ней самой, как старый дым в глиняной лампе, не выходя за ее пределы.
А в такие часы в Иерусалиме Захария стоял среди дыма и жара. Каменные стены дышали зноем, словно глотали молитвы, не возвращая даже эха. Очередь кадильщиков тянулась медленно, будто вытекала из самого нутра храма. Каждый поднимался по ступеням молча, с лицом, будто вырезанным из известняка. Захария был среди них – с запавшими щеками, натруженными руками и тонкой струёй пота, которая стекала вдоль позвоночника и впитывалась в пояс хито́на. Пальцы у него были чуть подогнуты, будто он до сих пор держал что-то тяжёлое. В Храме пахло жжёным ладаном, горячим камнем и усталостью. Он знал эти запахи наизусть, как знал, где точно скрипнет каменная плита под ногой, и сколько шагов между входом и медной дверью жертвенника.
Когда очередь подошла, он вошёл, как всегда. Встал перед жертвенником, низким и массивным, с медными краями, потемневшими от жара. Камень под ногами хранил тепло жертв и будто втягивал в себя дыхание. Захария поднял чашу с благовониями – смесь ладана, стактé, ониха и гальбана, как было положено. Его рука дрожала. Он высыпал ладан на раскалённые угли, и дым поднялся вертикально, как нить. В этот момент он начинал молиться за народ, чистоту храма и Завет. Он шептал нужные слова, но внутри ничего не двигалось. Не было ни жара, ни благоговения, только напряжённое, беззвучное «почему».
Он не думал о жене, не думал о ребёнке, ибо эта мысль сжалась в нём до уровня сухой, бессловесной тоски, как скомканный кусок ткани в кулаке. Он думал лишь о том, как устоять и не рассыпаться среди этих стен, где Бог уже давно не говорил, а только смотрел. Захария чувствовал, что внутри что-то истончилось: не душа, не вера, а само присутствие. Он не просил чуда, просто шепнул: «Дай мне знать, что я не зря жил. Знак. Любой.»
Он остался дольше, чем обычно, не из дерзости, а из усталости, которая больше не искала смысла. Колени ныли, пот сбегал в поясницу, плечи будто вросли в воздух. Вся поза была натянутой, как тетива, но в пустоту. Захария стоял и шептал на древнееврейском то, что повторял сотни раз, но внезапно сорвался на родной говор, как будто Бог мог услышать только тот, забытый. «Я не прошу больше и не требую. Но если Ты где-то есть, дай знак: не чудо, а хотя бы ветер, свет или птицу».
И в этот момент, когда дым уже начал рассеиваться и он собирался отойти, с потолка храма – с высоты, где тени прятались между балками, – оторвалось лёгкое перо. Оно медленно спланировало вниз и упало ему на плечо, едва заметно. Он вздрогнул, и сердце будто вспомнило, что может биться. Он сказал себе: это могло быть пылью, совпадением или ничем, но тело не верило. Глубоко в груди что-то сжалось, как перед долгим вдохом, и не отпускало.
Казалось, ничего не изменилось. Тот же свет и воздух, те же шаги на камне. Но когда он вышел, лицо его было другим: не разгладилось, а наоборот – обрело ещё одну складку, невидимую, но живую. Глаза его были сухи, как камень под солнцем, но в глубине зрачка что-то дрогнуло. Он не понял, что именно, но сердце уже знало: не всё завершено, поскольку что-то ещё осталось, а может, только началось.
Обычно, когда Захария был в храме, Елисавета замыкалась в рутине. Но в тот день, будто из ниоткуда, пришла весточка: соседка, вдова по имени Наара, родила мальчика. По обычаю, в таких случаях через семь дней после родов устраивали женскую баню – очищение и благословение, чтобы тепло земли вошло в тело и оставило в нём след. Это был не столько обряд, сколько древний жест поддержки и продолжения: женщины собирались, чтобы отпарить тело роженицы и тех, кто давно не рожал, чтобы дыхание трав, прикосновения и песни напомнили плоти о том, что в ней ещё может шевельнуться жизнь. Старшая из женщин деревни, к которой Елисавета ходила ещё девочкой, позвала её: «Приходи вечером. Будет баня. Тёплая. Для тела и для сердца.»
Елисавета не отказалась не потому, что верила. Просто давно не звали, когда стало ясно, что у неё не будет потомства. Не из злобы, а из обречённой деликатности. Её обходили, как сухое дерево, не из вины, а чтобы не ранить лишним касанием. А теперь кто-то вспомнил, и в этом было не обещание, а человеческое тепло. И всё же, когда она услышала слова приглашения, в ней что-то дрогнуло – не мысль, не надежда, а лёгкое напряжение, как будто ветер едва заметно качнул сухую ветку. Она отогнала это ощущение, но оно осталось где-то под кожей, на границе дыхания.
Комната, куда её привели, была низкой, с закопчённым потолком. Камни были разогреты до влажного тепла. Женщины говорили негромко. Они терли тело оливковым с миррой маслами, втирали круговыми их движениями в живот и поясницу, нашептывая: «Пусть откроется лоно. Пусть откроется путь.»
Елисавета пила тёплый отвар из граната, меда и коры мирры. Вкус был терпкий и вязкий, оставлял след на языке. Кто-то из женщин тихо пел. Она не понимала слов, но чувствовала, как звук проникает под кожу, будто вымывает что-то застоявшееся. Она ни о чем не просила, не думала о ребёнке, но сидела, слушала и дышала паром, как женщина, в чьей плоти ещё может проснуться зов.
– Натираем в стороны, по кругу, – говорила старая Рифка, – не вверх, не вниз: всё должно идти, как река.
Её ладони скользили по спине другой женщины, по животу, по рёбрам.
– Мы не тянем ребёнка. Мы зовём тепло, – продолжала она.
– Мирра сильна, но горька, – добавила другая, – чтобы тело помнило, как плакать. Без слёз матка черствеет.
– А гранат? – спросила третья, молодая.
– Гранат как завязь. Кровь в нём не та, что у нас. Он открывает врата.
Женщины пели вполголоса. Кто-то смеялся, кто-то кашлял от пара, но никто не отстранялся. В этом не было стыда. Они были плотью, сложенной из памяти, памятью, которая шла не из слов, а из пальцев, запахов, жара.
Когда очередь дошла до неё, Елисавета легла на камень, закрыла глаза. Камень был горячим, как внутренность печи, и в этом жаре было что-то неумолимое – не ласка, а память боли. Горячие ладони Рифки скользнули по её животу не властно, а бережно, как будто вызывали не дитя, а саму способность быть живой. В какой-то миг Елисавете показалось, что под пальцами дернулся забытый нерв, а может, воспоминание, слишком глубокое, чтобы быть словом. Она вздрогнула, но не от страха, а от того, как близко подошло что-то, во что она давно перестала верить, и не оттолкнула.
Когда всё закончилось и она, ещё влажная от пара, накинула платок и вышла на воздух, вечер уже начинал синеть. Под ногами хрустнул песок, и в спине отдавалось напряжение, как будто она несла в себе нечто плотное, не определённое, но живое. Елисавета чувствовала под рёбрами отклик – не болезненный, не сладкий, просто вибрацию, как эхо чьего-то зова, не до конца услышанного. И шаг её был чуть иным: не увереннее, но глубже, как будто из самой глубины что-то уже сделало выбор и повело её за собой.
Запах мирры ещё держался на коже, горький и пряный, будто пропитавший даже дыхание. Внизу живота пульсировало нечто вязкое: то ли остаточное тепло, то ли тень прикосновения. Дыхание стало медленным и тягучим, как после долгого сна. Всё было тихо, но не пусто. В теле остался не голос, не мысль, а след, будто кто-то задержался в ней на прощание.
Склон спускался в сумерки, как в воду: мягко, с теплом, которое не сразу чувствуешь. Захария возвращался домой без слов, с пустыми руками, будто ничего не вынес из Храма – ни знака, ни силы. Но в его походке была странная ясность, как если бы тело его запомнило нечто, чего он сам ещё не осознал.
Дом был уже в тени, и во дворе на камне сидела Елисавета. Платок её сдвинулся, и волосы выбились прядями. Она сидела чуть сгорбившись, будто не хотела, чтобы вечер касался её спины. В глазах был не взгляд, а тишина, не слёзы, но след чего-то, что прошло через сердце и не разрушило его, а оставило трещину. Захария остановился, и ветер коснулся его лица. Он смотрел долго, потому что слова показались грубыми. В горле поднялось имя, но не вышло. Он попытался сказать что-то про дорогу, про Иерусалим – и осёкся, словно сам себя прервал, услышав, как не нужно это сейчас.
Елисавета, кивнув в знак приветствия, встала и пошла в дом. Не оборачиваясь, но не торопясь. Он направился за ней, будто шёл по тропе, которую знал всю жизнь и вдруг заметил, как она изменилась. Снял сандалии у порога, как всегда, затем сел на своё место. Она поставила еду – лепёшку, фасоль с луком, несколько оливок, щепотку зелени и ломтик сушёного инжира. Рядом – чашечку с оливковым маслом, в которое добавила немного чабреца. Всё было просто, но казалось, будто в этой пище было что-то древнее, почти молитвенное. Он ел молча, медленно, как едят в дни, когда пища не для утоления, а для возвращения. Ни один жест не был новым, но воздух между ними, казалось, сдвинулся: не изменился, а напрягся, как перед словом, которое ещё не было сказано, будто в доме, за их спинами, задержалось что-то – не человек, не мысль, а присутствие, которое не требовало имени.
Когда трапеза закончилась, Елисавета встала, молча собрала остатки еды, вытерла стол и сполоснула чаши. Она двигалась спокойно, почти машинально – не как хозяйка, а как женщина, привыкшая всё завершать. Захария не вмешивался. Он наблюдал, будто впервые видел её движения: сдержанные, точные, упрямо живые.
Потом она вышла из дома и села на крыльцо, чуть опустив голову. Воздух был уже вечерний, густой. Она вглядывалась не в дорогу, а в пространство между тенями. Мысли её не собирались в слова, но в груди что-то медленно разворачивалось – не надежда, не страх, просто тихое знание чего-то необъяснимого, но желанного. Плечи её едва заметно подрагивали, но слёз не было слышно, ибо плакала беззвучно.
Захария вышел и остановился. Не сделал ни шага к ней, не сказал ни слова. Просто стоял и не уходил. Ветер тронул край его одежды, но он остался – не отрешённо, а как человек, который знает, что всё важное происходит в молчании. Он стоял, напряженно вглядываясь в неё, будто проверял – не исчезнет ли она, если дотронуться. Было ощущение, что любое движение разрушит не её, а его самого. Он забыл, как быть рядом, но знал: уходить нельзя. Иногда присутствие – это всё, что возможно и то, что нужно.
Прошло несколько мгновений. Потом он осторожно сел рядом. Ладонь его коснулась её локтя – не требовательно, не с надеждой, а просто, чтобы она знала: он рядом. И в этом прикосновении Захария вдруг почувствовал, какая она тёплая. Не просто телом, а всем существом. Её кожа не была холодной, как раньше, когда она спала тревожно и говорила мало. Теперь от неё шло нечто живое и плотное, как от земли, напитанной дождём. Он не понял сразу, что изменилось, но ощутил, как в нём что-то проявилось: не мысль, не желание, а простое признание, что она здесь.
Елисавета не оттолкнула, не повернулась к нему, но и не замкнулась. Только дыхание её стало медленнее, ровнее. Она, откликнувшись, чуть подалась к нему. Он не двинулся навстречу, но глаза его смягчились и дыхание стало глубже, будто в теле отпустила узкая давящая петля.
Захария ощутил, как напряжение, которое держал в себе столько лет, оседает под кожей, как талая вода, медленно отступая изнутри. И тогда он медленно, почти неосознанно, провёл пальцами по её руке – чуть касаясь, не властно, а с тем трепетом, с каким прикасаются к возвращённой жизни. Потом придвинулся ближе и несмело коснулся её щеки тыльной стороной пальцев. Кожа была тёплая, мягкая…
Его прикосновение задержалось на миг, в нём не было ни просьбы, ни уверенности – только тихая, осторожная нежность. Где-то в этом касании, не называя его, жило желание: не только, как зов плоти, но и как жажда быть рядом, быть впущенным и услышанным без слов.
Ладонь больше не искала подтверждения, она просто была не как утверждение, а как тихое присутствие, вписанное в эту тишину. В этом молчании между ними теплилось больше, чем в любой речи: дыхание, близость кожи, тепло, которое не требовало слов. Эта тишина была не пустотой, а соединением – хрупким, глубоким, живым, человеческим.
Он не знал, как это случилось. Может, это был её вздох, ставший глубже, а может, его рука, задержавшаяся дольше обычного. Или то, как она чуть наклонилась, и его губы коснулись её виска – осторожно, почти благоговейно. Они приблизились не сразу – не желанием, не памятью, а телами, которые нащупывали тепло и не отпрянули. Их дыхания совпали, руки ожили. Он гладил её плечо, не торопясь, как будто возвращал себе память прикосновений, а она не отводила лица, позволяла ему войти в саму тишину между ними.
Потом Елисавета поднялась и без слов направилась в дом, и Захария встал следом. Они вошли в тёмную комнату, где пахло сухим деревом и травами, и не зажгли светильника. Он обнял её сзади, и она не отстранилась. Их близость была не ответом и не надеждой, но шагом туда, где уже не нужно ничего объяснять. В этот вечер они не надеялись, не искали смысла и не молились, а просто позволили телам вспомнить друг друга и не быть раздельными, как прежде.
И ночь не принесла ни звёздного знака, ни светлого сна, но не была пустой. Было движение под кожей, тепло между телами, память жестов, которые не забылись. Было дыхание в унисон и тишина, принявшая их в свое лоно. Плоть оттаяла не от желания, а от разрешения быть, делиться и не прятаться. Не было слов, но было понимание. И в этом молчании что-то наконец случилось – без имени, но с движением, которое начиналось не с тела, а глубже как отклик на неведомое, рост без света и как корень из сухой земли.
В то утро она не проснулась до рассвета – впервые за долгие годы. Обычно просыпалась с первым светом, с ритмом тела, отточенным годами. А тут – нет. Солнце уже смело заглядывало своими лучами в окно, когда она открыла глаза. Первое, что ощутила – странную лёгкость в теле, как будто её покинула привычная тень.
Во сне ей виделась вода. Не дитя, не голос, не свет, а именно вода – бегущая, тихая, прозрачная. Она текла к источнику, не задерживаясь, будто несла какую-то важную весть, но не для неё, а сквозь неё. Звук воды был почти еле различим как дыхание, как внутренний пульс, совпадающий с её телом. Вода не несла смысла, но несла присутствие, будто кто-то говорил с ней без слов, трогая не разум, а глубже. Этот сон не тревожил, но остался в ней как шепот, который не требовал толкования, а только памяти, как знак, переданный не глазам, а плоти.
Проснувшись, она долго лежала, положив руку на живот, но не чтобы проверить, а прислушаться. Под кожей не шевелилось ничего, но ощущение было плотное, сосредоточенное. Кровь не пришла в положенное время. Она не считала, по крайней мере, сознательно. Но теперь, лёжа в полутьме, поняла: всё это время считала телом. И сегодня был уже шестой день. Замечала тяжесть в груди, чуть иную усталость, еле заметные перемены. Тело не кричало, не звало, но вело себя по-другому. Оно знало, как земля знает о семени ещё до того, как оно даст росток.
Она хотела сказать Захарии. Уже почти подняла руку, чтобы коснуться его плеча, но что-то в ней отпрянуло. Стало страшно – не перед ним, а перед возможностью, перед словом, которое может изменить дыхание дня: если сказать, станет реальным. А если потом вдруг исчезнет?
И она не произнесла ни слова, оставив это как тайное знание внутри себя. Пусть живёт и растёт в тишине, где ещё нет ни вопросов, ни ответов – только пульс и глухая плотность под пальцами.
Прошло ещё несколько дней. Между ними не было ни вопросов, ни намёков. Только взгляды, будто он что-то чувствовал, но не озвучивал. Она замечала, как его рука задерживалась на косяке, входя в комнату, как он дышал тише, когда стоял рядом, но молчал. И она – тоже.
Почти месяц спустя всё стало очевидным. Утром её тошнило. Грудь стала тяжёлой, налитой. Она не чувствовала страха, просто стояла у стены, держась рукой за грудь, и шептала что-то невнятное. Радости ещё не было, разве только согласие и принятие. И вдруг – в этом тишайшем моменте – она поняла: это не случайность, а продолжение.
И только спустя ещё несколько дней она подошла к Захарии. Взяла его за руку и, чуть затаив дыхание, положила на свой живот. Её ладонь легла поверх его, но не как указание, а как просьба: почувствуй, не бойся и будь рядом.
Он смотрел на неё долго, будто искал в её лице подтверждение того, во что ещё не смел поверить. Затем медленно, словно с усилием, опустил глаза. Его пальцы не дрожали, но были горячими. Он ничего не спросил, замерев какое-то время в установившейся тишине, а потом робко улыбнулся, как мальчик, которого вызволили из темной, холодной комнаты. Захария прижал её ладонь к животу и наклонился, так и не сказав ни слова.
И тогда радость вошла в дом не шумом, не криком, а светом, который начал прорастать в стенах и между ними. Радость, которую не нужно было произносить вслух, ибо она уже пульсировала в самом воздухе как нечто древнее, давно забытое, но вернувшееся домой – в неё, в него, в этот маленький, молчаливый мир, готовый стать другим.
Когда срок беременности был на исходе, в Аин Карем пришла Мирьям. Молодая, с дороги, в платке, который не скрывал ни усталости, ни света в лице. Елисавета не ждала, но сердце вздрогнуло ещё до того, как услышала шаги. Они обнялись не столько как родственницы, а как две женщины, чьи тела несли в себе тайну, начавшую раскрываться в глубине плоти.
И когда Мирьям наклонилась к ней, чтобы сказать приветствие, Елисавета вдруг вздрогнула: в её утробе ребенок шевельнулся резко, как будто отозвался толчком, ответом. Она прижала ладонь к животу и замерла.
– Он… он узнал, – прошептала она. – Того, кого ты носишь.
И сама не поняла, откуда знала это, но сказала с благоговением.
А Мирьям стояла рядом, не объясняя и не удивляясь, лишь глаза её стали мягче от улыбки узнавания. Затем чуть коснулась руки Елисаветы, как бы подтверждая: да, ты не ошиблась. Казалось, что в этот момент обе они были не только сами по себе, но и носительницы чего-то большего, что начинало раскрываться через них, между ними и сквозь них.
Начались роды, и на лице Елисаветы появились тени не тревоги, а тишины, которую знает только женщина, слышащая другое дыхание в себе. Не было боли, которую вспоминали другие. Было что-то другое – глубокое, тугое, почти молитвенное. Она дышала, как будто вспоминала, кто она до слов, до лет, до потерь. Тело не спорило, а принимало момент рождения.
Женщины были рядом. Они касались её ладоней, держали за плечи, переговаривались между собой, но не мешали ее внутренней тишине. Повитуха, что была ближе всех, тихо говорила, когда нужно было вдохнуть глубже, как только боль начинала нарастать, когда выдохнуть и расслабиться.
Ребёнок родился тихо, без крика. Когда сына положили на грудь Елисаветы, она не заплакала, только долго смотрела, но не на черты, а на то, как дыхание едва колышет его грудь, будто смотрела не на младенца, а на знак, данный ей свыше. Потом сказала:
– Он был во мне, но я его не придумала.
Женщины переглянулись, кто-то перекрестился, кто-то шепнул «благословенна», но всё это было мимо неё, потому что она уже знала всем телом: да, это случилось. В тот вечер над Аин Каремом стоял не свет и не знамение, а просто тёплый воздух, дрожащий над крышами, да простиралась тень винограда у порога…
Когда женщины затихли, и в доме повисла тишина, в дверях появился Захария. Он вошёл неслышно, как входит в храм – с настороженным сердцем.
Когда впервые увидел сына, он не взял его на руки сразу, а просто сел рядом и смотрел на него, будто пытаясь увидеть в младенце то, что уже почувствовал без слов. Глаза у него были сухими, но в них было движение – глубинное, как течение под камнями.