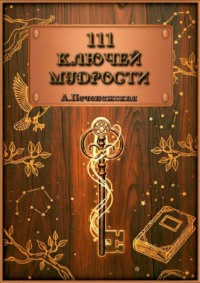Полная версия
Истинный лик Иисуса. Том 2
Он стал человеком, в котором не осталось ничего лишнего: ни одной лишней мысли и ни одного лишнего желания. Всё в нём было подчинено одной цели и одной воле. Он смотрел на свои руки и видел не свою плоть, а инструмент. Он слушал свой голос и слышал не свой тембр, а рупор. Он был стрелой, наложенной на тетиву, которая была натянута до предела.
Иоанн стал человеком, до конца осознавшим своё уникальное, страшное и огненное призвание. Быть Гласом. Не Словом, а лишь его преддверием. Быть эхом, предваряющим Гром. Быть ветром, который проносится по земле, срывая сухие листья и поднимая пыль, прежде чем прольётся очищающий ливень.
Он стоял на берегу Иордана, и вода текла мимо, вечная и равнодушная. Он смотрел на другой берег, на дорогу, по которой шли люди, понимая, что время его уединения завершилось и пустыня отдала его миру.
В его сердце больше не было вопросов и сомнений. Была лишь одна весть, которую он вынашивал, как женщина вынашивает дитя, которая росла, крепла и требовала выхода, став итогом всего: смерти отца и матери, разговора с Йешуа, строгости ессеев, голосов пророков, жара пустыни и холода реки. Всё теперь сошлось в одной точке.
Он глубоко вдохнул воздух, пахнущий илом и влагой, ощущая, как земля дрожит под его босыми ногами, как солнце касается его лица, и воспринял происходящее как взгляд Бога.
Он был готов выйти из своей тишины и потрясти мир, обрушить на него тот призыв, что зрел в его сердце все эти годы, тот крик, который был одновременно и приговором, и надеждой: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное! Приготовьте путь Господу!»
Глава 5. Глас у брода
Иоанн выбрал это место не умом, а нутром, как зверь выбирает тропу к водопою, где сама земля говорила с ним. Вифавара у Иордана. На первый взгляд – ничего особенного. Мутная, желтоватая вода, лениво текущая между берегами, поросшими тростником. Жара, от которой воздух дрожал, как струна. И вечная пыль дорог, поднимаемая копытами ослов и тяжёлой поступью римских патрулей.
Но это была сцена. Древний, священный театр, где должны были разыграться первые действия последней драмы. Иоанн чувствовал это кожей. Здесь, именно на этом берегу, за сотни лет до него, стоял Иисус Навин. И он смотрел на эту же воду, прежде чем повести иссохший, измученный сорокалетней пустыней народ в землю, обещанную их отцам. Воды тогда расступились, обнажив сухое дно. Это была первая граница, первый порог, переступив который Израиль вошёл в своё наследие через разрыв привычного порядка.
Иоанн теперь стоял здесь, глядя на тех, кто снова был измучен пустыней безверия, римского сапога и мёртвого Закона, и понимал, что он тоже стоит на пороге. Он не раздвинет воды, но погрузит грешников в них, чтобы они вошли в другое Обетование. Не в землю, текущую молоком и мёдом, а в Царство, которое ближе, чем их собственное дыхание.
Он вдыхал этот воздух, и в нём был не только запах ила, но и огня. Здесь, где-то совсем рядом, пророк Илия, человек, одетый, как и он, в грубую милоть, ударил по воде своим плащом, и она расступилась. А потом огненная колесница унесла его в небо, оставив его ученику Елисею лишь двойной дух и этот самый плащ. Поэтому Иоанн каждый день чувствовал на своих плечах не просто верблюжью шкуру, а тяжесть этой милоти. Он знал, что он – не Илия, но верил, что его дух огненной ревности и бескомпромиссной правды вернулся и что он, Иоанн, был его носителем. Конечно, его путь лежал в другую сторону, но он должен был, как Илия, ударить по стоячим водам этого мира, чтобы открыть путь Слову.
И это было не просто священное место, а открытая, кровоточащая рана на теле Иудеи. Брод, переправа, где сталкивались миры. По вымощенной камнем римской дороге чеканили шаг легионеры, неся на своих значках языческих орлов и являя собой воплощённую и несокрушимую власть кесаря. С юга тянулись караваны с набатейскими пряностями, и их погонщики говорили на чужих языках, молились чужим богам и несли с собой дух чужого, богатого и развратного мира. С севера шли галилейские рыбаки с солёной рыбой, а из Иерусалима – книжники, спешащие по делам в города Десятиградия. Здесь переплетались языки, запахи и судьбы, встречались набожность и цинизм, богатство и нищета, власть и бесправие.
Иоанн выбрал это место сознательно. Он не ушёл в глухую пустыню, чтобы вещать для скал, а сел у самой грязной, самой оживлённой артерии мира, поставив свой шатёр из тишины и правды посреди ярмарки человеческой лжи. Он ждал, когда смрад этого мира станет настолько невыносимым, что люди сами начнут искать чистой, холодной воды.
Когда пришедшие на крещение впервые увидели его, они не поверили слухам. Они ожидали увидеть безумца с горящими глазами или благостного старца, а увидели человека – скалу, который сидел на камне у воды так неподвижно, что казался частью пейзажа, выточенного ветром и временем.
Первое, что бросалось в глаза и вызывало недоумение, была его одежда: не просто грубая ткань, а невыделанная шкура верблюда, грубо сшитая и жёсткая. Не одежда, а покаяние, которое он носил на себе. Было видно, как колкий, ещё не вытершийся ворс впивался в его тело с каждым движением. Пришедшие невольно ёжились, представляя, как эти тысячи колючих игл вонзаются в кожу, не давая забыться и не позволяя ни на миг ощутить комфорт. Иоанн был полной противоположностью, кричащим вызовом тому, что они знали о святости. Они думали о первосвященниках в Иерусалиме, чьи одежды были из тончайшего, белее снега виссона, из гиацинтово-пурпурной шерсти, чей цвет стоил целое состояние.
Плоть Иоанна, видневшаяся из-под шкуры, была такой же, как и кожа на лице и руках, обожженная солнцем до цвета и фактуры глиняного черепка, готового вот-вот треснуть. Волосы и борода, чёрные, с проседью не от возраста, а от пыли, были спутанной дикой порослью, в которой запутались веточки и речные водоросли. Он не стриг их, не потому что дал обет, а потому что ему было всё равно. Тщеславие в нём было выжжено дотла. Его руки были не руками святого, что касался лишь свитков: кожа на костяшках потрескалась до крови, и ногти были сломаны. Он был земным, пугающе и невозможно земным.
Но потом он поднимал голову – и всё менялось. Его глаза. Люди, что видели их, потом не могли забыть. Они были просто не тёмными, а цвета углей, что тлеют в глубине костра, когда пламя уже погасло, но самый страшный жар ещё жив. В них не было ни безумия, ни покоя, но был огонь, неутолимый и беспокойный. И этот взгляд не останавливался на лице человека, поэтому не видел ни морщин, ни одежды, ни статуса. Он, казалось, прожигал всё это насквозь и видел лишь то, что каждый прятал глубоко внутри: ложь, тайный страх, застарелую обиду или гнильцу самодовольства. Под этим взглядом хотелось либо упасть на колени и зарыдать, либо бежать без оглядки.
А когда ветер дул с его стороны, он приносил с собой его запах. Это была странная, дикая смесь. Запах горькой полыни, который въелся в его кожу и волосы, и резкий запах дыма от костра, который он жёг по ночам. И под всем этим – влажный, землистый запах речной воды и ила, которым пропиталась его одежда. Однако это был не запах нечистоты, а запах абсолютной, пугающей свободы человека, который ничего не боится и ничего не хочет от этого мира, и он был страшнее его взгляда.
И вот в один из дней, когда у брода собралась особенно пёстрая толпа, а воздух был густым от пыли и праздных разговоров, Иоанн встал.
Он не сделал резкого движения, просто поднялся со своего камня – медленно, плавно, как поднимается из-за горизонта грозовая туча. И тишина, которая всегда окружала его, вдруг расширилась, поглотив болтовню толпы. Люди замолчали один за другим, поворачивая головы, словно стадо, почуявшее волка. Они смотрели на него, и их дыхание замерло в ожидании.
Иоанн открыл рот – и звук, который вышел из его гортани, был не человеческим голосом, а скрежетом камня о камень, рёвом ветра, запертого в ущелье, хрипом, рождённым годами молчания и тысячами беззвучных молитв.
– Шуву! – вырвалось из него. – Покайтесь!
Слово ударило в толпу, как камень, брошенный в стоячую воду. Это была не просьба, а приказ:
– Разворачивайтесь! Прямо сейчас! Не завтра, не после следующей жертвы. Здесь. На этом пыльном берегу.
Он обвёл толпу своими горящими, как угли, глазами, и его взгляд задерживался то на самодовольном лице книжника, то на сытом торговце, то на женщине в слишком ярких одеждах. И его голос, набрав силу, обрушился на них, вскрывая их ложь, как нож вскрывает гниль плода.
– Вы приходите сюда смотреть на чудо? Вы ищете знамений? – его голос стал ниже, опаснее. – А я смотрю на вас и вижу главное знамение – страх в ваших глазах! Вы боитесь римлян, боитесь болезней, боитесь потерять свои деньги. Но вы не боитесь Бога! Вы забыли о нём!
Он сделал шаг вперёд, к воде.
– Вы ходите в Храм! – крикнул он, и в его голосе зазвучал металл. – Вы приносите своих лучших ягнят на заклание и думаете, что запах горелого мяса и жира приятен Господу? А Он слышит, как плачет вдова, у которой вы вчера отняли последнее поле за долги! Вы приносите в жертву голубя, а душу свою продали за пару медных монет!
Он указал своей костлявой, иссечённой рукой в сторону Иерусалима, хотя его не было видно.
– Там, в своих школах, фарисеи и книжники спорят, – его голос сочился горькой иронией, – сколько капель крови очищают душу от скверны! Они строят ограду вокруг Закона, такую высокую, что за ней не видно ни Бога, ни человека! А я говорю вам: не капли чужой крови вам нужны, а реки собственных слёз! Смойте ложь! Смойте вашу праведность, которая хуже греха! Бог не в золоте Храма – он в ваших слезах!
Люди стояли, как громом поражённые. Никто не смел пошевелиться. Слова Иоанна летели в толпу, и каждый чувствовал, что они направлены именно в него.
– Вы поститесь, посыпая голову пеплом, чтобы люди видели вашу скорбь! – продолжал он, и его голос дрожал от сдерживаемого гнева. – А из ваших домов доносится запах жирного мяса, и сердца ваши полны зависти к соседу, чей осёл здоровее вашего! Вы – гробницы! Снаружи выбелены, а внутри – кости и смрад!
Он замолчал, тяжело дыша. И в этой оглушительной тишине, нарушаемой лишь плеском реки, он сказал уже тише, но от этого ещё страшнее:
– Змеи… Порождения ехидны… Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Думаете, эта река смоет ваш яд? Нет! Сотворите же достойный плод покаяния! И не думайте говорить в себе: «отец у нас Авраам». Ибо говорю вам, Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму.
Он наклонился, поднял с земли камень и швырнул его в воду. Брызги полетели во все стороны.
– Уже и секира при корне дерев лежит! Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь!
Он стоял, выпрямившись во весь свой худой, жилистый рост. Человек-огонь. Человек-боль. Человек-правда. И толпа, которая ещё минуту назад была просто сборищем любопытных, превратилась в нечто другое. Слова Иоанна повисли в воздухе, тяжёлые и звенящие, как похоронный колокол. И все, стоящие на берегу, замерли, парализованные ужасом и странным, болезненным восторгом.
И тогда из задних рядов вышел человек. Не книжник, не богач, а простой мытарь из Иерихона, сборщик податей, человек, чьё имя было синонимом предательства. Его лицо было бледным, руки дрожали. Он шёл, не поднимая глаз, расталкивая толпу, которая расступалась перед ним с брезгливостью. Он подошёл к берегу, споткнулся и упал на колени в грязь у ног Иоанна.
– Я… – прошептал он, и его плечи затряслись от беззвучных рыданий. – Я… всё, что ты сказал… это я. Что мне делать?
Иоанн посмотрел на него сверху вниз, и в его глазах не было ни жалости, ни презрения – лишь страшная, требовательная ясность.
– Встань, – приказал он. – И войди в воду.
И это не был спокойный ритуал. Это была борьба. Мытарь, шатаясь, вошёл в реку. Вода была холодной, мутной, она цеплялась за его дорогую одежду. Иоанн пошёл за ним. Он не поддерживал его, а шёл, как судья, идущий за осуждённым. Когда вода дошла им до пояса, Иоанн положил свою тяжёлую, мозолистую руку на затылок человека.
– Ты готов умереть? – хрипло спросил он.
Мытарь, дрожа, кивнул.
Иоанн не окунул его, а резко и безжалостно толкнул под воду. Голова человека исчезла в жёлтой воде. Иоанн держал его там секунду, две, пять… десять… Тело под его рукой начало дёргаться, инстинктивно борясь за жизнь. Это была борьба старой жизни, которая не хотела умирать, борьба страха, гордыни и привычки.
Он смотрел на пузыри, поднимающиеся на поверхность, и видел, как из этого человека выходит вся его ложь. Для Иоанна эта река была памятью о Потопе. Тогда Бог смыл с лица земли всю скверну, не оставив ничего. И сейчас этот маленький, личный потоп должен был смыть скверну с одной-единственной души. Это была добровольная смерть перед лицом грядущего Суда. Умри сейчас в этой воде, чтобы не сгореть потом в том Огне.
Но он знал, что вода в реке – это просто вода, и она сама по себе не творит чудес. Чудо уже произошло на берегу, в разбитом сердце этого мытаря. Этот человек уже был очищен своим покаянием, а вода стала лишь печатью, видимым знаком, который закрепит невидимое решение. Вода смывала не грех, а память о нём, давая телу то же освобождение, что душа уже получила.
Когда он почувствовал, что борьба в теле под его рукой почти прекратилась, что старый человек сдался, он резко рванул его вверх. Мытарь вынырнул с громким, судорожным криком, глотая воздух, кашляя и отплёвываясь водой. Он смотрел на мир безумными, обновлёнными глазами – и свет ему казался ярче, а воздух – слаще. Он стоял в водах Иордана, дрожа от холода и потрясения, уже будучи другим.
И все, кто стояли на берегу, понимали, что они увидели не просто омовение, а политический акт. Этот человек, который ещё минуту назад служил Риму и своей жадности, теперь стоял голым перед Богом. Вода Иордана унесла не только его грехи, но и его верность кесарю, зависимость от первосвященников и место в старом прогнившем мире. Выйдя на берег, он станет никем – не мытарем и не иудеем в привычном смысле слова, а просто человеком, ожидающим Царства. И это было опасно как начало бунта, который начинался не с мечей, а с воды и разбитого сердца.
После того, как первый – мытарь – вышел из воды, что-то изменилось. Страх в толпе не исчез, но в нём появилась трещина, и сквозь неё пробился робкий росток надежды. Люди увидели, что этот страшный пророк пришёл, чтобы не уничтожить, а пересоздать.
И они потянулись к нему. Не богачи и не книжники, а те, у кого не было ничего, кроме их грехов и их усталости: простые рыбаки, чьи руки пахли тиной, а души были спутаны, как старые сети; пастухи, чьи сердца были такими же выжженными, как холмы, по которым они бродили; женщины, чьи лица были изрезаны морщинами не от возраста, а от горя. Они шли к нему, потому что его вода не требовала шекелей – только разбитого сердца и потерянной надежды. Храм был далеко, и его святость стоила дорого, а Иордан был здесь, и его благодать была бесплатной, как воздух.
Они подходили к нему один за другим, и он говорил с ними, но его речи были совсем другими, нежели обращенные к толпе. Он не бил их громом слов, а давал простые, ясные, как речная галька, ответы.
К нему подошла группа солдат, наёмников на службе у Ирода Антипы. Здоровенные, циничные мужчины, привыкшие к крови и грабежу. Один из них, набравшись храбрости, спросил:
– А нам что делать, учитель? Тоже войти в воду?
Иоанн обвёл их взглядом, тяжёлым и внимательным. Он видел их силу, их жестокость, но видел и их растерянность.
– Никого не обижайте, – сказал он просто. – Не клевещите. И довольствуйтесь своим жалованьем.
Солдаты переглянулись. Они ожидали чего угодно: призыва бросить службу, уйти в пустыню, принести великие жертвы. А он сказал им не о том, какими они должны стать потом, а о том, какими они должны быть сейчас. Он не вырывал их из жизни, а требовал от них честности внутри их жизни. И эта простота обезоруживала, ибо была понятна и выполнима.
Следом за ними подошли другие мытари, привлечённые примером первого.
– Учитель, – спросили они, – а нам что делать?
– Не требуйте ничего более того, что вам положено, – ответил он, и в его голосе не было осуждения. Лишь констатация простого правила. Никакой высокой теологии. – Просто не воруйте и будьте людьми.
И ожидавшие своей очереди начали понимать, что его Царство – это не что-то далёкое и заоблачное. Оно начиналось здесь, на этом берегу, с простого решения: не брать чужого, не лгать, не обижать слабого. Его святость была не небесной, а земной, корневой.
Иногда в Иоанне просыпался его дикий, пустынный юмор. Однажды, когда он сидел на берегу и ел свой скудный обед – горсть сушёной саранчи, – к нему подошёл римский центурион, с любопытством наблюдавший за происходящим.
– Я слышал, в ваших книгах написано, что саранча – это одна из казней египетских, наказание от вашего Бога, – с лёгкой усмешкой сказал он.
Иоанн, не отрываясь от еды, поднял на него свои горящие глаза и хмыкнул, размалывая в зубах хрупкое насекомое.
– Вы, римляне, думаете, что казнь – это то, что можно увидеть, – прохрипел он. – А для меня казнь – это сытый желудок и пустая душа. Так что для вас это, может, и казнь… а для меня – ужин!
Центурион не нашёлся, что ответить. Он ожидал фанатика, а увидел человека, чья мудрость была такой же естественной и колючей, как кусты терновника на склонах. В этом человеке не было ни капли страха перед его властью, ни тени подобострастия. Была лишь несокрушимая, весёлая и страшная свобода. И люди, видя это, начинали любить его не только как пророка, но и как человека, который вернул им простое человеческое достоинство.
И в этот момент, когда в толпе царила хрупкая тишина, полная слёз и тихих решений, атмосфера изменилась. По дороге от брода к ним шла группа людей. Они не толкались и не спешили. Толпа сама расступалась перед ними, как вода перед килем лодки. Люди опускали глаза, отходили в сторону и замолкали на полуслове. Это были они – фарисеи в своих безупречных одеждах с тщательно выверенной длиной кистей. И саддукеи, богатые и холёные, от которых даже на расстоянии веяло властью и дорогими маслами. Они пришли не каяться, а судить, оценить, увидеть своими глазами это странное явление, этот дикий жар у реки, который угрожал их ухоженному, предсказуемому саду.
Иоанн, который только что с отеческой суровостью говорил с мытарем, увидел их и преобразился. Это было почти физическое изменение. Его плечи распрямились, тело напряглось, как у хищника перед прыжком. Доброта, какой бы суровой она ни была, ушла из его глаз. Теперь в них была лишь холодная, яростная пустота пустыни в полдень. Он смотрел не на учителей Закона, не на членов Синедриона, а сквозь них, видя их суть. И то, что он видел, вызывало у него не страх, а омерзение.
Они подошли и остановились на безопасном расстоянии от грязной воды и ещё более грязной толпы. Один из фарисеев, старый, с ухоженной бородой и глазами, полными холодного расчёта, сделал шаг вперёд, собираясь задать вопрос, поставить ловушку.
Но Иоанн не дал ему открыть рта. Он шагнул им навстречу, и его голос, который до этого был лишь хриплым, теперь загремел, как камнепад в ущелье.
– Порождения ехиднины!
Слово упало в толпу, и люди ахнули. Это было не просто оскорбление, а диагноз. Точный, беспощадный, смертельный.
– Змеи! – кричал он, и его палец, твёрдый, как сухая ветка, указывал прямо на них. – Вы выползли из своих нор посмотреть, куда бежать от грядущего гнева? Вы думаете, что спрячетесь здесь, у воды?
Он рассмеялся, но это был страшный, безрадостный смех.
– Вы прячетесь в высокой траве Закона, шипите свои толкования, чтобы отравить души простых людей! Вы спорите о чистоте рук, а сердца ваши полны грязи! Вы обвиваете праведностью свои жертвы и душите их, прежде чем поглотить! Вы думаете, я не вижу вас? Я всю жизнь прожил со змеями! Но даже они честнее вас! Они жалят, чтобы жить, а вы – чтобы доказать свою праведность!
Растерявшиеся фарисеи и саддукеи стояли бледные, их лица превратились в каменные маски. Ярость боролась в них с шоком: никто и никогда не смел говорить с ними так.
Иоанн сделал ещё шаг, и теперь они почти могли почувствовать запах его дикой, неприрученной силы. Он понизил голос, и этот шёпот был страшнее крика.
– Ваша трагедия не в том, что вы грешники. Грех можно омыть. Ваша трагедия в том, что вы мертвы при жизни.
Он смотрел в их глаза, и они, не выдерживая его взгляда, отводили свой.
– Внутри вас не бьётся сердце. Там – камень, на котором вы высекли свои правила. Внутри вас не кровь, а пыль мёртвых заповедей и высохшей гордыни. Вы – идеальные гробницы, гладкие, отполированные и правильные. Но подойди ближе – и от вас несёт холодом могилы. Вы пришли ко мне, к живой воде? Но мёртвые не могут войти в воду, поскольку могут только утонуть. Уходите и похороните своих мертвецов.
Когда последние из возмущённых фарисеев и саддукеек скрылись в облаке пыли, на берегу повисла густая, тяжёлая тишина. Толпа, до этого бывшая единым, замершим от ужаса организмом, начала распадаться. Люди приходили в себя. Большинство уходило быстро, почти бегом, не оглядываясь. Они уносили с собой осколки его слов в своих сердцах, и эти осколки будут болеть и ныть ещё долго, не давая им спать по ночам. Они получили то, чего не искали – встречу с собственной совестью. Но некоторые остались.
Они не знали, почему, просто не могли уйти. Это были те, для кого слова Иоанна были не просто обвинением, а точным описанием их собственной души. Молодой рыбак из Галилеи, чьё сердце устало от пустоты и мелкой суеты. Старый пастух, который всю жизнь говорил с Богом, но никогда не получал ответа, а сегодня услышал Его гнев. Та женщина, что плакала в толпе, и мытарь, всё ещё дрожащий после ледяной воды Иордана. Они стояли поодаль, не решаясь подойти к Иоанну, который снова сел на свой камень и, казалось, погрузился в безмолвие, отгородившись от всего мира.
Солнце начало клониться к закату, окрашивая небо в тревожные кровавые цвета. Потянуло ночной прохладой. И тогда рыбак, чьё имя было Андрей, сделал то, что умел лучше всего: пошёл вдоль берега и начал собирать сухой плавник для костра. Он не спрашивал разрешения, просто чувствовал, что ночь будет холодной, и этот огонь нужен. Увидев это, старый пастух достал из своей сумы краюху хлеба и кусок сыра. А мытарь, не имея ничего, просто сел и начал молча складывать камни для очага. Так, без единого слова, родилось их братство. Молчаливое братство людей, которых собрала не доктрина, а общая рана и общая надежда.
Иоанн наблюдал за ними из-под своих густых бровей. Он не позвал их, но и не прогнал, принял их. Когда костёр разгорелся, он подошёл и сел вместе с ними, протягивая свои иссечённые руки к огню. Они поделились с ним своим скудным ужином. Он принял хлеб и ел его молча, но его присутствие освящало их трапезу, превращая её в нечто большее, чем просто утоление голода.
Они не были учениками философа, которые сидят у ног учителя и записывают его мудрость, но были вестниками, чьей задачей было не понимать, а отражать.
Через несколько дней, когда Андрей вернулся из ближайшего селения, куда ходил за припасами, местный старейшина спросил его:
– Чьи вы люди? Ученики того, что у реки?
Андрей на мгновение задумался. Слово «ученик» казалось неправильным, слишком мелким. Разве можно быть учеником у грома или землетрясения?
– Мы не ученики, – медленно ответил он, подбирая слова. – Он не учитель. Он – Голос.
– Голос? – не понял старейшина.
– Да. Голос, вопиющий в пустыне, – ответил Андрей, и, произнеся эти слова, он вдруг понял, кто они.
Это имя прижилось и стало их позывным, их сутью. Когда они встречали друг друга на дорогах, они не спрашивали: «Ты от Иоанна?». Они спрашивали шёпотом: «Ты от Голоса?». Это не было именем человека, так как было именем Предтечи. И они, эти первые, обожжённые его огнём люди, были не последователями, а первыми нотами в той песне, которую запел его Голос, и их задачей было разнести её по всей земле, чтобы никто не мог сказать, что не слышал.
Ночь опустилась на берег Иордана, густая и бархатная. Последние из паломников ушли, и даже ученики, утомлённые днём, спали неподалёку, завернувшись в свои плащи. Только Андрей бодрствовал, молча подбрасывая в костёр сухие ветки и наблюдая за Иоанном.
Тот сидел один у самой воды. Толпа ушла, унеся с собой шум, восторг и ненависть. И в наступившей тишине проявилось то, что было скрыто за огнём проповеди: его человеческая, бездонная усталость.
Он сидел, сгорбившись и уронив голову на колени. Его плечи, которые днём казались несокрушимыми, теперь поникли. Он не был больше громом, не был скалой. Он был просто человеком, который отдал всего себя без остатка. Каждое слово, каждый взгляд, каждый жест он вырывал из своей души, и теперь она была пуста, выжжена, как земля после степного пожара. Сила, которая текла через него, была не его, поскольку лишь проходила сквозь него, как вода через треснувший глиняный кувшин, и, выплеснув ее из себя до дна, он оставался один на один со своей хрупкой, смертной плотью.