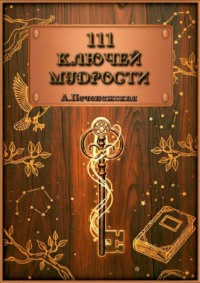Полная версия
Истинный лик Иисуса. Том 2
Он видел, как рыбаки перебирают улов, выбрасывая сорную рыбу и откладывая хорошую, и продолжал говорить:
– И ещё Царство Небесное подобно неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода. Когда он наполнится, его вытаскивают на берег и, сев, хорошее собирают в сосуды, а худое выбрасывают вон. Так будет и при кончине века.
В его словах не было угрозы. Была лишь спокойная констатация порядка вещей. И этот порядок был им понятен.
Но его первая настоящая притча родилась из усталости Симона, из его жалобы на пустые сети. Йешуа посмотрел на его опущенные плечи, на его мозолистые, сбитые в кровь руки и сказал голосом, полным сострадания:
– Один рыбак… – начал он, и все затихли, потому что он говорил об одном из них, – трудился всю ночь. Закидывал сети, тащил их, снова закидывал. Он знал все рыбные места, чувствовал ветер и течение. Но ночь была пустой. Ничего не поймал, кроме тины, камней и горького разочарования. Утром он сидел на берегу, как ты, Симон, и чинил свои рваные сети, и сердце его было таким же рваным. И он думал: «Всё. Я больше не могу. Силы мои кончились. Надежда моя ушла. Море победило».
Он сделал паузу, и каждый из рыбаков узнал в этом рассказе свою собственную пустую ночь.
– Но потом, – продолжал Йешуа, и его голос стал тише, но сильнее, – он посмотрел на восходящее солнце. И подумал: «Ночь кончилась, но начался новый день. И море – оно то же, но свет – новый». И рыбак взял свои починенные сети, оттолкнул лодку от берега и сказал себе: «Я закину их ещё один раз. Не потому, что я надеюсь на улов, а потому что я – рыбак. И моя работа – закидывать сети». И он закинул сеть… и стала тяжела от рыбы так, что чуть не рвалась.
Йешуа замолчал, не став ничего объяснять. Он говорил не о Боге, а о надежде, о том, что нужно сделать ещё один шаг, даже когда кажется, что все шаги уже сделаны. Говорил не о награде на небесах, а о том, как найти силы на сегодняшний день, о прощении долга, который давит на плечи, и как важно не сдаваться.
И люди, слушая его, чувствовали, как в их душах, таких же пустых и рваных, как сети Симона, что-то начинает меняться. Йешуа не обещал им лёгкой жизни, но давал им нечто большее – смысл продолжать, когда всё кажется безнадёжным.
Когда он закончил, никто не захлопал и не закричал: «Истинно!». Люди просто молчали, глядя на воду, на свои руки, куда угодно, только не на него. Слова Йешуа не были просто словами. Они были как семена, которые упали в их души, и теперь нужно было время, чтобы эти семена начали прорастать в тишине. Атмосфера была густой от невысказанных мыслей и смутных чувств.
Люди не расходились, словно боялись, что если они сейчас встанут и уйдут, то это обретённое ими хрупкое состояние покоя и ясности тут же исчезнет, растворится в обычной суете. И тогда начались просьбы о правде.
Первым подошёл тот самый рыбак, который спорил с соседом из-за межи, разделяющей их крошечные участки земли у берега. Он подошёл, помялся, переступая с ноги на ногу.
– Йешуа, – пробормотал он, – рассуди нас с Иосией. Он говорит, что я передвинул межевой камень на локоть в его сторону. А я говорю, что это он. Мы уже месяц не разговариваем, хотя живём бок о бок.
Йешуа посмотрел на него своим ясным, спокойным взором. Он не спросил, кто прав, а кто виноват, но уточнил другое:
– Скажи мне, Завулон, что для тебя дороже: локоть пыльной земли или мир с твоим братом?
Завулон открыл рот, чтобы возразить, но слова застряли в горле. Он посмотрел на свои мозолистые руки, потом на Йешуа. И в его взгляде что-то изменилось. Он вдруг увидел всю мелочность и глупость своей обиды. Затем молча кивнул и, не сказав больше ни слова, пошёл к своему дому, но уже другой походкой – не злой и упрямой, а решительной.
Следом подошла молодая женщина с заплаканными глазами.
– Йешуа, – прошептала она, – свекровь моя не любит меня. Что бы я ни делала, всё ей не так. Слово её тяжёлое, как камень. Как мне жить с ней под одной крышей?
Йешуа посмотрел на неё с глубоким состраданием.
– Ты пытаешься изменить её отношение к себе? – тихо спросил он. – Но камень тверд. А вода… мягкая, но она точит его. Не борись с твёрдостью свекрови. Отвечай на неё своей мягкостью, своей тишиной. И увидишь, что станет с камнем.
Люди тянулись к нему не как к учителю, который даст им готовые ответы, а к его спокойствию и ясному взгляду, который, казалось, видел самую суть их запутанной жизни и простым ответом распутывал этот узел. Он не решал за них их проблемы, но возвращал им их собственную душу, собственную совесть и собственные силы.
В конце нерешительно подошёл молодой парень, который недавно женился.
– Я люблю свою жену, – сказал он смущённо. Но иногда гнев застилает мне глаза, и я говорю ей горькие, злые слова, а потом ненавижу себя за это. Как мне усмирить свой гнев?
– Гнев – это огонь, – ответил Йешуа. – Ты пытаешься залить его водой, но он только шипит и становится сильнее. Не борись с огнём. Просто… не подбрасывай в него дров. Когда чувствуешь, что он разгорается, замолчи. Выйди из дома. Посмотри на воду. Послушай ветер. И когда ты вернёшься, от твоего гнева останется лишь горстка тёплого пепла.
И по Кфар-Нахуму, от дома к дому, от лодки к лодке, пополз шёпот. Но это был уже не тот шёпот, что в Назарете, не шёпот недоверия и зависти, а удивления и надежды.
– Ты слышал, что он сказал Завулону?
– А ты видел, как ушла от него Рахиль? Будто крылья у неё выросли.
– Он не творит чудес, но с ним говоришь – и становится легче.
– Он смотрит на тебя – и ты видишь себя по-настоящему, без лжи.
Люди начали приходить к дому Симона. Не с просьбами, а просто чтобы посидеть рядом с Йешуа и побыть в поле его тишины. Они ещё не знали, кто он, но знали одно: рядом с ним их собственная душа начинала звучать чисто.
Он не говорил им: «Идите за мной». Эти слова были бы слишком громкими и требовательными для той тихой работы, что он совершал в их душах. Он просто был с ними и работал вместе с ними.
Когда у старой вдовы Тамары прохудилась крыша и дожди грозили размыть её глинобитный дом, он не стал произносить утешительную речь, а молча взял инструменты, взобрался на крышу и несколько часов под палящим солнцем чинил её, заделывая щели смесью глины и соломы. Он работал с той же сосредоточенной лёгкостью, с какой говорил свои притчи. И Тамара, глядя на него, видела простое, деятельное добро, которое было красноречивее любых чудес.
Когда дети рыбаков играли на берегу и один из них сильно поранил ногу об острый камень, Йешуа подошёл, опустился на колени в пыль, промыл рану чистой водой и осторожно перевязал её полоской ткани, оторванной от своего хитона. Он не произнёс молитвы – просто коснулся заплаканного лица мальчика, и тот, почувствовав спокойное тепло его рук, перестал плакать.
Так, день за днём, он вплетал себя в ткань их жизни. И они начали понимать, что святость – это не что-то далёкое и храмовое, а починенная крыша, перевязанная рана и молчаливое, деятельное сострадание.
Но призвание Йешуа было в другом, личным и тихим. Поскольку Симон был человеком бури, его гнев был таким же внезапным и яростным, как шквал на Кинеретском озере. В тот день, после очередной неудачной ночи, он сидел на берегу и в сердцах ругался на дырявую сеть, которая упустила последний улов. Его руки, грубые и сильные, с яростью дёргали запутавшиеся верёвки.
Йешуа подошёл и сел рядом. Он не стал его успокаивать. Просто взял другой конец сети и начал молча помогать, распутывая узел за узлом. Они работали в тишине, и постепенно ярость Симона начала утихать, растворяясь в спокойном, размеренном ритме их общей работы. Когда последний узел был распутан, Симон с облегчением откинулся на песок.
Йешуа посмотрел на него. Его взгляд был прямым и глубоким.
– Не бойся, Симон, – тихо сказал он. – Ты всю жизнь борешься с морем, с ветром, с рваными сетями. Но это не твоя настоящая битва.
Симон замер. Он смотрел в глаза Йешуа и видел в них не приказ, а судьбу. Обещание другой, настоящей жизни, где его бурная сила будет направлена не на борьбу со стихией, а на что-то неизмеримо большее. Он посмотрел на свои руки, сеть и лодку. И всё это вдруг показалось ему таким маленьким, таким незначительным. Он молча выпустил сеть из рук, но не сказал ни «да», ни «нет», просто оставшись рядом. И это было его ответом.
Так же было и с другими. Йешуа увидел братьев Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, которые громко спорили в своей лодке, пытаясь распутать леску, зацепившуюся за корягу. Он молча подошёл, взял леску в свои руки и несколькими точными, спокойными движениями освободил её. Потом долго смотрел на них – на их молодые, горячие, полные страсти лица. Его взгляд был не укором, а вопросом: «Вы хотите всю жизнь распутывать эти узлы? Или есть узлы поважнее?». И они, не сговариваясь, вышли из лодки и пошли за ним.
Он нашёл Филиппа, тихого, задумчивого юношу, который сидел в стороне ото всех и чинил парус, подошёл и просто сел рядом, помогая ему протаскивать иглу сквозь грубую ткань. Они долго работали в молчании. А потом Йешуа коснулся его плеча и кивнул в сторону открытого моря, словно приглашая в путь. И Сендер встал, оставив недошитый парус.
Йешуа увидел на берегу Ходара, прагматичного и крепко стоящего на ногах рыбака, который пересчитывал свой скудный улов. Он подошёл и, глядя на несколько серебристых рыбёшек в его корзине, спросил:
– Ходар, ты считаешь то, что имеешь, или то, чем мог бы стать?
Ходар поднял на него удивлённые глаза. И вдруг рыба в его руках показалась ему просто мёртвой чешуёй. Он разжал пальцы, и она соскользнула на песок.
Они шли за ним не потому, что всё поняли, а потому что впервые в жизни почувствовали себя по-настоящему живыми. Рядом с Йешуа их собственная душа начинала звучать чисто. Грубый Симон чувствовал, как его гнев сменяется силой. Спорящие братья – как их страсть обретает цель. Тихий Сендер – что его молчание услышано. Прагматичный Ходар – что есть сокровище большее, чем рыба. Рядом с ним они становились самими собой. И это было самым большим чудом.
Дом Симона перестал быть просто домом. Он превратился в центр притяжения, куда после тяжёлого дня стекались люди. Маленький, сложенный из тёмного базальта дом, который раньше с трудом вмещал одну семью, теперь каждый вечер, казалось, трещал по швам.
Когда солнце опускалось за холмы и жена Симона зажигала масляную лампу, на её тёплый свет, как мотыльки, слетались люди. Дверь не закрывалась. Входили без стука. Приходили рыбаки, пропахшие солью и ветром, и, не разуваясь, садились прямо на земляной пол, вытягивая гудящие ноги, их жёны, уставшие от дневных забот, с сонными младенцами на руках, которые тут же начинали хныкать от шума и запахов. Приходили старики, чтобы погреть свои больные спины у очага, и тут же начинали ворчать на молодёжь.
Воздух был густым, почти осязаемым. В нём смешивались запахи человеческих тел, пота, дыма очага, сушёных сетей, развешанных по стенам, и горячей чечевичной похлёбки, которую жена Симона, хмурясь, разливала по глиняным мискам.
Люди приходили не всегда слушать. Чаще, чтобы выпустить пар после тяжёлого дня, поспорить, пожаловаться.
– Учитель, – начинал один из рыбаков, вытирая усы после похлёбки и громко рыгая. – Ты говоришь, Царство подобно зерну. А я говорю, жизнь подобна дырявой сети! Сегодня вытащил двадцать рыбин, а донёс до рынка только десять. Остальные ушли сквозь прореху, которую я третий день ленюсь заделать! Как быть?
– Так может, ценность не в той рыбе, что ты продал, а в той дыре, которую ты наконец заделаешь? – тихо отвечал Йешуа, и в его глазах плясали смешинки.
Люди смеялись. Этот ответ был им понятен.
– А я не согласен! – вмешивался прагматичный Ходар, который сидел в углу и чинил свой башмак. – Если всё время латать дыры, когда рыбу ловить? Семью чем кормить? Твоими притчами? Мои дети просят хлеба, а не мудрых слов!
Поднимался спор. Горячий, как и сами эти люди.
– А ты вспомни, Ходар, как на прошлой неделе у тебя сломалось весло посреди озера! – кричал ему Андрей. – Кто тебе помог? Я! Я поделился с тобой своей рыбой в тот день! И ты не умер с голоду!
– Поделился! – фыркал Ходар. – Отдал мне трёх дохлых тиляпий, которых сам бы не продал!
Йешуа редко вмешивался в их споры. Он больше слушал, и его молчание было таким внимательным, что люди, споря друг с другом, на самом деле обращались к нему, искали в его глазах одобрения или ответа. Иногда он задавал один-единственный вопрос, который поворачивал весь спор в совершенно иное русло.
– Ходар, – вдруг спросил он, перекрывая шум. – Когда твой сын болел в прошлом месяце, что ты чувствовал?
Ходар замолкал, смущённый.
– Страх, – признавался он неохотно. – Большой страх.
– И что ты тогда просил у Бога? Хорошего улова или здоровья сыну?
Ходар молчал. И все в комнате молчали вместе с ним, потому что ответ был очевиден.
Люди приводили своих близких. «Пойдём, посидишь, послушаешь, – говорили они. – Там хотя бы тепло и кормят».
И вот однажды вечером, когда шум и гомон были особенно сильны, жена Симона, сильная, обычно молчаливая женщина, которая с непроницаемым лицом ставила на стол миски, вдруг подошла к Йешуа. Она вытерла руки о передник и сказала, глядя ему прямо в глаза:
– Моя мать больна. Лежит в жару уже третий день. Не ест и не пьёт. Всё время говорит о своём покойном муже.
Это не было просьбой в чистом виде. Это была простая констатация беды. Предел её собственных сил. В комнате мгновенно наступила тишина. Все споры и шутки стихли. Все взгляды были прикованы к Йешуа.
Он посмотрел на эту уставшую, сильную женщину, и в его взгляде было столько сострадания, что она не выдержала и всхлипнула.
– Где она? – спросил он тихо.
Жена Симона молча кивнула и, повернувшись, повела его за собой в соседний дом. Шумная компания учеников и друзей расступилась, провожая их удивленными и почтительными взглядами.
Комната была маленькой и душной. Пахло сушеными травами и тем особым кисловатым запахом болезни, который ни с чем не спутать. Единственное маленькое окно было занавешено плотной тканью, чтобы жар не проникал внутрь, и в полумраке едва угадывались очертания низкой лежанки.
На ней, под тяжелым шерстяным одеялом, металась, словно в лихорадке, пожилая женщина. Ее сухие, потрескавшиеся губы бессвязно шептали имя своего покойного мужа, зовя его из другого мира. Ее ввалившиеся глаза были полуоткрыты, но ничего не видели. Она была уже не здесь. Ее душа блуждала где-то на границе между жизнью и смертью, и с каждым часом все дальше уходила от берега живых.
Йешуа опустился на колени рядом с лежанкой прямо на утоптанный земляной пол. Он не стал произносить молитв или совершать таинственных обрядов. Он просто смотрел на нее мгновение, и его взгляд был полон той же бездонной скорби, что и у ее дочери. А затем протянул руку и взял ее сухую ладонь в свои. Его прикосновение было прохладным, крепким и уверенным. Словно якорь, брошенный в бушующее море ее лихорадки.
– Анна, – сказал Йешуа. Он назвал ее по имени, и его голос был негромким, но полным такой живой, властной силы, что, казалось, мог достучаться до самых глубин ее блуждающего сознания.
– Муж твой дожидается тебя на небесах, но твое время еще не пришло. Твоя дочь здесь. Твоя семья здесь. Возвращайся.
Это не было заклинанием. Это был призыв. Зов к жизни, обращенный не к телу, а к душе, которая уже почти сдалась. И женщина перестала метаться. Ее дыхание, до этого частое и прерывистое, вдруг стало ровным и глубоким. На иссохшем лбу, под спутанными седыми волосами, выступили мелкие капельки пота. Она медленно повернула голову, и ее мутный, блуждающий взгляд прояснился. Она с удивлением посмотрела на свою руку, которую держал Йешуа, потом перевела взгляд на его лицо.
А затем села. Просто села на лежанке, откинув тяжелое одеяло. Ее дочь ахнула и бросилась к ней, чтобы поддержать. Но Анна мягко отстранила ее руку, спустила ноги на пол и, опираясь на край лежанки, встала нетвердо, но самостоятельно.
Когда они втроем вернулись и Геуда, плача и смеясь одновременно, рассказала о том, что произошло у нее на глазах, в доме Симона воцарилась тишина. Но это была уже не тишина тревоги, а благоговения. Люди, заглядывавшие в дверной проем, молча смотрели на женщину, которая еще пять минут назад умирала, а теперь сидела за столом и ела рыбную похлебку. Они понимали, что только что стали свидетелями не просто исцеления, а победы жизни над смертью, одержанной силой одного лишь сострадания и тихого, властного слова.
Этот вечер изменил всё. Дом стал живым: дышал, спорил, смеялся и плакал. Но, кроме этого, в нём поселилась ещё и надежда на чудо.
Йешуа сидел посреди этого шума, хаоса и живого, дышащего кольца и чувствовал, что больше не один. Он обрёл свою первую общину. Не общину святых и праведников, а простых, уставших, спорящих, но живых людей, которые собрались вокруг его Слова, как вокруг костра в холодной ночи. Его Путь начался. Но, как оказалось, ему предстояло пройти проверку холодным светом нового дня.
Той ночью Симон и Андрей, а с ними и сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, вышли на озеро, как делали это сотни раз до этого. Их сердца были полны новых, смутных надежд, но руки привычно делали свою тяжелую работу. Они забрасывали сети, тянули их, перебирали мокрые веревки, снова и снова вспарывая темную воду Кинерета. Но озеро в эту ночь было глухо и пусто.
Было еще не утро, а лишь обещание утра. Свинцовая гладь Кинерета дышала холодом. Вода казалась густой и неподвижной, словно застывшее масло, и только на востоке, там, где горы еще прятали солнце, небо начало светлеть, окрашиваясь в цвет разбавленного молока. Молочная дымка висела над водой, съедая очертания дальнего берега и превращая мир в театр теней.
В этой призрачной тишине лодка Симона не плыла, а ползла к берегу, израненная и опустошенная, как и люди в ней. Не слышно было ни песен, ни шуток, ни привычной рыбацкой ругани. Только мерное, усталое поскрипывание уключин да тяжелое дыхание мужчин. Холодный, влажный воздух пробирался под грубую ткань одежд, лип к коже, заставляя мышцы ныть тупой, изматывающей болью.
Лодка ткнулась носом в прибрежную гальку с глухим, покорным стуком. Этот звук стал финальным аккордом их ночного поражения. Андрей, брат Симона, молча поднялся и, не глядя на остальных, шагнул в мелкую, ледяную воду, чтобы вытянуть лодку повыше на берег. Его движения были механической медлительностью вымотанного тела, которое уже не принадлежит воле, а движется по одной лишь привычке.
Сети были пусты. Это не просто отсутствие рыбы. Это было оскорбление, нанесенное морем, их кормильцем, приговор, вынесенный самой ночью. Симон смотрел на спутанные, темные от воды веревки, и перед его внутренним взором вставали не серебристые спины тиляпий, а глаза его жены и маленькой дочери, ждущих его дома с уловом, который он не принесёт. Голод был не абстрактным понятием: у него было лицо.
Запах воздуха был острее, чем обычно на рассвете. Он был пропитан густым, вязким запахом тины, поднятой со дна их бесплодными усилиями. Пахло мокрым, старым деревом лодки и прелой прибрежной травой. Но один запах отсутствовал, и его отсутствие кричало громче любого звука. Не было свежего, солоноватого запаха живой рыбы. Лишь призрачный дух его, въевшийся в дерево, в веревки, в саму кожу их рук, дразнил и напоминал о неудаче.
Симон сидел на корме, ссутулившись так, что его могучие, широкие плечи казались поникшими и жалкими. Обычно этот громкий, уверенный в себе хозяин лодки, чей голос перекрывал шум ветра, сейчас был тише воды. Его пальцы, толстые и грубые, как корни старого дерева, безвольно перебирали край сети. Они машинально искали запутавшуюся чешуйку, застрявшую травинку, хоть какой-то знак того, что их труд не был напрасен. Но находили лишь холодную, скользкую пустоту.
Тишина в лодке была тяжелой, как мокрые сети. Она была сплетена из мужского стыда, из безмолвного вопроса «почему?», из скрежета зубов, которые сдерживали проклятия. Каждый думал о своем, но думали они об одном и том же: о долгах, пустых желудках и собственной никчемности.
Для Симона это было личное поражение. Он знал это озеро с детства, чувствовал его дыхание, понимал его капризы, читал знаки на воде и в небе. Он был рыбаком. Это было не просто ремесло, а то, чем он был. И этой ночью озеро, его старый друг стал врагом, отвернувшись от него, посмеявшись над его опытом и силой. Он смотрел на свои руки, созданные, чтобы тянуть полные сети, и видел руки неудачника, который вернется домой к своей семье с пустой корзиной и пустым сердцем. И этот стыд был холоднее, чем предрассветный ветер с Голанских высот.
Отчаяние Симона был таким сильным, что он не сразу заметил, как мир вокруг ожил. Первый луч солнца, острый и золотой, пронзил утреннюю дымку и ударил по воде, рассыпавшись миллионом ослепительных искр. Берег, до этого серый и безжизненный, наполнился звуками. Это был негромкий, но настойчивый гул – шорох сандалий по гальке, приглушенный говор, покашливание. Люди, в основном простые ремесленники и женщины из Кфар-Нахума, стекались к берегу, привлеченные не утренней прохладой, а слухом о том, что здесь будет говорить Учитель из Назарета.
Симон с раздражением поднял голову. Бездельники. Им не нужно было всю ночь бороться с морем за право на жизнь. И вдруг в центре этой увеличивающейся толпы он увидел Йешуа. Тот не стоял на возвышении, не привлекал к себе внимания громкими призывами, а просто был там, и люди сами стягивались к нему, как мотыльки к пламени светильника.
Внезапно он отделился от людей и направился прямо к его лодке. Его шаги по прибрежному гравию были легкими и уверенными. Подойдя, он остановился, и его тень упала на рыбака.
– Симон, – его голос был спокойным, без тени приказа или просьбы, – Позволь мне войти в твою лодку. От берега меня будет лучше слышно.
Симон мгновение молчал, пытаясь унять волну глухого протеста, без видимой причины нахлынувшую на него. Вскоре он лишь коротко кивнул, и это движение стоило ему огромного усилия.
Йешуа легко ступил в лодку, и та лишь слегка качнулась под его весом. Симон, повинуясь его молчаливому взгляду, оттолкнулся веслом от дна, медленно отплывая от берега на несколько локтей, и лодка замерла, покачиваясь на ленивой волне.
И Йешуа начал говорить. Его слова текли, как чистая вода. Они были о простых вещах – о сеятеле, бросающем зерно, о горчичном семени, о потерянной овце. Симон не слушал. Для него это был лишь фон, ровный и убаюкивающий гул, как шум далекого прибоя. Он сидел боком к берегу, к толпе и смотрел на свои пустые, бесполезные руки, лежащие на коленях. Солнце начало припекать ему в затылок, и он чувствовал, как на коже выступает пот, смешиваясь с солью его ночного отчаяния. Каждое слово Йешуа о Царстве Небесном отдавалось в его душе едкой иронией. Какое ему дело до небес, когда земля уходит из-под ног?
Постепенно говор на берегу стих. Люди начали расходиться, унося с собой слова, которые Симон не удостоил своим вниманием. Вскоре на берегу никого не осталось. Тишина вернулась, но теперь она была другой – не давящей, а звенящей, наполненной невысказанным ожиданием.
Йешуа не нарушал ее. Он молча пересел со скамьи поближе к борту, и его взгляд, ясный и глубокий, устремился на воду. Он не смотрел так, как смотрят рыбаки, – выискивая, оценивая, охотясь. Его взгляд был спокоен и открыт, он словно впитывал в себя все, что видел: игру света на волнах, полет одинокой чайки, далекие очертания гор. Он давал Симону время и пространство, чтобы тот до конца испил свою горькую чашу.
И в этой тишине, в этом терпеливом созерцании, Йешуа увидел то, на что у Симона уже не было ни сил, ни желания смотреть. Солнце, поднявшись выше, изменило угол падения света, и вода перестала быть однородной. Вдалеке, там, где кончалась прибрежная отмель и начиналась глубина, пятно воды казалось плотнее, словно синяк глубокого индиго на бледно-голубом шелке озера. А затем по этому пятну прошла дрожь. Не рябь от ветра, а трепет изнутри, снизу. Едва заметное маслянистое мерцание на поверхности, выдававшее мощное, единое движение тысяч тел в темной глубине.
Это был знак. Тонкий, почти невидимый для глаза, измученного бессонницей и отчаянием. Но не для того, кто смотрел на мир с тихим, непредвзятым вниманием. Йешуа продолжал смотреть, не отрываясь, и на его губах промелькнула тень улыбки, которую Симон, погруженный в свои мысли, не мог видеть.
Солнце уже поднялось достаточно высоко, чтобы его тепло стало ощутимым. Оно высушило капли росы на бортах лодки и согрело спину Симона, но не могло растопить лед внутри него. Тишина продолжалась так долго, что стала почти физически ощутимой, как слой пыли, осевшей на всем вокруг. Симон уже начал думать, что Йешуа просто уснул с открытыми глазами, засмотревшись на воду. Он уже готов был грубо кашлянуть, чтобы напомнить о себе, о том, что пора бы пристать к берегу и пойти домой зализывать раны, как вдруг тот заговорил.