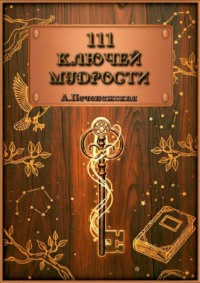Полная версия
Истинный лик Иисуса. Том 2
Иоанн долго смотрел на знак. Потом взял палочку. Но вместо того, чтобы скопировать букву, он начертил рядом что-то другое: два рога и массивную голову.
– Это тоже Алеф, – сказал он уверенно. – Как у вола, который пашет поле. Он сильный. Он – первый.
Захария замер. Мальчик не просто повторил звук. Он увидел корень, древний, ещё дописьменный образ, который лежал в основе буквы, – голову быка, символ молчаливой силы. То, о чём знали лишь книжники, изучавшие происхождение письма. Откуда мог знать это его неграмотный сын?
– Да, – медленно произнёс Захария, и его голос дрогнул. – Да, сын. Это – вол. А это, – он начертил букву «Бет», – дом.
– Дом, – кивнул Иоанн. Он оглянулся на их жилище, потом начертил рядом с буквой квадрат с точкой внутри. – Это мы. Внутри.
День за днём они продолжали свои уроки. И каждый раз Иоанн не просто учил, а узнавал, видя в букве «Гимель» – верблюда, в «Далет» – дверь, в «Мем» – волну. Он заучивал не знаки, а читал мир, и буквы для него были лишь его отражением. Захария перестал его учить. Он просто сидел рядом и слушал, как его сын разговаривает с Богом на языке Его творений, чувствуя благоговейный трепет, смешанный с ужасом. Этот мальчик читал Книгу Бытия не по свиткам, а прямо с лица земли.
В один из вечеров Елисавета сидела у огня и чинила рубаху Иоанна. Он снова порвал её, забравшись на колючий куст в поисках гнезда какой-то птицы. На ткани темнело пятно – не грязь, а сок раздавленных горьких ягод. Она устало вздохнула, проводя иглу сквозь грубую ткань.
Захария молча наблюдал за ней.
– Он снова был один, – тихо сказала Елисавета, не поднимая головы. – Дети больше не зовут его, ибо боятся его тишины.
Она подняла на мужа глаза, и в них была вся боль этих лет.
– Что будет с ним, Захария? Мир не примет его. Он разобьётся об него, как глиняный кувшин о камни.
Захария долго молчал. Огонь в лампе потрескивал, бросая дрожащие тени на стены. Потом он протянул сухую и тёплую руку и накрыл её ладонь, сжимавшую иглу.
– Он не для того явился, чтобы мир его принял, Елисавета, – сказал он так тихо, что слова его были похожи на шелест страниц старой книги. – Он пришёл, чтобы мир его услышал.
И в этой простой фразе была вся их судьба. Они были хранителями не ребёнка, а его голоса. И их работа была не в том, чтобы уберечь его от мира, а в том, чтобы сберечь его для пустыни, которая уже звала его по имени.
Глава 3. Сердце из камня и пламени
Время для Иоанна текло не по солнцу, а по теням. Он мерил его не днями, а циклами: от первого крика новорождённого ягнёнка до тишины, когда отару уводили на дальние пастбища. Его домом стали склоны холмов, а собеседниками – старые, выветренные камни и безмолвные пастухи, чьи лица были похожи на кору оливковых деревьев.
Он уходил из дома на рассвете, когда воздух был ещё серым и пах полынью. Елисавета больше не пыталась его удержать, лишь молча клала ему в суму кусок пресной лепешки, несколько фиников и флягу с водой. Он уходил и растворялся в пейзаже. Там, где другие мальчишки видели пустоту, он видел жизнь, зная, где в скалах прячется вода, по каким признакам угадать приближение песчаной бури, как по крику орла понять, где внизу притаилась змея.
Пастухи, сначала относившиеся к нему с настороженным любопытством, привыкли. Они не задавали ему вопросов, когда видели, как он часами мог сидеть, не двигаясь и наблюдая за движением облаков, или как он, приложив ухо к земле, слушал что-то, недоступное им. Иногда старый пастух по имени Амос, чьи глаза выцвели от солнца, подзывал его и, не говоря ни слова, показывал, как правильно наложить шину на сломанную ногу овцы или как по запаху травы определить, не ядовита ли она. Это был их язык – язык жестов, запахов и прикосновений, то есть дела, а не слова.
Иоанн возвращался в сумерках, принося с собой запахи дикого мёда, овечьей шерсти и холодного камня пещер, где он пережидал полуденный зной. Он садился за стол рядом с отцом, и они молча ели. Но в их молчании не было пустоты. Это было молчание двух людей, которые смотрели в одну сторону, пусть и видели разное: один – буквы Закона, другой – тот же Закон, написанный на крыльях саранчи и в русле пересохшего ручья.
В тот год, когда весна была особенно буйной и склоны холмов покрылись алым ковром анемонов, Захария ушёл в Иерусалим на очередное служение. Он уходил как всегда: спокойный, собранный, с дорожной сумой через плечо. У порога он на мгновение задержался, положил руку на голову Иоанну и сказал слова благословения, но взгляд его был долгим, прощальным, словно он знал что-то, чего не знали они. Елисавета тогда списала это на усталость.
Весть пришла через две недели. Она не прилетела на крыльях ангела и не прозвучала громом с небес. Её принёс на своих пыльных сандалиях молодой левит, сын их дальнего родственника. Он стоял у порога, не решаясь войти, и лицо его было серым от усталости и горя.
Елисавета вышла к нему, вытирая руки о передник. Она всё поняла ещё до того, как он открыл рот: по тому, как он отвёл глаза и как дрогнул уголок его рта.
– Он совершал церковный обряд воскурения благовоний в специальной металлической чаше на углях, – начал левит, и голос его был глух. – Во Святилище. Уже закончил, повернулся, чтобы выйти… и споткнулся, будто нога подвернулась. Один из братьев подхватил его, спросил, что с ним. А он… он попытался ответить, но слова спутались, язык его не слушался. И потом… – левит сглотнул тяжёлый комок, – он упал. Как будто кто-то ударил его изнутри. Врач сказал, что кровь ударила в голову. Он не мучился, просто… ушёл.
Елисавета не заплакала. Она просто стояла, глядя на свои руки, на которых застыла мучная пыль. Мир сузился до этой пыли, до гудения мухи у окна, до тени от виноградной лозы на земле. Она не услышала, как подошёл Иоанн, который встал рядом с ней, и его небольшая твёрдая рука нашла её ладонь и сжала.
Тело привезли на следующий день в простой повозке, накрытое грубым полотном. Его положили в доме. Елисавета с другими женщинами омыла его, одела в чистое льняное одеяние. Лицо Захарии было спокойным, почти безмятежным, лишь одна бровь была чуть приподнята, словно в вечном, молчаливом вопросе.
Иоанн не отходил от тела. Он не плакал, просто сидел на полу и пытливо, глубоко смотрел на отца, пытаясь понять суть произошедшего. Он протянул руку и коснулся холодной кожи на руке родителя. Потом прижался к ней щекой, будто пытаясь согреть её своим дыханием, и просидел так всю ночь.
Хоронили Захарию на краю обрыва. В том самом месте, где он любил молиться в одиночестве и где маленький Иоанн когда-то кормил ветер. Несли его на простых носилках. Шли молча. Слышен был лишь хруст камней под ногами и сдержанные всхлипы женщин. Когда тело опустили в неглубокую, вырытую в каменистой почве могилу, Елисавета бросила первую горсть земли. Потом подошёл Иоанн. Он не бросил землю, а нашёл гладкий белый камень, такой же, какими они когда-то стучали друг о друга, и осторожно положил его отцу на грудь под саван. Это был его прощальный дар, его последнее слово.
После похорон Иоанн замолчал. Совсем. Он не отвечал на вопросы матери, не просил еды. Просто сидел в углу, глядя в одну точку, или уходил к могиле отца и пропадал там до темноты. Елисавета видела из окна, как он сидит у холмика из камней, положив голову на колени. Иногда он что-то говорил, касаясь земли.
– Отец, ты видишь теперь, какого цвета ветер? – шёпот его был едва слышен. – Здесь буквы другие? Они пахнут землёй или светом? Скажи мне, как теперь читать?
Его мир раскололся. Отец был мостом между его дикой душой и миром людей, миром порядка и смысла. Теперь мост рухнул, и одиннадцатилетний мальчик остался один на краю пропасти.
Горе Елисаветы было двойным. Она потеряла мужа, опору всей своей жизни, и теперь теряла сына, который на её глазах уходил в свою собственную, непроницаемую пустыню.
Прошёл год. Иоанн снова начал говорить, но голос его стал другим – более низким, глухим, как будто шёл не из горла, а из самой земли. Он снова начал уходить из дома на рассвете, но теперь не просто на склоны, а дальше, в ущелья, где никогда не бывал с отцом, в пещеры, о которых рассказывали страшные истории.
Дом опустел. В нём поселилась та самая тишина, что жила здесь до рождения сына, но теперь она была не благостной, а мёртвой, звенящей. Елисавета старела на глазах. Она всё так же клала ему в суму лепешку и воду, но теперь она знала, что этого ему уже недостаточно: он искал другую пищу и другую воду.
Иоанн рос один среди камней, которые были его учителями, среди ветра, который был его собеседником, и среди тишины, в которой он учился слышать голос, звучавший громче любого крика. И могила на краю обрыва была больше не местом скорби, а стала его порогом, переступив который, он был уже не только сыном Захарии, но начал становиться тем, кем ему было суждено быть – Голосом, готовящим путь.
Иоанн перестал возвращаться на ночь. Теперь его домом было небо, а постелью – земля, ещё хранящая дневное тепло. Он научился находить укрытия в неглубоких пещерах, где пахло летучими мышами и древней пылью, или устраиваться на ночлег под раскидистым рожковым деревом, чьи листья шептали ему всю ночь напролёт. Он избегал селений. Звуки человеческой жизни – смех, плач, споры торговцев – казались ему фальшивыми и навязчивыми. Он предпочитал им честный вой шакала в ночи и скрип цикад, отмеряющих вечность.
Отношения с матерью превратились в безмолвный ритуал. Она больше не ждала его к ужину, а просто оставляла на каменной лавке у входа свёрток: лепешку, сыр, горсть сушёного инжира. Иногда он забирал его, иногда нет. Раз в несколько дней он появлялся на пороге – худой, обветренный, с волосами, спутанными ветром, и глазами, в которых отражалась пустота холмов. Он не заходил в дом. Просто стоял, глядя на мать. И в этом взгляде было всё: молчаливая сыновья привязанность, мука его одиночества и непреодолимая пропасть, что легла между ними.
Елисавета смотрела на него, и сердце её разрывалось от любви и бессилия. Её маленький мальчик, пахнувший молоком и тёплым сном, исчез. На его месте стоял этот юноша, пропитанный пылью и полынью, дикий, неприрученный и чужой. Она видела в нём своего мужа – ту же несгибаемую верность чему-то незримому. Но Захария служил Богу в стенах Храма, по закону и порядку. Её сын служил тому же Богу, но в Его первозданном, хаотичном храме – пустыне. Она не плакала, а просто принимала, поскольку была из священнического рода и знала: есть то, что было отдано Богу безвозвратно, в том числе и её сын.
Когда Иоанну исполнилось четырнадцать, и его голос начал ломаться, становясь то по-детски высоким, то по-мужски грубым, Елисавета приняла решение. Приближался Песах.
– Мы пойдём в Иерусалим, – сказала она однажды вечером, когда он пришёл за едой.
Он поднял на неё удивлённый взгляд.
– Зачем?
– Твой отец всегда ходил. Ты должен увидеть Храм и принести жертву. Ты – сын Захарии.
Она сказала это не как просьбу, а как утверждение. И он, после долгого молчания, кивнул. Не потому, что хотел в Иерусалим, потому что в словах «сын Захарии» услышал зов, на который не мог не откликнуться.
Дорога была для него пыткой. Сотни людей шли в одном потоке: семьи с детьми, торговцы с навьюченными ослами, старики, опирающиеся на посохи. Воздух был наполнен гулом голосов, смехом, пением псалмов, пылью и запахом пота. Иоанн шёл рядом с матерью, но был не с ними. Он был как камень в реке: поток омывал его, но не мог сдвинуть с места. Он молчал, опустив голову, глядя на чужие ноги, на трещины в сандалиях, и видел не радость паломничества, а великую усталость человечества.
Иерусалим оглушил его. Шум, крики менял, мычание жертвенных быков, запах крови и горячего жира, смешанный с ароматом благовоний, – всё это обрушилось на него, заставляя задыхаться. Он держался за край плаща матери, как в раннем детстве, боясь потеряться не в толпе, а в этом грохочущем хаосе.
Они остановились в доме родственников, в одной из тесных комнат в нижнем городе. Там уже обустроились и их родичи из Галилеи – Йосеф с женой Марьям и сыном, который был почти одногодком Иоанна.
Иоанн увиделся с ним в первый же вечер. Он сидел у очага и чинил ремешок на сандалии своей матери. Движения его рук были спокойными и уверенными. Он был по-своему красив: в лице его было что-то цельное, собранное, а свет от огня делал волосы похожими на тёмный мёд. Когда он поднял голову, их взгляды встретились. Глаза у мальчика были ясными, тёплыми, и в них не было ни тени удивления или осуждения, с которым Иоанн привык сталкиваться. Было лишь тихое, спокойное внимание.
– Это Йешуа, – сказала Марьям, её голос был мягким, как и взгляд её сына. – А ты, должно быть, Иоанн.
Йешуа улыбнулся. Не широко, а лишь уголками губ. Иоанн ничего не ответил, только кивнул, чувствуя, как горит его лицо. Он сел в самый тёмный угол комнаты, желая снова стать невидимым.
Но Йешуа не дал ему исчезнуть. На следующий день, когда взрослые были заняты подготовкой к празднику, он подошёл к нему.
– Пойдём отсюда, – тихо сказал он. – Я покажу тебе место, где можно дышать.
Они выбрались из города и поднялись на Елеонскую гору. Здесь, среди старых олив, шум Иерусалима стихал, превращаясь в далёкий низкий гул. Они сели на камень, с которого открывался вид на Храм, сияющий в лучах солнца.
– Он большой, – сказал Йешуа, глядя на Храм. – Но Бог ведь не только там, правда?
Иоанн вздрогнул. Это был его собственный невысказанный вопрос.
– Он в камнях, – хрипло ответил Иоанн, сам удивляясь своему голосу. – И в ветре, и в молчании.
– И в руках моего отца, когда он кладет камень, – добавил Йешуа. – И в руках матери, когда она месит тесто.
Они проговорили несколько часов. Вернее, говорил в основном Йешуа, которого Иоанн попросил рассказать о Назарете.
– Моя деревня… это… как если бы мир позабыл о себе на этом клочке земли, – начал Йешуа. – Идёшь и не понимаешь: кончается ли дорога или просто теряется среди камней. Там всё держится на запахе свежеиспечённого хлеба, на терпком паре лавра, что поднимается из глиняных горшков, на тёплом, тяжёлом дыхании скота за стеной. Всё просто, но в этой простоте ощущается древняя нить, что связывает дни между собой… В Назарете не говорят громко. Мои братья кричат, когда злятся, но быстро устают. А я… больше молчу. Слушаю, как дышит наш дом ночью, как поскрипывают стены, как отец точит резец о камень, как мать шепчет молитву перед сном.
Он опустил взгляд, цепляя пальцами краешек туники.
– Люди у нас простые. Их не интересует, что за пределами холма. У нас нет моря, но есть колодец. Нет богатств, но есть работа. А главное – все знают, кто ты. Не по имени, а по трещинам на руках, по походке, по тому, как здороваешься. Назарет не про славу. Он как утро – его легко проспать, но в нём больше истины, чем в полдне.
Йешуа вдруг оживился, и его лицо посветлело.
– А ещё там ветер. Он знает, что я его слышу. Иногда он звенит между оливами, как голос, и я думаю: неужели кто-то говорит со мной? Но пока я не знаю – кто. Просто… знаю, что это не случайно.
Он перевёл взгляд на Иоанна, чуть прищурившись.
– А ты? Ты ведь, наверное, слышишь другие ветры? Громче? Или те же самые?
Иоанн ответил не сразу. Он опустил голову и провёл пальцем по трещине в камне, на котором они сидели. Это был первый раз, когда кто-то не просто спросил его о чём-то, а спросил о нём и о том, что было его тайной, силой и проклятием. Он искал слова не в памяти, а в самом себе, как ищут воду под пересохшей землёй.
– Мой ветер… другой, – хрипло произнёс он наконец, и голос его был похож на шуршание песка. – Он не звенит, а ревёт.
Он поднял взгляд, и глаза его потемнели, словно он смотрел не на Йешуа, а сквозь него, туда, в свои ущелья и на свои голые холмы.
– Когда он приходит в пустыню, он срывает с земли всё лишнее. Он не шепчет, а свистит, как бич, и требует.
– Требует? – тихо переспросил Йешуа, подавшись вперёд.
– Да. Чтобы всё было прямым, сухое – сгорело, а кривое – сломалось. Он приносит не покой, а чистоту. Иногда, когда ветер очень силён, я ложусь на землю и прижимаюсь к ней, чтобы он не унёс меня. И не знаю, говорит ли он со мной, но чувствую, что говорит через меня. Но я тоже пока не знаю, что именно.
Иоанн замолчал, исчерпав все свои слова, и снова уставился на камень под ногами, словно устыдившись своей внезапной откровенности.
Йешуа слушал, не перебивая, и его лицо стало серьёзным. В нём было глубокое, созидательное внимание, какое бывает у мастера, когда он находит кусок дерева с необычным, упрямым узором. Он видел в словах Иоанна не угрозу или безумие, а другую сторону той же силы.
– Значит, есть ветер, который вьёт гнездо, – медленно проговорил он, – и ветер, который рушит старые деревья, чтобы дать место новым.
Он помолчал, глядя на Храм, а потом снова повернулся к Иоанну. Его ясные глаза смотрели прямо тому в душу.
– Один шепчет, – сказал он, и голос его стал почти неслышным, – другой – кричит. Но, может, это один и тот же Голос, который говорит по-разному? Тихо – для тех, кто близко и готов слушать, и громко – для тех, кто далеко или закрыл уши?
Иоанн поднял на него глаза. В них стояло потрясение. Эта простая мысль никогда не приходила ему в голову. В его мире были только пустыня и селение, чистота и скверна, молчание и шум. Он никогда не думал, что они могут быть частями чего-то одного, что рёв его ветра и тихий шёпот между оливами могут быть одной песней, исполняемой для разных слушателей.
Он ничего не ответил, просто смотрел на этого юношу из Галилеи, который сидел рядом, и впервые в жизни не ощущал себя одиноким в своём мире, чувствуя, что его мир – лишь часть другого, огромного, в котором даже рёв ветра может стать частью тихой песни.
Йешуа стал говорить о людях с глубоким, сострадательным пониманием. Иоанн слушал, впитывая его слова, как иссохшая земля воду. Впервые в жизни кто-то говорил с ним на его языке и не переводил его на язык людей.
Йешуа не считал его странным. Он смотрел на него с тихим, открытым любопытством, как смотрят на колодец, догадываясь о его глубине, но не зная, какая в нём вода. И эта тишина, это отсутствие оценки позволили Иоанну заговорить о своём мире не защищаясь, а делясь: о повадках скорпионов и о том, как по-разному плачут ягнята, как в полнолуние даже камни кажутся живыми, и, если долго молчать, можно услышать, как песок меняет своё настроение. Он говорил о крике совы, похожем на вздох человека, и о том, как один раз встретил в расщелине старую змею – слепую, но всё ещё гордую. Рассказывал, как копал руками под корнями кустарника, чтобы добраться до прохладной земли, и что вода, найденная после долгого дня жажды, кажется вкуснее обычной.
Он рассказывал, не глядя на Йешуа, будто вспоминал не просто факты, а сам воздух, в котором он жили. И всё в его рассказах было с дыханием, с трещиной, с болью, но и с тихой радостью: как тот редкий случай, когда пустыня вдруг отпускает тебя к источнику, не требуя ничего взамен.
А ещё он поведал, как однажды стал ловить кузнечика, поскольку был голоден, но потом остановился – тот слишком красиво прыгал, будто плясал свою последнюю песню.
– Я не умею говорить о людях, – сказал он, наконец. – Но всё живое как-то чище и прямее. Оно не делает вид, что не боится, и не врёт, если умирает.
Он замолчал. А Йешуа кивнул, но не как тот, кто понял, а как тот, кто почувствовал, что за словами – правда. Между ними возникла связь – невидимая, но прочная, как корень, нашедший воду в глубине. Йешуа был светом, который не слепил, а согревал, а Иоанн был землёй, которая под этим светом впервые почувствовала, что может не только впитывать, но и рождать.
Они прощались в день отъезда галилеян без лишних слов. Йешуа просто подошёл и коснулся его плеча.
– Мы ещё встретимся, Иоанн, – сказал он. И это был не вопрос, а констатация факта.
– Да, – ответил Иоанн. – У воды.
Он сам не знал, почему сказал это. Слова пришли откуда-то из глубины, но Йешуа кивнул, и в глазах его мелькнуло понимание.
Обратная дорога в Аин Карем была другой. Иоанн всё так же молчал, но его молчание изменилось. Оно перестало быть глухой стеной, обернувшись пространством, наполненным эхом слов Йешуа, его спокойным взглядом и теплом его прикосновения.
Вернувшись, он не отправился сразу в горы, а вошёл в дом, сел на место отца и долго смотрел на сундук, где хранились отцовские свитки. В нём проснулся голод не к пище, а к смыслу. Он вдруг понял, что его пустыня – это не место, куда бегут от мира, откуда говорят с миром.
Он открывал в себе нового человека. В нём всё ещё жил дикий мальчик, понимающий язык камней, но рядом с ним просыпался тот, кто уже не отторгал язык людей и понял, что оба этих языка говорят об одном. В тот вечер он не ушёл из дома, а остался. И когда мать зажгла лампу, он не отвернулся от света, а посмотрел прямо на него, и в его глазах впервые за долгие годы не было тени.
К шестнадцати годам его отделённость перестала быть просто привычкой или следствием детской травмы. Она стала его кожей и дыханием. Это было не высокомерие и не гордость отшельника, а простое, ясное и порой мучительное осознание факта: он был рожден другим. Когда он видел, как юноши его возраста смеются с девушками у колодца или спорят о цене на зерно, он не ощущал ни зависти, ни презрения, ибо чувствовал то же, что и камень, глядя на летящие листья: они были из разных миров и подчинялись разным законам.
Эта осознанность породила вопросы, которые, как тернии, впивались в его плоть в долгие, безмолвные часы под звёздами. «Почему я здесь? Почему моя жизнь должна быть такой? Что значит это чувство… это ожидание, которое живёт во мне с самого детства? Оно не уходит. Оно похоже на жажду, которую не утолить водой из источника. Чего я жду?»
Эта жажда гнала его всё дальше в пустыню. Но чем глубже он уходил, тем сильнее она становилась и в какой-то момент понял, что бежит не от людей, а к ответу.
К восемнадцати годам он нашёл то, что могло утолить эту жажду, пусть и ненадолго: пророки. Он принёс в свою пещеру свитки, оставшиеся от отца. В полумраке, при свете крошечной масляной лампы или просто под холодным светом луны, он разворачивал хрупкий пергамент. И слова, написанные сотни лет назад, переставали быть буквами, поскольку становились для него голосами.
Исаия говорил с ним грохотом кузнечного молота, выковывающего новую землю и новое небо. Иеремия плакал – и слёзы его были горячими, как смола, и обжигали душу. Иезекииль врывался в тишину его пещеры вихрем, полным огня и скрипа гигантских колёс. А Малахия был подобен раскалённому углю, который пророк поднёс к его собственным губам, очищая и опаляя.
Иоанн не просто читал, а дышал этими словами. Он постился днями, питаясь лишь акридами и диким мёдом, чтобы его тело стало таким же лёгким и чутким, как натянутая струна, – и тогда голоса пророков звучали в нём громче. Их гнев на отступничество Израиля становился его гневом, а их боль – его болью. Он начал видеть не глазами, сердцем.
Иоанн выходил на окраину Иерихона и видел не просто город, а тот самый древний Израиль, которому грозили пророки. Он видел священников, чьи молитвы были лишь красивым ритуалом, а сердца – холодными камнями, видел богачей, которые приносили в Храм тучных ягнят, а перед этим отнимали последний мешок муки у вдовы, а также то, как над всем этим парит тень римского орла… И понимал, что иноземное господство – не просто несчастье, а следствие, болезнь, поразившая народ изнутри.
«Этот народ приближается ко Мне устами своими, и каждый языком своим чтит Меня, но сердце его далеко отстоит от Меня», – шептал он слова Исаии, глядя на пышную процессию, идущую к храму. В его груди поднималась горячая волна, но не ненависти, а горькой, огненной тоски.
Однажды ночью он сидел у входа в свою пещеру. Небо было бездонным, чёрным, усыпанным острой звёздной солью. Тишина была такой полной, что, казалось, можно было услышать, как вращается земля. В руках у него был свиток Исаии, тот самый, что отец читал в один из вечеров. Он не смотрел на буквы, ибо знал их наизусть. Они жили в нём, пульсируя в его крови.
«Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими…». Слова эти он читал сотни раз, но в эту ночь что-то изменилось: они прозвучали не как история и не как пророчество о ком-то другом, а как удар грома в абсолютной тишине.
Он замер, перестав дышать. Глас… вопиющий… в пустыне… Пустыня была его домом. Тишина была его языком. И в этой тишине всегда жил крик – его вечное, глубинное ожидание. Он медленно поднял голову к звёздам. Весь мир – камни, песок, далёкий вой шакала, холодный свет луны – всё замерло и смотрело на него в ожидании.