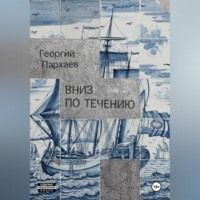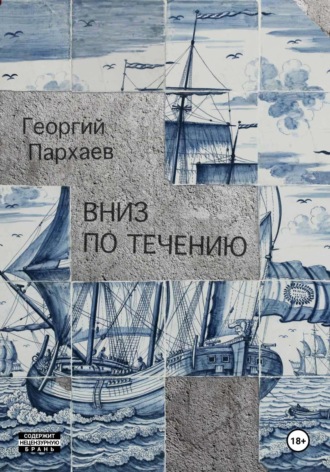
Полная версия
Вниз по течению
– Для кого меню повешено?! – раздраженно спросила она. Однако было заметно, что возможность произнести новую реплику развлекла ее. И, словно изливая на недостойного подданного величайшую милость, надменно произнесла:
– Лапша и гороховый.
– Гороховый, пожалуйста, – миролюбиво озвучил свое решение Павел.
Для препирательства с агрессоршей не было ни желания, ни веры в успех.
Бабища хмыкнула, ловко зачерпнула половником из большого чана и выплеснула в тарелку мутного желто-зеленого варева. Отточенным жестом она отправила тарелку на прилавок, чуть подкрутив ее вокруг оси так, что гороховая субстанция заляпала всю кайму, но пределов посуды не покинула. Резумцев, поддев тарелку снизу двумя руками (чтоб не угадить пальцем в уже начавшие отекать внутрь суповые разводы), аккуратно переместил ее на свой поднос. Просеменив вдоль прилавка четыре шажка, Павел приблизился к горячему.
– Второе?! – прогнусила следующая раздатчица, эффектно контрастирующая своей худосочностью с черпальщицей супов и не уступающая ей в голосовых качествах.
Комический дуэт… трагикомический…
– Сосиски, пожалуйста, – наугад попросил Павел.
– Закончились, – удостоила его ответом Женщина-Второе, подбоченившись одной рукой и с поволокой глядя в сторону.
– А котлеты?
– Рыбные, – с усилием выдавила она.
– Давайте. С макаронами.
Женщина-Второе совершила такой же маневр, как и ее коллега. На прилавок выскочила тарелка с приплюснутой бледной котлетой и несколькими макаронными трубками, сросшимися в единую футуристическую скульптуру.
– А еще подливка полагается, – буркнул Павел.
Женщина-Второе, приподняв одну бровь, плюнула в Павлову котлету ложкой охристой луковой жижицы.
– Второе?! – послышался клич, обращенный уже к следующему за Резумцевым столовнику.
Павел же, дополнив натюрморт на своем коричневом подносе, рыжим пятном абрикосового компота – в целом теперь грязновато-теплый колорит отдаленно напоминал что-то из фламандской живописи – приблизился к кассе. Рассчитавшись без сдачи и получив за это благодарность кассирши, он аккуратно и надежно ухватил свою ношу и отправился в обеденный зал. Было шумно – балагурила студенческая братия, стучала посуда, из подсобных помещений доносились различные хозяйственные звуки. Свободных столов не было.
Наиболее вакантным местом представлялся стол возле окна, за которым как раз намеревался приступить к своей трапезе Вацлав Яковлевич Почка – один из институтских старейшин. Это был благообразного вида старичок, олицетворявший хрестоматийный образ профессора – седая бородка клинышком, небольшие круглые очочки, костюм-тройка (правда, несколько потрепанный и с брюками от другого комплекта). Когда именно он появился в институте, никто из нынешних обитателей сказать точно не мог. Окутаны тайной были и его возраст, по различным версиям колебавшийся от восьмидесяти до ста, и его национальность – по трем основным, бытовавшим гипотезам он являлся либо чехом, либо белорусом, либо евреем. Существовало и множество других предположений. Биография и происхождение его так же были абсолютно неопределенными – то он являлся потомком старинного шляхтецкого рода, усыновленного растроганным красноармейцем в двадцатом году после ликвидации всей его семьи, то он вдруг оказывался потомком чеха, отбившегося от своего корпуса и застрявшего где-то в Сибири в разгар Гражданской, то он представал сыном бедного еврейского артиста, пострадавшего от погрома в местечке под Гомелем. Самого Вацлава Яковлевича эта ситуация, по-видимому, весьма забавляла, поскольку он никогда не старался опровергнуть ни одну из версий, а, наоборот, всегда, мягко улыбаясь, сам добавлял им новых деталей и подробностей, предоставляя благодатную почву для новых легенд. Согласно мифологии его дальнейшей жизни, он побывал и биографом Сталина, и политическим лагерным узником с неимоверным сроком, и героем войны (причем в некоторых версиях – Первой мировой), и предателем-коллаборационистом, и лауреатом Ленинских премий – героем соцтруда, и матерым диссидентом, и гениальным самородком, и беспринципным эксплуататором литературных негров. Все эти альтернативы Почка все также не отвергал. И все также мягко улыбался. Достоверно о нем было известно лишь, что он уже несколько десятилетий состоял профессором Кафедры литературного мастерства (не занимая при этом никаких руководящих должностей) и являлся на данный момент одним из символов всего Института (наряду с эмблемой, печатью и зданием), неким живым артефактом. Его всегда включали во все делегации, президиумы и комиссии, что в последнее время, в силу его почтенного возраста и нарастающего темпа современной жизни, становилось ролью все более декоративной – что-то вроде английской королевы. Однако с мнением его все, включая ректора, по-прежнему считались.
– Разрешите? – Павел навис над столом Вацлава Яковлевича. Ответа не последовало. Старичок был глуховат и подслеповат на правый глаз, со стороны которого как раз и зашел Резумцев.
– Простите, у вас свободно?! – спросил он уже громче, догадавшись о причине молчания.
Следующую попытку предстояло предпринимать уже криком, либо нужно было или просто сесть без разрешения – ведь наверняка же не занято, или вовсе ретироваться. Все три варианта смущали Павла, но, к счастью, к ним не пришлось прибегать. Почка повернул в его сторону лицо доброго доктора Айболита, что под деревом сидит, и мягко улыбнулся.
– Пожалуйте, молодой человек. Почту за честь.
Резумцев разместился напротив заслуженного профессора и, поставив перед собой свой фламандский поднос, стал бессмысленно перемешивать однородно-свекольный салат. Вацлав же Яковлевич, тоже усевшийся недавно, извлек чуть заметно трясущимися руками из внутреннего кармана пиджака персональные нож и вилку и, поочередно подышав на них, принялся обстоятельно протирать видавшим виды носовым платком. Павел ухмыльнулся про себя.
Ишь, брезгует общественными-то дедушка отечественной словесности. А, впрочем, и правильно. Может потому и держится до сих пор. Хм, а забавная мысль – дистанцированность от общественного как залог интеллектуального долголетия. Да и физического тоже. Вот тебе и лишний человек. Нужно будет потом где-нибудь использовать – распознавание лишнего человека по деталям. Эдакий такой детализированный метод: бумажник, там, ключи, часы. Часы. Сколько там у нас осталось? Меньше шести уже, наверное? Ну да, точно, так и есть. Может быть, купить цветов все-таки? Каких-нибудь таких… К глазам что бы… Хотя, конечно, с причудами она… но милыми. Непонятно, как отнесется, уместно ли при наших… отношениях… близких… как бы. Да-а, странно это все – такой вод подход. Сто лет знакомы. Хм, а вот интересно, при таком раскладе, как у нас обстоит с этим делом-то? Как подразумевается? А ведь вопрос важный. Ой важный. Тут тонко надо. Не спугнуть бы тоже. Нет, не надо цветов, а то воспримет еще как намек. Вероника. Уж лучше так, повседневно, буднично.
Резумцев, продолжая методично перемешивать свекольную массу, отрешенно смотрел сквозь Вацлава Яковлевича. В какой-то момент он периферическим зрением перехватил встревоженный взгляд своего состольника, что вывело его из задумчивых мечтаний о цветах и Веронике. Перед ним сфокусировалась полуфигура Почки с застывшей на полпути ко рту персональной вилкой, на которую был аккуратно нанизан маленький кусочек печеночной оладьи. Профессор, вероятно, уже некоторое время внимательно наблюдал за ним и вот теперь, заметив ответную реакцию, озарил свое лицо прожившего в два раза дольше Чехова учтивой улыбкой.
– Ну вот и славно, – со старческой хрипотцой в голосе резюмировал Вацлав Яковлевич. – А то я уж, грешным делом, подумал, приключилось что.
– Да нет, что вы. Нормально все, – поспешил уверить его Павел. – Кстати, приятного аппетита.
– Ну да, ну да. А то я смотрю – взор какой остекленевший у вас. И свеколка вон – из плошечки вся повыскакивала. Быть может, приключилось с вами что-то? Могу ли я быть полезен? Скромными моими возможностями.
Вот же ж, старичок-лесовичок…
– Да нет же, Вацлав Яковлевич, – вновь попытался отстраниться Резумцев, – все абсо…
– А вы не спешите, не спешите с уверениями, молодой человек, – с благостной бесцеремонностью перебил его Почка. – Вы уж простите старика великодушно, но я за свою жизнь взглядов повидал – у-у!
Профессор произвел движение вилкой, призванное изобразить количество виданных им взглядов и завершившееся отправлением в рот печеночного кусочка. Павел, решивший пока промолчать и дать старику выговориться, приводил тем временем в порядок разметавшийся свекольный салат.
– Одним словом – много, – прожевав и проглотив печень, продолжал Почка. – И уж поверьте, то, как вы тут сейчас сидели… со свеколкой, вот… Это или признак чего-то великого и прекрасного, что с вами происходит (и приведи, Господь, чтоб так и было), или какой-то надвигающейся на вас катастрофы, которую вы не осознаете еще в полной мере, но предчувствуете.
С этими словами он поместил в рот еще кусочек оладьи, предварительно подцепив им горсточку картофельного пюре. Резумцева эта речь несколько обескуражила. Он только что наконец-то загрузил в себя порцию свеклы и вот теперь, не дожевав, комом проглотил.
– Да какая еще катастрофа? Да ну. Задумался просто. С кем не бывает? Зачем же уж такую категоричность подводить?
– Молодой человек, я живу на свете… – тут Почка подавился и на пару секунд закашлялся, – Кха …осемь лет. Право, не стоит мне объяснять, что просто, а что нет. Если не ошибаюсь, Павел?
– Да.
– Сколько вам лет, уважаемый Павел? И как по батюшке, простите?
– Двадцать четыре. Дмитриевич.
Павел Дмитриевич хлебнул своего рыжего компота, пропихнув застрявший где-то на полдороги недожеванный салат.
– Вот видите, Павел Димитриевич, – подытоживающе развел руками пришвинообразный профессор так, будто сообщенные собеседником метрические данные являлись неким решающим аргументом. – Что и требовалось доказать. А вы говорите «просто».
Почка неспеша запустил в рот очередную вилку с кушаньем и через плотно сжатые губы вытянул ее обратно идеально чистую. Принялся жевать. Павел, предположив, что волна разговорчивости схлынула, набил себе в рот остатки свеклы. Но она не схлынула.
– То, что вы задумались-то, – это бесспорно, – продолжал Вацлав Яковлевич, степенно препарируя остатки оладьи. – Но я наблюдаю людей не одно десятилетие. И не два. Пристально наблюдаю, уважаемый Павел… кхе… Димитриевич. И такой взгляд встречать доводилось. Его ни с чем не спутать.
– И что, согласно вашей теории он означает?
– Кхе… Теории… – последовало движение вилкой, а затем полуминутное жевание. – Такие глаза бывают или у великих влюбленных, или, – он намазал ножом на вилку пюре и поднял лучистые глаза на собеседника, – у убийц.
Павел кривовато улыбнулся.
– Не дай Бог, конечно, – продолжал профессор. – Более того, я уверен, до этого не дойдет.
Аспирант зачерпнул ложку остывшего супа. При этом со дна тарелки снопом поднялась гороховая взвесь и насытила цветом побледневшую было жидкость. Проглотил.
Занятный старичок. Про великого влюбленного по глазам – прям приятно. Неужели так заметно? Ишь ты! Здорово. Про убийцу, конечно, хватил. Но нет, душу выворачивать – «ах, какой вы проницательный! Действительно, все так!» – я перед ним не собираюсь. Про любовь за гороховым супом… пошло. Про убийцу, так вовсе не стоит рассуждать. А вообще, конечно, спасибо ему. Великий Влюбленный! Красиво! Ладно переведем тему…
– Занятно. Но что если, предположить, что это нечто третье? – Павел проглотил еще ложку. – Если это – взгляд художника? Муки творчества, так сказать. Ведь художник един во многих лицах. И если он настоящий – я, конечно, сейчас этого относительно себя утверждать не смею, – то он, помимо прочего, безусловно, и великий влюбленный, как вы выразились, и убийца. И потом, почему этот взгляд, ну, которым я, вы говорите, смотрел, выражает по-вашему именно эти два… э-э… состояния?
Почка жевал и улыбался ясными очами местночтимого святого и отправил на погибель в чай два кубика сахара. Сосредоточенно перемешал.
– Интересно, Павел Димитриевич, очень интересно. Вы сами одновременно и поставили правильный вопрос, и на него же практически ответили. Потому что это две стороны одной медали, которая и является творчеством. Это, если хотите, процессы родственные, только знаки разные: тут – плюс, а там – минус. Одно – созидание, другое – разрушение. Но оба они – самые сильные действия, направленные на изменение, пе-ре-творение мира, так сказать, – во рту профессора скрылся последний кусочек оладьи, после чего последовала традиционная полуминутная жевательная пауза. – И если любовь направлена на творение жизни, то убийство – это творение смерти. Так что о муках творчества – это вы очень верно изволили заметить, прямо в точку угодили. Именно такие муки ваш давешний взгляд и выражал. Ведь такие сильные ощущения не могут не сказываться на душе, а глаза, как известно, ее зеркало. И взгляд в данном случае выражает не конкретную эмоцию – ненависть, там, или нежность, а именно, как бы это сказать, передает полноту и мощь самого чувства. И абсолютно не важно, с плюсом оно или с минусом. Главное – что оно есть. Мощь, понимаете?
Вацлав Яковлевич пригубил еще немного дымящийся чай и принялся нарезать на аккуратные кусочки лежавший перед ним на блюдечке пирожок – вроде бы с капустой. При этом он немного смущенно пожал плечами – мол, ничего не поделаешь – возраст, приходится и пирожки нарезать. Павел, тем временем, доел свою бобовую похлебку и произвел рокировку тарелками, установив перед собой рыбную котлету.
За соседний стол в это время нахлынула стайка звонкоголосых студенток, среди которых были и сегодняшние Павловы слушательницы – Оля и ее кудрявая кокетливая соседка, имени которой он не запомнил. Они уселись за спиной Почки, представив перед глазами Резумцева картину, которую можно было бы назвать «Апофеоз контраста» – столь разнился теперь образ профессора со своим фоном. Степенная старость и энергичная молодость, выверенная обстоятельность и непредсказуемая наивность, громкое щебетание и хрипловатая монотонность, телесная красота и проницательная мудрость, юная беззаботность и седая сосредоточенность. Казалось, между ними не существует ни единой точки соприкосновения, ни одной одинаковой черты. Кроме, разве что, принадлежности к общему биологическому виду. Да и в ту верилось с трудом. Девушки заметили аспиранта и начали кивать ему, игриво перешептываться, обращая на него внимание своих подружек, но оставаясь при этом, однако, в рамках приличий. Павел машинально кивнул им в ответ, слова Почки озадачили его. Последний же не заметил, на что отвлекся его собеседник. Или сделал вид, что не заметил.
– Вацлав Яковлевич, – продолжил дискуссию аспирант, грубо разламывая котлету, – вы, вероятно, меня не совсем верно истолковали. Я не имел в виду творца как творца жизни или смерти. Я имел в виду Художника – человека творческой профессии, понимаете. Художника, композитора, писателя, ну как мы с вами, простите за дерзость.
Почка, благостно улыбаясь, еще раз пригубил чай.
– Ведь в своих сочинениях, в процессе их создания приходится же перевоплощаться и в любовника, и в преступника, проживать образы, жизни, чтоб достигнуть большей достоверности характеров. Это же тоже все накладывает отпечаток, и на взгляд в том числе, не так ли?
– Да, Павел… Димитриевич, – в голосе профессора впервые прозвучали нотки озадаченности, – теоретически так-то оно так. И более того – так оно и должно быть. Но, вероятно, это утверждение распространяется только на гениев ранга Казандзакиса и Стравинского.
Ишь ты старик. И не мог более хрестоматийных примеров привести… нестандартно мыслит дедуля. Казандзакис… что-то знакомое. Нужно будет проверить.
– Мне, однако, за годы моих наблюдений за человечеством не приходилось встречать этот взгляд у художников, как вы изволили выразиться. У артистов, как говорят англичане, да, кхе… А вот у тех, о ком я уже имел счастье вам говорить, – сколько угодно. Уж повидал я их… И тех, и других…
Профессор сдержанно воздел руки. Опустив же, съел два кусочка пирога подряд и запил добрым глотком чая. Вероятно, разволновался от нахлынувших воспоминаний. В этот же момент Резумцев столкнулся глазами с Олей, которая запихивала в рот изрядный кусок ленивого голубца. Оба смутились и отвели взгляд. Даже покраснели. Оля – чуть больше. Павел залпом допил компот и вытряхнул в рот размокшую курагу.
– Так значит по-вашему выходит, что я или великий влюбленный, или убийца, – напрямик спросил он.
– Выходит, что так, – по-доброму ответил профессор Почка. – Вы уж не судите строго старика, Павел Димитриевич. Все это, в конце концов, лишь плод моих скромных наблюдений. А с некоторых пор, возможно, уже и маразма.
Очередной кусочек пирожка. А-ам.
– Ну что вы, что вы! – поспешил не совсем искренне выразить свою уверенность в дееспособности собеседника Павел.
– Ничего, ничего. К тому же в вашем-то возрасте, молодой человек, переживать великую любовь вполне нормально. И даже похвально. И, более того, скажу, не то чтоб повсеместно распространенно, но я встречал прецедентов достаточно. И сам, представьте себе… Году эдак… – Вацлав Яковлевич на какое-то время ушел в себя, занявшись интимными вычислениями. – Да-а. Тоже ведь, наверняка был такой взгляд. Признайтесь, коллега, ведь чувствуете же вы сейчас нечто подобное?
– Спасибо, что хоть в убийцы не записываете, – всосав макаронину попытался шуткой уйти от ответа Резумцев, все еще не имевший никакого желания обсуждать свои переживания, пусть даже и с таким занятным, но все-таки случайным собеседником.
Но Почка вдруг внезапно посерьезнел:
– Это не тема для шуток, юноша. В убийцы вас, конечно, никто зачислять не собирается, и все же смеяться над подобными вещами не следует.
– Извините, я ничего такого не имел…
– А, забыли, – вновь озарил окрестности своей улыбкой Вацлав Яковлевич. – Как теперь говорят – проехали. Во-от, видите, да? Стараюсь соответствовать эпохе… Уже которой… Кхе.
– Профессор, а вот у меня еще вопрос назрел.
– Извольте…
– Вот вы в самом начале сказали про предчувствие какой-то надвигающейся катастрофы. Это вы что имели в виду?
Почка уже подчистил блюдце с пирожком и допил чай. Резумцев доел костлявую котлету, из приличия и уважения к собеседнику не плюясь, а проглатывая кости, насколько можно раздробив их зубами. Намертво спаянные холодные макароны он решил не доедать.
– Да… Павел Димитриевич, не берите в голову. Все стариковские теории. Я, знаете ли, в своем мировоззрении достаточно фаталистичен. Есть у меня, среди прочего, мнение. Не волнуйтесь – никак научно не обоснованное – что такой взгляд может также присутствовать или у будущих убийц или будущих убитых. Кхе, вот сейчас только мысль пришла: и самоубийц, конечно, тоже. Но это самая слабая часть моей теории. Извините, как говорится, – на соплях держится. Это примерно как у Достоевского, помните: «это я великому будущему страданию его поклонился». Некий отпечаток предначертанной судьбы. В общем, Павел Димитриевич, еще раз вам говорю, не берите в голову стариковские бредни. К тому же я уверен, что вся эта мрачная половина, творчество зла, вас ни коем образом не касается. Вон – какой аппетит у вас замечательный, и цвет лица здоровый. Любите и будьте любимы. Вы как, покушали уже?
– Да, благодарю.
– Точно не обиделись ни на что?
– Ну что вы, Вацлав Яковлевич!
– Ну, коллега, тогда предлагаю закругляться и по делам… Каждому – по делам его, простите за каламбур. Спасибо за превосходно проведенное время. Давно с таким удовольствием не обедал. Почаще бы так. Ну да простите старика – опять заболтался. Всего наилучшего.
– И вам всего хорошего, Вацлав Яковлевич. Мое почтение!
Они поднялись со своих мест (Резумцев еще раз молниеносно пересекся взглядом с Олей), подняли свои коричневые подносы с опорожненной посудой и понесли их на помывочный пункт – в окошечко. Еще раз распрощались у дверей столовой: Почка мелкими шаркающими шажками отправился обратно в главный корпус института, а Павел через заднюю открытую проходную покинул территорию учебного заведения и направился на автобусно-трамвайную остановку, чтоб доехать до редакции «Нашего города».
Дождь перестал, местами даже клочковато проглядывало голубое небо. Вроде потеплело, а может быть, это просто был внутренний эффект от процесса пищеварения. Павел шел кленовой аллеей, которая уже начинала красиво рыжеть, и глубоко вдыхал насыщенный осенний воздух, вобравший в себя уютные прелые нотки листвы, постдождевую свежесть и городские запахи мокрого асфальта и транспортных выхлопов. В голове его уже не хватало места для размышлений. Вероника, Сарычев, диссертация, секретарша Татьяна, лекции, Аляска, Баранов, Оля, Безовец, негры, греки, лишние люди, Достоевский, «Наш город», гонорар, прозорливец Почка со своими пророчествами и великой любовью, цветы, котлеты – все это было понапихано, как пассажиры вагона в час пик, налезало друг на друга, давилось и роптало. Павел уже потерял все концы и начала, порвал логические нити и цепочки и теперь, мотая головой, вращая глазами и порывисто дыша носом, старался освободиться, избавиться от всего этого, хотя бы на время. Он то ускорял, то замедлял шаг, пытаясь понять какой темп лучше подходит для расчистки, но потом, осознав, что этим вогнал в себя очередную мысль, пришел чуть ли не в отчаяние. Как же он завидовал в этот момент буддистским медитативным навыкам. Вот бы и ему сейчас так: посидел лотосом полчасика, и все – ни одной тебе мысли, ни одной заботы. Полное просветление, понимаешь. Резумцев остановился. Оглянулся по сторонам. Безлюдно. Он стоял в середине аллеи, концы которой утопали в полупрозрачной влажной дымке. Тишина. Сделав несколько шагов в сторону, он зашел под раскидистый разноцветный клен. Павел еще раз оглянулся по сторонам, а потом с силой пнул ногой ствол дерева. Воздев лицо, он принял на себя сверкающий каскад дождевых капель, в обилии накопившихся на широких листьях. Брызги, пролетевшие мимо цели, шумной дробью ударили в первый слой палой листвы. Аспирант удовлетворенно крякнул и по-птичьи встряхнулся. Где-то сбоку, в тумане, заливисто затявкала собака, к ней присоединилась другая, побасовитее. Раздались детские крики, смех. Резумцев не стал оборачиваться и разбираться – к нему или нет были обращены звуки. Он поднял воротник куртки (несколько холодных капель бодряще проскользнули за шиворот) и, перешагнув через бордюр на гравийную дорожку, быстрым шагом продолжил движение к остановке. Вроде бы полегчало.
Глава 5.
До встречи оставалось четыре часа, двадцать семь минут, когда Резумцев вошел в редакцию.
«Наш город» размещался в безликом шестиэтажном бетонном здании постройки семидесятых годов. Газета была одним из самых крупных локальных городских изданий, пользовалась большим весом и популярностью среди горожан. В общем, процветала. И хотя оплата была не всегда регулярная, многие журналисты, корреспонденты и фотографы стремились попасть сюда. Резумцева, еще в бытность его студентом, пристроил старший приятель детства Никита Гусятников, состоявший тогда журналистом новостного отдела. Вскоре Никита оставил газету, ударившись в предпринимательство, да настолько рьяно, что однажды утром стараниями менее своих удачливых коллег вместе со своим новеньким Мерседесом взлетел на воздух. А Павел прижился и за четыре года своего служения «Нашему городу» стал очень цениться как универсальный работник синтетического жанра. Им затыкали все прорехи, как в кадровой организации, когда необходимо было кого-нибудь подменить, так и в литературной части, в случаях недостатка материала в очередной номер. Не раз предлагали Резумцеву перейти в штат на полную ставку, но он не торопился: ограничивала во времени учеба, свободный график был более привычен и комфортен, а денег при его бессемейной жизни пока хватало и так.
Главному редактору газеты Таклису Мефодьевичу Саксаулову импонировала острота и оригинальность суждений Павла. Он допустил его в свое ближайшее окружение и держался по-свойски. Принципы и стиль управления, надо заметить, были у Саксаулова весьма оригинальные. Он пришел в газету давно, еще будучи молодым журналистом, и поступил в отдел культуры. Тогдашний его начальник был человеком недалеким и до крайности самодовольным – сочетание весьма распространенное. Кроме того, он почитал себя тонким ценителем и абсолютным знатоком искусства. Таклис решил воспользоваться этим обстоятельством. На каждое происходившее в городе культурное событие, будь то выход новой книги, премьера спектакля или художественная выставка, он писал сразу две рецензии – одну хвалебную, а другую разгромную. Заглавие первой могло быть, скажем, «Достойные продолжатели славных традиций», а второй «Прогресс? Прохода нет!». Далее он клал эти две характеристики в две папочки и шел к своему начальнику. В непринужденной беседе на возвышенные темы, которые тот, разумеется, очень любил, он выходил на нужное направление и узнавал мнение руководства. Когда заведующий отделом оглашал свой приговор предмету обсуждения, Саксаулов делал изумленное лицо и восклицал, что, надо же, как это верно подмечено, что ведь и ему пришло это в голову. И клал на стол соответствующую папку. Начальник был польщен. Еще больше раздувалось его самомнение, а заодно складывалось впечатление и о молодом журналисте как о весьма способном и разбирающемся человеке. Вскоре Таклис стал заместителем заведующего отдела культуры, а через пару лет, после выхода последнего на пенсию, занял его место. Такими же, или примерно такими, средствами он дорос до выпускающего редактора, затем до заместителя главного редактора, и вот уже одиннадцать лет, как состоял главным редактором «Нашего города». Дальше произошло следующее: заняв пост главного редактора, Саксаулов стал вызывать к себе на собеседование всех журналистов, корреспондентов и глав отделов. В процессе этих общений он выявлял личностей, подобных себе. И те, кого он уличал в излишнем чинопочитании и подхалимстве, были репрессированы – лишены премий, сняты с должностей или даже уволены. На их места Таклисом Мефодьевичем были поставлены люди, имеющие самостоятельную, принципиальную, пусть иногда даже противоречащую его собственной, точку зрения. Дело в том, что карьерное продвижение, основанное на слепом угождении начальству и полном уничижении собственной личности, было в душе глубоко противно Саксаулову и очень раздражало его. Себя же самого он оправдывал целью – тем, что действовал исключительно на благо родной газеты и читателей и тем, что принесенной им жертвой он искоренил данное явление в стенах отдельно взятого учреждения. При приеме на работу новых сотрудников он применял аналогичные требования. Сформировав таким образом комфортную для себя команду, он стал править демократично. Редко сидел в своем кабинете – чаще всего его можно было встретить обходящим дозором свои владения и дружески беседующим с сотрудниками. Он знал всех в лицо и по именам, здоровался за руку со всеми, включая курьеров и верстальщиков, вникал в личные проблемы, участвовал в жизни общественной. Он не ограничивался административной ролью, а частенько вместе с журналистами ломал голову над улучшением той или иной формулировки или стилистики. Запросто можно было к нему подойти за советом или с прошением. Не считал зазорным Саксаулов время от времени и выпивать с подчиненным, а поскольку газета была еженедельная, то минимум раз в неделю, после сдачи номера в тираж, такая возможность представлялась. Впрочем, он всегда знал меру и ни разу себя не скомпрометировал чем-либо недостойным, а также удерживал от застольного переусердствования и других, так что урона его авторитету не наносилось.