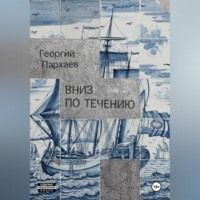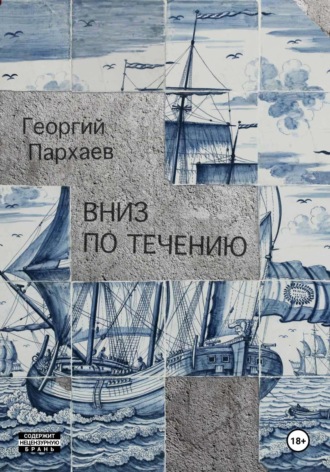
Полная версия
Вниз по течению
– Просто? А как же литература. Вадим Павлинович, так какая-то социология выходит. И куда семь параграфов сравнительного анализа и таблиц? Ведь у меня уже…
– Анализы – это хорошо, – перебил Сарычев. – Никуда ваши анализы не денутся. Пригодятся. Где-нибудь. Я вот к чему клоню-то: институт у нас, все-таки, литературный, а вы, как я полагаю, желаете писателем стать?
– Ну хотелось бы. И преподавать тоже, конечно.
– Похвально. Так вот: анализов и таблиц в любой аспирантуре любого вуза пруд пруди. Дело, конечно, хорошее, неплохое. Но ведь мы можем и больше. Должны, во всяком случае, стремиться. Так что давайте вот как с тобой поступим: берем название «Проблема личности в историческом контексте», а подзаголовком пишем «литературное исследование». Вот как.
– Это что же, как у Солженицына, что ли, получается – опыт художественного исследования?
– Примерно, но не совсем. Разобьем всю твою диссертацию на две части. В первой, теоретической, будешь все свои анализы сдавать, – профессор коротко и весело хрюкнул. – Сравнительные таблицы составлять и прочее. Тут ты уже начал, и получается у тебя неплохо, весьма неплохо. А вот вторая часть будет практическая. И тут ты как будущий… как писатель должен будешь сочинить произведение, не обязательно большое, повесть, например, на тему своей диссертации. И вот эти все наши с тобой анализы, таблицы, выкладки нужно будет на деле воплотить в настоящей литературе. Доказать, что не просто это все у тебя звон, так сказать, из пустого в порожнее, а реально работающая вещь!
– И как вы это себе видите? – подозрительно прищурился Резумцев.
– Ну что ж. Вот есть у тебя уже семь параграфов – куча материала. Алгоритмы вон у тебя различные составлены. Вот и берете один, или даже несколько этих алгоритмов, несколько героев, помещаете их в конкретную историческую ситуацию и наблюдаете, как они там будут себя вести.
– Прямо химия какая-то получается, – Павлу начинала нравиться идея профессора.
– А вот и именно! Химия больше подходит к литературе, чем зоология. Процессы, реакции… Но тут важно выбрать ситуацию, чтоб, с одной стороны, и наглядно, ярко выражено все было, с другой стороны – оригинально. Что думаете? Есть у вас на примете что-нибудь?
Резумцев хмыкнул и призадумался. Нагляднее всего было бы обратиться к революционной тематике, чтоб уж по полной нагрузить личности этими самыми проблемами. Восстания, гражданская война, брат на брата, осуществление выбора… Но смущала чрезмерная заезженность эпохи – кто уже только не писал, не исследовал, не выворачивал и не перевыворачивал этот сюжет. Банально. Но образ самой гражданской, внутринародной войны захватил Павла. Следующим приходящим на ум подобным событием была война в Америке. Но пораздумав, Резумцев решил, что тут тоже слишком много шаблонов и антишаблонов, к тому же менталитет и мотивацию заокеанских личностей будет сложнее достоверно описать. Следующей в очереди оказалась мысль, ассоциативным путем выкристаллизовавшаяся из первых двух и показавшаяся ему весьма удачной. Он поспешил ухватиться за нее. Идея заключалось в объединении русской и американской историй, так сказать, обосновании русского духа на американской почве.
– Вадим Павлинович, а что вы думаете насчет Русской Америки?
– Это Аляска что ли? – Почему-то насторожился Сарычев. – Хм, а что там такое?
– Ну как же! Сюжет тут, например, таков: конец восемнадцатого века. Каргопольский купец Баранов приезжает на Аляску и становится правителем всей Русской Америки. Назначается. Чем не проблема личности. Тут вам и труд на благо государства, и честолюбие, и испытание властью, и тяготы колонизации – битвы с индейцами, там. По-моему, весьма оригинально. Никто еще не описывал (я, во всяком случае, не знаю) русско-индейские конфликты. Привыкли все про ковбоев и Чингачгука. Потом он же еще, насколько я помню, женился на индейской женщине – опять-таки, какое испытание для личности того времени – этическое, религиозное, даже физиологическое. Ну а помимо центрального героя, добавим еще сюжетных линий – всяких купцов, офицеров, холопов, индейцев, женщин. Может получиться весьма занятно. А исторический контекст таков: империалистическая гонка колонизаций и предчувствие ее обреченности, – Павел сейчас в полной мере оседлал вдохновение, заряд которого получил еще утром.
Рассказывая, он то припадал к столу профессора, то откидывался и выводил пальцами замысловатые фигуры в воздухе. Сарычев слушал, прищурив один глаз, и пытался воспроизвести для себя картину, излагаемую вдохновенным аспирантом. Наконец, он произнес:
– Что ж, неплохо, недурно. Только не увлекайтесь. Не будем скатываться в Купера или в Дюма. Не забывай, что работа научная. Литература – литературой, но главное, чтоб все было по четкой структуре. Берем алгоритм – и нанизываем, насаживаем сюжет. Все по теории. Твоей же теории. И не усложняй. Эпопея тут не нужна. Хорошо бы защититься в начале года. Лучше – до весны. А уж совсем великолепно – после Нового года. Тогда мы им там в министерстве покажем! Так что давай повесть страниц на сто максимум. И чтоб все четко. Берем конкретное событие, случай и прогоняем по нему персонажей сообразно с диктовкой времени. Кстати, тут еще документальность важна, существенна. У нас же с вами кафедра какая? Вот то-то и оно – исторической литературы. Тут осрамиться никак нам нельзя. Историки на защиту придут. Нужно так, чтоб никто не подкопался. Ничего лишнего. Никаких там противоречий чтоб с документами не было. Так что в библиотеку сходите, подтяните матчасть. И вперед. Тема интересная, не затертая. Это хорошо. Одобряю.
– Значит, Вадим Павлинович, как мы теперь с вами поступим? Какие дальнейшие действия?
– Хм. Ну давай так: через неделю приносите скелет сюжета и набор персонажей. Обсудим все линии, характеры и будем уже развивать, наращивать. Так, значит, – Сарычев послюнявил широкий палец и принялся отлистывать страницы настольного календарика. – В понедельник… нет, лучше во вторник с утра приходите и весь план обсудим. На Пулитцера давайте не будем замахиваться, но крепкую литературу, в национальных, так сказать, традициях с вами сделаем, создадим. У тебя сегодня что? Преподаешь?
– Да, сейчас пойду, – Павел сверился с часами. – Через двадцать минут семинар у первокурсников.
– Ну что ж, добро. Держи… анализы.
Сарычев сгреб со стола листы уже неактуального седьмого параграфа и неровным ворохом протянул аспиранту.
Шагнув из сарычевского кабинета в коридор, Резумцев на миг отпрянул назад – в его направлении решительно шагала Татьяна с очередной порцией документов. В первый момент Павел было малодушно подумал вернуться обратно, якобы что-то уточнить, но решив, что его рефлекс не имеет сколько-нибудь оправданного основания, он, напрягшись, двинулся навстречу. Татьяна уже запеленговала его и неумолимо надвигалась, как-то особенно хищно улыбаясь. К неимоверному облегчению Резумцева, обстановку разрядил неожиданно вынырнувший из боковой двери доцент Ниундиков. Он почему-то выходил задом и ненароком преградил путь Татьяне, так, что она, сосредоточенная на Резумцеве, довольно существенно задела его левым бортом и дала крен в противоположную сторону.
– Ой, Та-анечка! Здравствуйте, дорогая. Тысяча извинений, – елейным голосом произнес Ниундиков, галантно поддержав секретаршу за локоть. – Как же это мы так с вами?
В этот момент аспирант поравнялся с ними.
– Здравствуйте, Павел, – вывел доцентовский тенор, и его свободная рука протянулась навстречу аспиранту.
– Доброе утро, Виталий Геннадьевич, здравствуй, Татьяна.
– Да уж виделись же…
Чувствовалось, что ей было неловко от эпизода своего столкновения с доцентовым задом на глазах у потенциального кавалера. Охотничья решительность заметно поубавилась, что, в свою очередь, придало Резумцеву уверенности и непринужденности. Он уже не спешил ретироваться и был не прочь перекинуться парой слов с Ниундиковым. Кроме того, данный случай подействовал на Павла как медицинский электрический разряд или внезапный холодный душ – его оценка окружающего резко переменилась – Татьяна вдруг представилась ему не всепоглощающим хтоническим началом, как порой казалось, а неудачливой женщиной с неустроенной личной жизнью и с замутненными перспективами на этот счет в ее тридцать с чем-то там. Резумцев облегченно выдохнул.
– Ну-у, как поживает наше молодое поколение? – начал Ниундиков фразой, означавшей его полное непонимание, о чем говорить.
– Да ничего, спасибо, – даже с долей некоего снисхождения отозвался Павел. – Пишем потихоньку. Вот в будущем году, надеюсь, уже защита будет.
– Скажите! Вот же время бежит, – подтвердил свою диалоговую несостоятельность доцент. – Только вроде бы недавно зачеты сдавали, экзамены… И вот тебе! Быстро все, да?
– Не говорите, – улыбнулся Павел, хоть и не согласный, но не хотевший расстраивать собеседника опровержением его ощущения времени. К тому же, светская беседа исключала возражения в подобных вопросах.
– Ой, действительно! – Решила поддержать разговор Татьяна. – Вот только-только лето было. Море, пляж… И вот тебе – на! Оглянуться не успела.
– Куда ездили? – Мелодично осведомился Ниундиков.
– На море ездила, – с уклончивой улыбкой повторила информацию Татьяна, поправляя прическу.
Очевидно, ей очень не хотелось вдаваться в географические подробности.
– С подругой, – добавила она, глядя уже на Павла, с очевидной претенциозностью.
– Ну и как там? Понравилось? – Довольно прохладно, но в пределах дружелюбия осведомился Резумцев.
– Замечательно! – Всплеснула руками секретарша, чуть не устроив фейерверк из документов. – Море такое прозрачное-прозрачное, и с погодой так повезло. И экскурсии такие замечательные, и вина попили, – Татьяна хихикнула. – И на нудистский пляж даже сходили, – добавила она доверительно, игриво хлопнув по плечу Ниундикова и молниеносно стрельнув глазами в сторону Павла.
– Завидую, – мечтательно промурлыкал Ниундиков, – Завидую, Танечка, оказавшимся там в этот момент. И с удовольствием бы присоединился.
Татьяна засмеялась в стиле провинциального театра девятнадцатого века, внимательно следя за теми своим ракурсами и движениями, которые были в видимости Резумцева. Тот же, в свою очередь, улыбался самой непосредственной своей улыбкой и деликатно кивал на реплики обоих своих собеседников.
– А сочиняете ли что сейчас? – поинтересовался Ниундиков, исподволь подставляя плечо для очередного хлопка Татьяны.
Хлопка не последовало.
– Да-да. Вот только сейчас с Вадимом Павлиновичем обсуждали. Любопытная задумка – из колониальной истории. И вместе с тем предусмотрен глубокий психологизм.
– Даже так?!
– С нетерпением буду ждать. Жутко любопытно.
– Танечка, после Вадима Павлиновича, рецензентов, оппонентов, комиссии и редколлегии – тебе, непременно, дам первой.
Секретарша зарделась. Она не припоминала, чтоб Резумцев называл ее Танечкой и, к тому же, ей было приятно столь почетное место в его иерархии.
Резумцев взглянул на свои электронные часы, вечно переворачивавшиеся циферблатом вниз. Они возвестили, что до начала занятий осталось семь минут.
– Ну, побегу, – панорамно улыбнулся он Татьяне и Ниундикову, – сейчас мои первокурсники начинаются. Разумное-вечное… К своим, так сказать, ученикам.
– Удачи, коллега, – доцент по-фазаньи раскланялся вжиманием головы в плечи.
– Желаю побед, – не пояснив каких и в чем именно, утробно выдохнула Татьяна.
Она совершила шаг назад, пропуская Павла, при этом разведя согнутые в локтях руки в стороны, чтоб максимально подчеркнуть, обтянуть и приблизить к нему бюст. Резумцев, бросив непроизвольный и стремительный взгляд на демонстрируемый объект, устремился в перспективу коридора. К ученикам.
Глава 3.
– Прошу садиться!
Аудитория разноголосо заскрипела стульями. Перед Резумцевым сидел сводный коллектив филологической и прозаической групп. Павел преподавал у них раз в неделю, чередуясь со старшим преподавателем Гунгутовым. Поскольку началась четвертая неделя сентября, это была их третья встреча. Отскрипев, первокурсники зашелестели раскрываемыми конспектами, после чего в аудитории повисла тишина. Утренняя волна романтических эмоций, а так же последующие встречи и мысли начисто стерли из памяти Резумцева предмет сегодняшнего занятия. Причем он до последнего не отдавал себе в этом отчета – слишком был занят. Теперь же на общем благодушном фоне вдруг вычертились сомнения и тревога. Постепенно все раздумья отступили и поблекли, а на первом плане обосновалась проблема педагогическая. Проблема, стоит заметить, всегда бывшая для Павла болезненной: часто он переживал, что студенты относятся к нему несерьезно, и сомневался, что правильно себя ведет и дельные ли вещи рассказывает. Резумцев помрачнел.
Черт, неловко-то как. Напрочь вылетело, о чем речь. И спрашивать как-то… Первокурсники, значит… Первокурсницы, в основном. Что ж столько женщин-то всегда? А на выходе что? В науке там, в литературе… Женщины любят учиться… Ну ладно… Не подавать вида! Прорвемся! Подумаешь – первокурсники. Нападение – лучшая защита. Пусть не расслабляются.
– Ну, друзья мои, кто имеет что-нибудь высказать по данной теме? – начал он, делая вид, что просматривает какую-то важную документацию (на самом деле это были забракованные листы его диссертации), размеренно, делая драматические паузы между словами и не глядя на студентов.
Ответом было общее молчание, подернутое легким шелестом локальных перешептываний. Резумцев долистал свой седьмой параграф до последней страницы и, выждав еще несколько секунд в тщетной надежде, что кто-нибудь возьмет слово, начал отмерять страницы в обратном направлении.
Да что ж такое?! Что за бестолковый народ?! Ну давай кто-нибудь! Скажите хоть что-то! Давай, давай, давай!
Безмолвие наконец нарушила серьезная девушка в очках (вроде-бы филолог) из второго ряда (на первом никто не сел):
– Извините, а по какой теме?
Обычно Павла удручало и раздражало, когда студенты обращались к нему безлично, без имени-отчества. В этом он видел подчеркивание своей незначительности, показатель того, что его не воспринимают как настоящего преподавателя, и очень нервничал по этому поводу. Но сейчас он даже не обратил на это внимание – благодарность девушке в очках затмила досаду от дефекта в ее обращении. Павел произвел внутренний выдох облегчения, но внешне виду не подал. Он неторопливо поднял голову, с большой неохотой оторвав взгляд от важных бумаг, и, слегка прищурившись, посмотрел на источник звука, при этом пожалев, что не носит очки – сверлящий взгляд поверх стекол был бы сейчас весьма эффектен. И он посмотрел исподлобья так, как будто они на нем были.
… два, три, четыре.
– Как ваша фамилия? – выдержав паузу спросил Резумцев.
– Чушкина, Маша.
Павел с трудом сдержал неуместный смешок.
А отвечает бойко. Видимо, натренировалась. Преодоление комплексов. Ох, и доставалось ей, небось, в детстве прозвищ. Да, может, и сейчас тоже… Не так уж далеко они от детства. Маша Чушкина… Ну извини, Маша, хоть ты и выручила меня, придется тобой пожертвовать, провести гамбит. А что делать?
– И вы считаете, Мария, что подобный вопрос корректно задавать преподавателю?
Маша Чушкина запыхтела широкими ноздрями. Нейтральное молчание переросло в напряженное. Шепот затих, только время от времени из разных концов аудитории поскрипывали старые потертые стулья. Маша, хотя и осознавала свою правоту, но не находила, что ответить, и только насуплено глядела на Резумцева.
– Ну, друзья мои, вы даете! – Резумцев перешел на тон покровительного снисхождения. – Вы что с Виктором Алексеевичем в четверг проходили?
– Так не было же занятия – заболел он тогда, – Маша Чушкина взяла на себя обязанности транслятора мнения всей студенческой массы, – и нам заменили лекцию, на историю нас подсадили.
Резумцев хмыкнул. Он вспомнил, что, действительно, на прошлой неделе Гунгутова свалила какая-то очередная хворь, ангина, что ли, или желудочное что-то: он вообще был болезненный, и Павел должен был бы его заменить, но убежал в редакцию по своим халтурным делам. А что он сам рассказывал неделю назад, он за последними событиями и впечатлениями, хоть убей, не помнил. Спрашивать об этом студентов после своей суровой атаки, значило бы отступить с позиций и существенно уронить свой, и без того достаточно условный, авторитет.
Ах ты ж…
– Ну и что ж с того? А то, что мы с вами на прошлой неделе обсуждали, уже забыли, что ли? Хороши, хороши-и.
– Нет, почему же, – Чушкина перелистнула тетрадь на страницу назад. – Вот: «Проблема и развитие образа лишнего человека в русской литературе». Только… Нам же ничего не задавали, и сегодня лекция должна быть – вместо четверга.
Остальных студентов Маша весьма устраивала в качестве переговорщика, и никто вступать в разговор не стремился. Только после слов «ничего не задавали» послышался традиционный одобрительный ученический гул.
– Эх друзья, мои! – Резумцев перешел на доверительный тон старшего товарища. – Что же вы так формально подходите к предмету? Задали, не задали… Институт-то у нас, все-таки, литературный, а вы, как я полагаю, желаете писателям стать? Ну или филологами, – Павел сделал жест рукой в правую сторону аудитории (наугад, но попал – большинство филологов группировалось там), – в данном случае – это все равно. Писатель! Это же в первую очередь кто?
– Зеркало эпохи? – предположила Чушкина.
– Сами вы зеркало, Маша, – с обезоруживающей улыбкой посмотрел на нее Павел. – Писатель – это мыслитель! Мозг! Нервы! Мысли! Писатель обязан постоянно думать, иначе – все! Ничего не выйдет!
Вот я разошелся… И чего это я на них? Ладно, теперь курс на смягчение, на демократию.
– Вот прослушали вы лекцию, и что? Кончилась пара – побежали гулять? в кино ходить и пиво пить? И все, вроде как больше и не надо думать. Ничего не задали – и хорошо, и слава Богу, проскочили на сегодня. Нет, друзья мои, нет! Нужно переваривать, обсуждать, спорить, плодить новые идеи. Мыслить, одним словом! Обязательно должно быть свое мнение. А как же иначе? Ведь писатель не просто человек, его мысли должны быть острее, уникальнее, передовее (глупое какое-то слово вышло), чем у всех остальных людей. Он должен быть впереди всех, на шаг, на полшага, но впереди! Или хотя бы сбоку. Гениальный писатель – он впереди, хороший – сбоку, ну а все остальные, посредственные и плохие, так те там где-то, в толпе толкутся. Затолкают, растопчут, так никто и не заметит. Тут надо и немного провидцем, пророком быть. Да! А как вы хотели (да хотят ли они вообще что-нибудь, хотя… вроде понемногу оживляются)? Чтоб заинтересовать человека, нужно показать ему то, чего еще как-бы и нет, но что он предвкушает, чувствует своими инстинктами, но умом своим еще не понимает. Вот тогда и будет в этом смысл. Тогда-то все и сработает. А зеркало эпохи – это все уже вторично, это уже необратимая данность, итог деятельности, так сказать. Вот возьмите гениев – Пушкин, Гомер, Шекспир…
– Так Шекспира же не было, – подал голос одутловатый юноша-филолог.
Та-ак, вот уже подтягиваются, включаются.
– Я тебе дам – не было! – шуточно погрозил ему пальцем Резумцев. Показались молодые белозубые улыбки, кое-кто захихикал. – Впрочем неважно, как его назвать – Оксфордом или Ретлендом. Шекспир – это марка, как не цинично звучит, и кто может оспаривать гениальность его произведений? Главное – все они опережали свое общество. Во всем – в образе мысли, в слоге, в динамике жизни и своих произведениях. Гении – скажете вы. Да! Но нет! Это оправдание посредственностей – мол, есть какие-то избранные и они недосягаемы, поэтому и рыпаться нечего. Нет! (почему это нет? Конечно, мы все тут посредственности. Ну, по крайней мере – вы) Нет! Просто они мыслили, они никогда не останавливались в этом процессе! И поэтому они интересны и актуальны до сих пор. Нет ничего более интересного, захватывающего и ценного, чем человеческая мысль! А вы – «не задавали»… Думайте, друзья мои, постоянно думайте! Ни в коем случае не останавливайтесь, и тогда вы будете интересны и читателю, и друг другу, и – самое главное – самим себе. Ведь без интереса к самому себе писатель абсолютно невозможен. Пуст и неискренен. Все же отсюда идет.
Резумцев произвел энергичный воодушевляющий жест обеими руками. К этому моменту он уже восседал на преподавательском столе, непринужденно болтая ногой.
– Так получается, что как раз писатель и есть этот самый лишний человек, – вступила коротко стриженная блондинка рядом с Одутловатым филологом. – Раз он вне общества, где-то сбоку, этому самому обществу на него начхать – вот оно и получается – лишний! Так?
– Интересная мысль, но не вполне справедливая, – Павел легко спрыгнул и снова переместился на свой стул. – Почему вы решили, что обществу на него начхать? Оля, так кажется?
Блондинка кивнула. Некоторые имена и фамилии Резумцев запомнил за предыдущие два занятия. Эффектную Олю – среди первых.
– Ну как же? Общество всегда увлечено процессами внутри себя. Какое ему дело, что там во вне?
Хоть бы жвачку выплюнула, что ли… Как-то неудобно замечание делать на такую тему, раз уж так вознеслись… А, может, именно ей неудобно? А, плевать? Кто она, в конце концов, такая…
Но тут Оля, то ли что-то уловив в мимике преподавателя, то ли из чистого совпадения, сама как-бы незаметно сплюнула резинку в кулачок, а потом аккуратно прилепила под столешницу.
Вот нравы…
– Нет-нет-нет. Вне общества он оказывается только в аспекте своих передовых мыслей, идей. На всех остальных уровнях – бытовом, социальном, интимном – он может быть вполне полноправным и активным его членом. Взять, к примеру, того же Пушкина. Его уж никак нельзя считать изгоем.
– Какие же тогда признаки лишнего человека? Как его вычислить? – Это уже Маша Чушкина.
– А вот давайте с вами вместе и разберемся. Давайте будем выписывать. За мной только записывать не надо. Пусть наше общение останется в формате беседы. Все эти записи, стенограммы высушивают, выхолащивают живость восприятия. К тому же все, любая неточность может нести искажение и необратимые последствия. Записывать нужно только собственные мысли. Чужие – слушать или читать. И вообще, все, что я говорю, не может быть абсолютом и последней инстанцией. Я сказал – вы послушали, поспорили, согласились или нет. И дальше уже работает ваш мозг, формируется ваше восприятие. Это же не химия, не алгебра, чтоб записывать и зубрить. А я тут на доске – просто, чтоб сейчас нагляднее было видно. Итак! Какие признаки лишнего человека как героя литературного произведения. Допускаю, что в жизни бывает все немного по-другому. Но сейчас о литературе. Итак, какие?
– Иная точка зрения, чем у остальных персонажей на основную проблему произведения, раздался голос откуда-то с дальних рядов.
– Та-ак, – Резумцев противно заскрипел крошащимся мелом по доске. – Скажем так: Разногласие во взглядах. Но это может быть у кого угодно с кем угодно. В чем тут нюанс? Что делает его лишним?
– Одиночество, – предположила Маша.
– Одиночество – да. И не просто одиночество, он может иметь и кучу родственников и знакомых, но одиночество духовное и интеллектуальное. Это тоже запишем. Но что там у нас с разногласиями-то?
– Его исключительность? Другая природа?
– Не совсем ясно, что значит другая природа. Можно быть другим, чем все остальные персонажи, и вместе с тем не быть лишним. Например, Маугли – понятно, что он не такой, как все остальные звери, но он среди них совсем не лишний. Там скорее лишним оказывается несчастный Шерхан, которого на протяжении всей книги все ненавидят, а потом, в буквальном смысле, растаптывают. Хотя у него, безусловно, есть своя правда и своя логика.
– Ну с ним не соглашаются, не понимают, он… – не успела договорить кудрявая девушка с проколотой ноздрей.
– Да! Именно! – Резумцев с воодушевлением застучал меловым крошевом по белесо-мыльным разводам. – Абсолютная невозможность взаимопонимания. И это у нас наглядно можно пронаблюдать где? Кто у нас в русской литературе формирует тип такого человека?
– Чацкий? – выдвинул гипотезу Одутловатый.
– А почему так неуверенно. Да, конечно, это «Горе от ума». Ведь там не в том дело, что Чацкий такой благородный и положительный, а остальные все дураки и негодяи. Нет! И в нем много неприятных черт: желчность, нарочитая экзальтированность, бесцеремонность, а в прочих персонажах проглядывают иногда и какие-то обаятельные черты. Но именно тотальное непонимание взглядов и ценностей друг друга, их неприятие и создает сюжет, и делает, в свою очередь, героя этим самым лишним человеком. Тут, поскольку это, можно сказать, первый опыт освоения подобного сюжета, да и жанр диктует свои условности – проблема заявлена буквально – Чацкий остракизирован (чересчур!) – физически удален из общества. Но это совсем не обязательно. Может быть все сложнее – внутренняя изоляция или смерть.