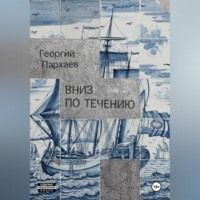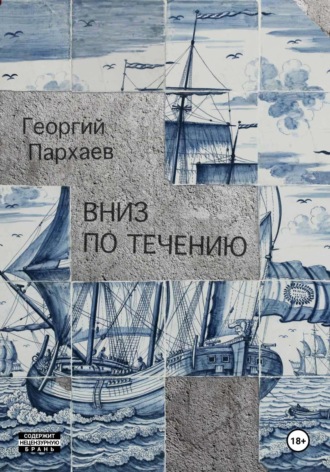
Полная версия
Вниз по течению
– А женщины бывают лишние? – прозвучал густой голос крупной девушки-прозаика.
По аудитории прокатились смешки и какие-то спонтанные шуточки.
– Ну, я имею в виду, – есть такие случаи в литературе?
– Опять хороший вопрос, – благосклонно похвалил ее Павел и строго посмотрел в сторону источника неуместного веселья. – Тут все зависит от формулировки. Почему-то принято ограничивать это явление русской литературой середины девятнадцатого века. Я не согласен. Форма со временем, конечно, поменялась, но проблема-то осталась. Многие зарубежные писатели обращались к этой теме: из нашего века это и Фолкнер, и Хаксли, и Камю, конечно же, которые создали целые галереи таких образов, причем у каждого героя своя причина, по которой его можно считать чужим. Это и отчасти Кортасар. В общем, это явление общемировое. Сюда вполне, скажем можно отнести и Гамлета и ионесковского Беранже, согласны?
Возражений не было.
– Так что, если покопаться, даже и в классических, но более поздних произведениях, где женщина уже существовала не только для раскрытия характера героя, но и уже могла быть равноправным действующим лицом. Мы можем найти немало таких примеров. У Чехова, например, каждый второй человек – лишний, потому что все друг другу чужие, и женщины в том числе. В некоторой степени у Набокова. Если брать зарубежные произведения, то здесь, конечно, мастер женских драматургических образов Теннеси Уильямс. Это героини и «Орфея…» и «Трамвая…»…
Здесь Резумцев вдруг запнулся. Ассоциативная эстафета через, уже было забытое прозвище, вновь вынесла его к Веронике. Почему-то вдруг подумалось, что она со своей оригинальностью, странным стилем общения, некоторой отчужденностью была бы прекрасной «лишней». Недаром она еще до знакомства вызвала у него ассоциации с незадачливой героиней. Хотя почему «бы»? Она и была ей, и только его появление, озарило сумрак ее социальных противоречий, примирило ее с обществом, с человечеством. Потом он вдруг с тревогой подумал, что так не бывает. Что по всем законам литературы никакое примирение невозможно, и судьба лишнего человека обречена на трагедию, на провал. И тогда его появление не играет никакой роли, и он сам – лишь проходной персонаж, суетливым своим мельтешением служащий фоном масштабной драмы. Череда этих сумбурных соображений уложилась примерно в две минуты. Студенты практически не заметили внезапного ступора Резумцева и были поглощены внутренними, вполголоса, обсуждениями, кто – предмета занятия, а кто – каких-то посторонних проблем.
Павел подошел к запотевшему окну. Приложил ладонь. От ее тепла вниз по стеклу побежали прозрачные ручейки, ломанными траекториями пробиваясь через мутный конденсат и открывая за собой узкие фрагменты сырого города, ритмично разбитого на оранжево-желтые и холодно-серые геометрические фигуры. Он медленно – туда-обратно – протер смотровую зону, поглядел через нее на дождливый осенний пейзаж.
Да ерунда это все… Что ж за привычка такая дурацкая – нагнетать такой негатив? Хотя и не привычка… Только сейчас прицепилось. Нормально у нас все! Все нормально! Хорошо! Так… Однако, что там эти-то?
Резумцев повернулся, отирая сырую руку о штанину.
– Теперь, Оля, возвращаясь к вашему тезису относительно писателя как лишнего человека.
– Ну это не тезис, Павел Дмитриевич, скорее, просто вопрос, – блондинка пару раз плавно переместила вес с одной ягодицы на другую.
Ну наконец-то по имени! Спасибо тебе, Оленька. И ведь запомнила же… Я учту… учту.
– Не надо сразу отступать. Такая точка зрения вполне имеет право на существование. Но вот согласиться с ней я, пожалуй, не могу. Во-первых, основное стремление писателя, мыслителя по отношению к обществу – это быть понятым. И хорошим писателям это, конечно, удается. Некоторым при жизни, другим – позднее. Следующий этап, конечно, несколько тщеславный, но присущий большинству писателей, – это быть признанным. То есть добиться, чтобы значительная часть общества не только поняла, но и разделила его мысли. И чтоб это произошло, должны совпасть два встречных процесса: со стороны общества – желание и умение дотянуться до уровня мыслителя и понять, и со стороны писателя – прочувствовать, каким образом, в какую форму свое послание облачить, чтобы достигнуть максимального эффекта. Я сейчас говорю не про масштаб и качество идей какого-либо писателя, а исключительно про общую картину взаимоотношения его с обществом.
Павел снова прибегнул к помощи доски и нацарапал на ней аморфную фигуру с буквой «О» в центре, подбоченившегося человечка под буквой «П» и экспрессивно соединил их обоюдонаправленными векторами.
– И как же лучше всего эту форму нащупать? – пророкотала Крупный Прозаик, тревожившаяся по поводу отсутствия «лишних женщин».
– Ну, тут, как говорил герой Высоцкого во всем известном фильме, нужно проявлять искренний интерес. Во-первых, нужно постоянно тренировать наблюдательность, на все обращать внимание, во все вникать, впитывать. Во все процессы, абсолютно. Вот идете вы, скажем, по улице. Тут тоже умение нужно. Иной раз так и хочется наушники воткнуть, добежать побыстрее куда надо, не обращая ни на кого внимания. Нет! Писатель не имеет права так поступать. Все в багаж, все в копилку. Каждую минуту, каждую секунду рядом с вами может происходить нечто, что может сподвигнуть к написанию гениальной вещи, находке грандиозного решения, рождению какой-нибудь невероятной идеи. Во-вторых, необходимо, конечно, уважать читателя. Без уважения нельзя выстроить никаких прочных отношений. Нужно вступать с ним в диалог. Нужно представлять любое свое литературное произведение как приватную беседу. Не нужно умничать, ибо никто не любит, когда его выставляют дураком, не нужно опускаться до уровня самого тупого из возможных читателей – это выглядит как заискивание и на подсознательном уровне тоже, в конце концов, вызывает неприятие. Нужно стремиться общаться с читателем, как с равным. Но! При этом быть чуть выше его и осознавать это. Чтоб ему было куда стремиться, чтобы для него была интрига, нечто неизведанное.
Вот меня понесло-то… Но вроде ничего, слушают. Оленька, вон, даже ротик приоткрыла… Ну, погнали дальше!
В общем, главное – это не быть равнодушными. Равнодушие обезличивает, оскопляет, если позволите так выразиться. Для мыслителя необходима позиция активная – постоянная потенциальная возможность проявить себя не только на бумаге, но и в жизни. Без полноты жизненной ведь наступает и неполноценность интеллектуальная и творческая. И нужно опять-таки понимать: я не призываю, что называется, пускаться во все тяжкие, я говорю о готовности, способности к Поступку! С большой буквы! Настоящий писатель, крупный писатель, великий писатель не может быть только теоретиком, ограничивать себя, свое творчество чужими познаниями. Как полководец должен проверить себя в битве, как путешественник должен пройти маршрут, так и писатель должен испытать себя жизнью.
Резумцев распалил себя и впал в какое-то ораторское неистовство. Он заходил с разных сторон своего стола, присаживался на него и резко вскакивал, прохаживался взад-вперед, размашисто жестикулируя. В его преподавательской практике, да что там – в его жизни – это была первая такая лекция, построенная на экспромте и изложении собственных профессиональных и жизненных позиций. До этого он обычно пользовался методическими пособиями для преподавателей и тем классическим курсом, который прослушивал сам, будучи студентом. Сейчас же, курсируя перед аудиторией, он то и дело возвращался к осознанию своего внезапного раскрепощения, поражался ему и сам себе признавался, что произошло оно в основном благодаря Веронике. Нежданная, внезапная легкость знакомства и общения с ней открыла новые стороны его личности, отчасти уничтожила его закомплексованность перед слушателями, рефлексию по поводу собственного мнения. Сейчас Павел был уверен в себе, как никогда, наслаждался своим красноречием и пьянел от чувства его воздействия на аудиторию. Да! Сладостный момент демагогии (от античного «вождь народа»). Да! Он действительно создан для преподавания, для просвещения молодежи! Да, да! Он способен заронить эту искру и взрастить пламя! Спасибо, Вероника! Только благодаря тебе, твоей заражающей, обволакивающей (почему такие негативные термины) естественности смогли открыться эти способности. Ну, держитесь! Все вы у меня гениями станете!
– А он ничего так… Как тебе? – стрекучим шепотом обратилась к Оле ее соседка, пристально щуря глаза на Резумцева.
– Да, только дерганный какой-то, – отозвалась девушка.
В этой ее оговорке чувствовалась некая натужность.
– Говорит интересно, – чуть погодя добавила она улыбнувшись. – Захватывает.
– Ты бы с ним… а? Рассмотрела бы? – продолжила развивать тему соседка.
– Легко. Прямо вон там, у доски… – Оля приглушенно захихикала. – Да ну тебя!
– Молодой еще, конечно, – скептически склонив голову, резюмировала соседка. – Но ничего, ничего…
Резумцев в очередной раз прыжком сел на стол.
– В общем, отвечая на данный вопрос, можно сказать так: интересуйся, искренне интересуйся людьми, и будешь интересен им. И еще. Совет лично от меня: избегайте излишней официальности. Не нужно все это. Лучше сразу начинать общение с читателем так, как будто вы старые хорошие знакомые и вам есть о чем по душам поговорить. Долгие официальные вступления утомляют, отдаляют. В общем, на пользу точно не идут. Читатель будет только благодарен, если вы сразу перейдете к сути. Поверьте, он это оценит.
– Павел… Дмитриевич, а вам никогда не приходилось себя чувствовать исключительным человеком в обществе? – кокетливо спросила соседка Оли.
– Вопрос немного странный. Во-первых, мы сейчас говорим о литературных произведениях. Во-вторых, лишним, тотально непринятым и лишенным надежды на понимание – нет, не приходилось. А на счет исключительного – я думаю, это в какой-то мере свойственно каждому человеку, ведь все мы воспринимаем мир исключительно через свои личные ощущения, через призму своего «я». Как-то так.
– Павел Дмитриевич, а случалось ли вам самому писать… ну сочинять что-нибудь на эту тематику. Ну вот с таким героем, – активизировалась, выпавшая было из действия, Маша Чушкина.
В глазах Павла промелькнула хитринка.
Ну вот, все стали по имени-отчеству… Прям бальзам на душу! Стоп. Сочинять, говоришь? А что если им сейчас подсунуть эту самую лабуду, что Павлиныч придумал. Так, как-бы невзначай, в виде наглядного примера. Пусть понакидают мне тут своими юными свежими мозгами разных вариантов. А? Вроде неплохо придумано. Не знаю, правда, насколько это этично. Но, в конце концов, всем же от этого только польза, не так ли? Если, конечно, они вообще в курсе, о чем идет речь. Как бы тут поаккуратнее подвести?
– Какие вы сегодня молодцы, – отечески похвалил слушателей Резумцев и решил перевести дискуссию в выгодное для себя русло. – Опять интересный вопрос. Конечно. Приходилось, и использовать в своих литературных потугах, так сказать, и в какой-то мере затрагивать в исследованиях. Тип-то очень характерный и очень востребованный в литературе. Вот давайте с вами сейчас попробуем сыграть в такую игру – очень развивает воображение и гибкость ума: я вам называю некие обстоятельства, а вы мне составляете образ лишнего человека в них – его имя, род деятельности, ситуацию, обоснование исключительности. Чистый экспромт, не боимся фантазировать, импровизировать. Никаких критериев, принимается все. Ну что, готовы?!
Нестройный хор нечленораздельных звуков издал гул, который, скорее всего, можно было воспринять как согласие. Аудитория оживленно зашевелилась, вновь разнеслось разнообразное поскрипывание старых стульев. Павел опять вышел из-за стола, облокотился на него задом, эффектно скрестил на груди руки. Несколько секунд он глядел в пол, размышляя. Затем быстро вздернул голову и, выкинув руку в сторону прозаиков (все-таки они были ему как-то ближе), скороговоркой произнес:
– Август тысяча девятьсот четырнадцатого. Англия.
Первым, как почему-то и предполагал Резумцев, слово взял Одутловатый Филолог. Пока все в молчаливом напряжении пытались строить свои варианты или вовсе недоумевали по поводу предложенных обстоятельств, он, деловито поправив очки, выдвинул свою версию:
– Ну, допустим, так: поскольку все европейское общество на патриотическом подъеме и с воодушевлением жаждет войны, такой человек должен идти вразрез с этим мнением. У него должна быть пацифистская позиция, подкрепленная чем-нибудь таким… Например, он историк и может трезво представить, к чему все идет.
– Можно еще добавить личный мотив: например, его отец или брат погиб в англо-бурской войне, что укореняет в нем антимилитаризм еще больше, – встрял студент в пестром пиджаке и с прилизанным пробором, сидевший за Одутловатым Филологом. Тот обернулся и с недовольным видом принялся фокусировать на сокурснике очки с какими-то невероятными диоптриями, протестуя против того, чтоб его перебивали.
– Итак, молодой человек, – Павел уточняюще указал на первого оратора. – Да, вот вы, отрицающий Шекспира. Давайте окончательную версию. Кратко, тезисно.
Одутловатый немного посомневался, использовать ли дополнение Пестрого, но, решив в итоге, что оно продиктовано лишь эгоистическим стремлением продемонстрировать свои исторические познания и на его концепцию не очень ложится, ограничился своей первоначальной версией. Он опять поправил толстые очки, придавая этим жестом весомости будущим словам, и со значением произнес:
– Это молодой историк Гилберт Уинстон Лонли, специализирующийся, скажем, на столетней войне. Воможно, даже социалистических взглядов.
– Комуняка, – съехидничал Пестрый.
Одутловатый, уже не обращая внимания на ремарки соседа, продолжил:
– Грядущие события приводят его в ужас – этим он отторгается от воинственно настроенного общества, считающего его трусом и чуть ли не врагом Короны. Его невеста в патриотическом порыве, устыдившись его малодушия, бросает его и отправляется медсестрой в армию. А его отец – член правления оружейного завода. Семья алчет обогащения, предвкушая наступающую большую войну. Он отдаляется и от них. Вот, как-то так.
Резумцев благосклонно, даже не без некоторой скрытой зависти выслушал рассказ филолога.
Ничего, ничего, молодец. Быстро освоился. И даже с фамилией сообразил. Надо его запомнить. Даже жалко, что филолог.
– Неплохо, юноша, весьма неплохо изложено. Как вас зовут? Я прошу прощения – еще не всех вас успел запомнить за два занятия, так что, не обессудьте – буду часто еще спрашивать.
– Владимир Безовец, – ответил Одутловатый.
Без каких еще овец?..
– Благодарю, Владимир. Следующей нашей ситуацией будет Древняя Греция. Эдак – тысячный год до нашей эры.
Павел решил еще немного разогреть, размять аудиторию перед тем, как обозначить тему, действительно его интересовавшую. К тому же этическая неоднозначность этого шага не переставала его тревожить, и он подсознательно отодвигал его от себя, каждый раз решая, что этот вопрос будет следующим.
– Что у нас там может быть, в Древней-то Греции? Кто?
Руку потянула Оля.
– Да-да, пожалуйста, – улыбнулся ей Резумцев и произвел покровительственный приглашающий жест.
А все-таки до Вероники… моей… всем им далеко. Вроде и ничего как будто девочки, а не то. Плоские какие-то, без глубины. Случайные… Не хватает какой-то интеллигентности, что ли. Нет, не то слово. Интеллигентность ни причем. Внутреннего наполнения! Душевности, многогранности. Чтоб так, как на просвет переливались. Хотя, конечно, молодые еще. Ну, а Вероника старая, что ли! Нет, тут не в том дело. Просто это что-то природное… врожденное. Нет, не-ет. Таких единицы. Раритет! А этот, без овец-то, ничего – толк будет. Вот же мне повезло все-таки! Сколько там осталось? Семь часов? Да, где-то так.
– …поэтому, они его и прогнали из своего полиса! – Торжественно закончила Оля и состроила милую рожицу в ожидании похвалы.
Павел, все это время улыбаясь глядевший на нее и метрономически кивавший в такт ее монологу, вдруг выпал из своего оцепенения, и в глазах его сверкнул испуг.
Ой! Все прослушал! О чем бишь она там? Вряд ли что-то интересное. Но хоть из вежливости надо хоть вопрос задать.
История Оли, между тем, вызвала у аудитории немалое оживление. Прислушавшись к студенческому многоголосью, Резумцев уяснил, что группа филологов справа не принимала предательство какой-то гетеры Олимпии в качестве возможного и характерного действия. Коллектив же прозаиков возражал им, что это, как раз, было в порядке вещей, а вот поведение некоего Эврификла действительно противоречит всем историческим и литературным реалиям. Видимо Оля, вопреки сомнениям Резумцева, сочинила, если не талантливую, то уж, во всяком случае, весьма занятную историю, полную древнегреческих хитроумных козней и любовного коварства.
– Так, так, так! – По-нарастающей повысил голос Резумцев, перекрывая какофонию. – Оля, подытоживая: почему он все-таки лишний в своем… окружении?
– Кто? – простодушно спросила Оля, которую всклокотавшая вокруг дискуссия заставила отвлечься от собственной оригинальной истории.
– Ну… Этот ваш, – кто именно, Павел, конечно, понятия не имел. – Герой.
От радости обретения нужной формулировки, на последнем слове он чуть было не дал петуха, но совладал-таки со своим голосом.
– Ну как же?! Ведь он не попал на игры, и Олимпия ушла от него к Гератроклу, – как само собой разумеющееся, разъяснила Оля.
Действительно, ответ был исчерпывающий. Развивать этот сюжет дальше и поддерживать обсуждение у Резумцева не было никакого желания. Теперь, к тому же, закралось опасение, что и следующую его тему превратят в какой-нибудь будуарный анекдот. Но другой, совестливый Павел, где-то там в глубине, тихо радовался, что подобный ход событий никак не запятнает его моральный облик. В итоге, покорив себя за невнимательность, из-за которой была упущена здравая нить, и ученики смогли заблудиться в непролазных дебрях, он поспешил как можно деликатнее завершить выступление Оли и двинуться далее, к своей цели.
– Большое спасибо, Оленька. Очень содержательно. Особенно хороши имена, – искренне добавил он. – Идем дальше! Начало девятнадцатого века, Русская Америка.
– Ой, а что это? – Удивилась незнакомому словосочетанию соседка Оли, та, что интересовалась потенциалом ее половой жизни.
– Марин, ну ты даешь! Это ж когда Аляска еще нашей была, – перевесившись через парту опять поспешил показать свою осведомленность Пестрый. Соседка удостоила его пренебрежительного взгляда и фыркнула. Таких девушки обычно не любят.
У Павла после оглашения вопроса напряженно сжалось сердце. Внутренний Паша-совесть запустил учащенный пульс, заявляя о своем протесте, а от возможной надобности все еще и объяснять (а вдруг еще что-то и заподозрят) на лицо выползла предательская краснота, а лоб покрылся испариной.
Но недоумевавшую часть слушателей пояснение Пестрого вполне устроило, а остальные и так были в курсе, о чем идет речь. Аудитория перешла в низкочастотный режим раздумья. Павел, тем временем, начал возвращаться к своему традиционному цвету. Напряжение, правда, еще не до конца его отпустило.
Вопрос оказался сложнее двух предыдущих. Слаженных историй не получалось. Зазвучали неуверенные реплики:
– Может быть – против колоний? Против империализма?
– Революционеры что ли?
– Да какие революционеры? Рано еще!
– А может шпион другой страны? Англии, там, или Америки.
– А если какой-то местный житель, который помогает нашим, а для своих – он предатель? Индеец.
– Иностранец!
– Научно-технический прогресс! Ученый!
– Масон? Авантюрист?
– Люди Наполеона! Наполеона! Чтоб нас ослабить.
– А декабристов туда ссылали?
– Ты еще Ленина приплети!
– Ну почему? Они же тогда уже были. Еще, как их – народновольцы…
– Это же Америка!
– О! Негр! Негр-р!
Возгласы все нарастали и вот уже опять слились в невнятный хор, от которого у Павла даже началось головокружение. Кое-что он еще выхватывал, но здравого смысла в этих предложениях для него оставалось все меньше. Маленький Совестливый Паша, между тем, ликовал, что затея провалилась. Аудитория устала, это было видно. Передержалась, замылилась. Нужно было прекращать, тем более, что время лекции, к счастью, уже закончилось.
– Молодцы, молодцы, – миролюбиво утихомирил раскричавшихся студентов Резумцев. – Время, к сожалению, уже заканчивается, так что давайте запишем задание. Чтоб не говорили в следующий раз, что ничего не задано.
Он хищно улыбнулся.
Нестройно расхлопнулись десятки тетрадей.
– Да, теперь можно записывать, даже нужно. Так. Дадим раздельное задание по сегодняшней теме. Филологам – анализ произведения с лишним героем. На выбор. Подробно, системно, доказательно. Прозаикам – небольшое эссе, страниц пять. По принципу сегодняшних выступлений. Берем героя, эпоху и описываем историю конфликта. Так же на выбор – кому что ближе. Можно из предложенных сегодня – свои версии, можно и любые другие ситуации. И общее задание, не письменное, просто тема к размышлению: всегда ли литературный герой – это альтер-эго автора?
Шариковый скрежет ручек затих.
– Ну что, друзья мои, на этом все. До встречи через неделю. Мыслите и, главное, ни в коем случае не будьте равнодушными! Счастливо!
Глава 4.
До встречи с Вероникой – мера, которой Павел теперь исчислял свой день – оставалось шесть часов и тринадцать минут, если, конечно, не врал постоянно перевернутый электронный циферблат. Вроде не врал. Он сверил его с часами в холле и, кроме того, для верности спросил еще у повстречавшейся хозяйственной работницы. Все показатели были до странного идентичны, а ведь обычно где-то обязательно да отличается. Впрочем, как уверил себя Резумцев, бывает всякое, и такая повсеместная пунктуальность ему показалась добрым знаком. Как будто все окружающие, весь мир сопереживает и поддерживает его, объединившись в трепетном ожидании семи часов вечера, когда должна воцариться абсолютная, космическая, гармония. А иначе и быть не может, если даже время – этот исконный и безжалостный противник рода человеческого – сейчас так с ним единодушно.
Ободренный этими соображениями и неплохо удавшейся лекцией, а также и своей находчивостью во время нее, Павел отправился пообедать в институтскую столовую, после чего намеревался съездить в «Наш город», где должен был получить новое задание и даже, если повезет, гонорар за свои предыдущие труды.
Миновав сложную систему лестниц и коридоров, Резумцев натужно скрипнул тяжелой железной дверью и оказался во внутреннем дворике. Хоть на улице и было пасмурно, после тусклого помещения дневной свет резанул по глазам. Павел поморщился от этого тонального перепада и от неприятной мелкой измороси, настойчиво летевшей в лицо. Постояв, привыкая, несколько секунд, он поднял воротник куртки и по диагонали двинулся через двор к корпусу, где располагалась трапезная.
Характерная, ни с чем не сравнимая смесь запахов хлорки и незатейливой массовой пищи ударила в нос. Густой, теплый воздух после промозглой улицы вызывал у всех входящих румянец, а у обладателей очков моментальное их запотевание. Время было обеденное, и обитатели института, вооружившись коричневыми пластмассовыми подносами и корявыми алюминиевыми приборами, выстроились вдоль раздаточного прилавка в длинную очередь.
Павел пристроился в хвост. Через некоторое время он уже был у стопки сырых сальных подносов и выбирал экземпляр с наименее оббитыми бортиками. Перебрав штук пять и уже успев вызвать недовольное цоканье и кряхтенье голодных очередников за своей спиной, Резумцев удовлетворился и шагнул к резервуару с вилками и ложками. Первая из выуженных им вилок имела липкую рукоятку, у второй между зубцами застрял окаменевший кусочек неясного происхождения. Обе были брезгливо низвергнуты обратно. Третья оказалась приемлемой, хотя и с немного погнутым крайним зубцом. Выбор ложки удался с первого раза. Тем временем справа появилась витрина с салатами, которые были представлены крабовым (соответствующие палочки с кукурузой), витаминным (огурец с помидором), свекольным (свекла) и крутым яйцом под майонезом с горошком и элегантной метелочкой укропа, – на бумажной табличке возле последнего блюда пересыхающим фиолетовым фломастером было выведено блюдом «салат «Юность». Павел взял свекольный.
– Первое вам? – тонким голосом произнесла толстая бабища в фартуке, ведающая супами. Фраза была доведена до полного автоматизма за годы ежедневных тренировок и каждый раз произносилась с абсолютно идентичной тональностью, громкостью и скоростью.
– А какие сегодня?
Раздатчица первого состроила гримасу безнадежного разочарования в человечестве в сочетании с утомленностью от окружающего идиотизма.