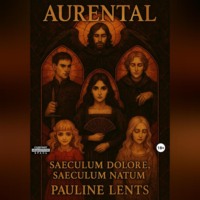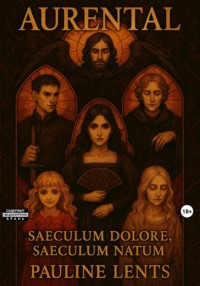Полная версия
Aurental. Volumen II: Saeculum virti et silentii
– Верни мне это, – шепнула она прямо в его ухо. – Это чувство насыщения. Когда формула горела в крови. Когда ты держал моё тело так, будто оно – последний сосуд. Когда каждый вдох рядом с тобой был как вспышка.
Готье не двигался. Только моргнул.
– Я пыталась, – продолжила она, – я создавала. Я крушила. Я вдыхала химикаты и варила грязь, чтобы догнать тебя. Но всё – мёртвое. Даже формула умирает, когда в ней нет тебя.
Она посмотрела ему в глаза.
– Потому что ты слишком особенный. Ты не повторяешься. Ты не объясняешься. Ты заражаешь.
Он стиснул челюсть, отступая снова. Вдох – хриплый.
– Прекрати… – прошептал он. – Я не…
– Ты не хочешь помнить? Или не хочешь начать снова? – перебила она. – Но ты уже начал. Просто шагнул не туда.
Она всё ещё гладила его шею – будто касалась не кожи, а старого пульса, закопанного под слоями лет.
– Скажи только одно, Готье. Скажи, что ты всё ещё хочешь чувствовать.
Он не отвечал. Только стоял – будто его сердце замуровали в стеклянный купол, и всё внутри билось без звука.
Паулин приблизилась вплотную. Лицо её было спокойным, почти нежным, но в этом спокойствии сквозила власть – такая, от которой не отводят глаз, даже если она разрушает.
Её губы скользнули к его уху. Голос – почти выдох, почти исповедь:
– Ты так нужен мне. Маленькая пауза.
– Я знаю, ты мечтал об этих словах.
Тишина между ними затрещала – слишком интимная, слишком честная.
– И они искренние, – добавила она, прижимаясь ближе. – Я не лгу. Не сейчас. Не тебе.
Она знала, что он слышит каждую вибрацию её дыхания. Что внутри него всё уже горит, но он всё ещё держит форму – как перегретое стекло перед трещиной.
Пальцы Паулин скользнули по его затылку, медленно, осторожно, почти ласково. Не с желанием, а с властью.
– Готье, – шепнула она, – ты всё ещё веришь, что сила – это быть одному? Он дрогнул. Она уловила это.
– Нет, – продолжила она. – Сила – это когда ты выбираешь, кого подпустить ближе. Я тебя уже выбрала. А ты?
Он не шелохнулся. Но что-то в нём треснуло – не сломалось, нет. Просто дало трещину, которую ни один научный язык не опишет, ни одна формула не удержит.
Паулин провела пальцами по его шее, наклоняясь чуть ближе, будто отмеряя дыханием ту же границу, что когда-то разделяла их.
– Это как тогда, – прошептала она, её голос был нежен, как яд, от которого не умирают сразу. – Когда он закрыл меня в той комнате. Помнишь?
Он сжал челюсть, но не отодвинулся.
– Мы оба стояли у порога, – продолжила она, – и никто не решился переступить. Ни я. Ни ты.
Она провела ладонью по его спине, не как женщина, а как та, кто знает, где у него болит.
– Но сейчас, – произнесла она тише, почти с благоговейной ясностью, – ты уже внутри.
Пауза была оглушающей. Он не двигался. Но воздух между ними был натянут, как нервы в канун казни.
– Я впустила тебя. – Последняя фраза прозвучала просто. Не как признание. Как приговор.
И в эту секунду, когда в комнате стало слишком тихо, он всё ещё стоял – великий алхимик, главный из аналитиков, мужчина, что выжил среди хаоса. Но перед ней он был просто Готье. Тот, кто однажды не сделал шаг – и теперь всё ещё стоял в том же месте. Только на этот раз дверь была открыта.
Он медленно поднял руку и, не отрывая от неё взгляда, осторожно взял её за лицо – ладони обхватили щёки, как будто он боялся, что она снова исчезнет, снова станет иллюзией. Его пальцы дрожали. Совсем немного, почти незаметно. Но дрожь была.
– Я тоже скучал, Паулин, – выдохнул он, глядя в глаза, в самую её глубину. – Каждый раз, когда думал, что ты умерла, я ненавидел всё, что жило во мне.
Она не двинулась. Даже дыхание её стало тише.
Но я не могу дать тебе это… – он чуть сжал её лицо в ладонях, подступив ближе, как будто хотел запомнить её черты, углы, тепло. – Не так легко.
Он наклонился, их лбы почти соприкоснулись.
– Ты вернулась не за этим. И я знаю – ты хочешь меня не только ради воспоминаний.
Паулин смотрела на него, и в этом взгляде не было лжи.
Только голод, древний, хищный, знакомый им обоим.
И тишина между ними стала темнее, чем ночь за окном.
Она чуть склонила голову, как будто дразнила, как будто пробовала на вкус каждое слово, прежде чем произнести:
– Что же ты хочешь, любимый? – прошептала она, так близко, что её дыхание скользнуло по его щеке. – Скажи. Я здесь. Я больше не призрак.
Готье вздрогнул.
Не от страха – от того, как звучало это слово в её устах. От того, как естественно оно вернулось между ними, словно не прошло ни лет, ни крови, ни предательств.
«Любимый».
Он опустил взгляд, как будто эти два слога ожгли его изнутри, как будто в них была правда, которой он боялся больше всего.
– Не говори так, – тихо выдохнул он. – Ты не имеешь права.
Но пальцы всё ещё были на её лице. И дрожали сильнее.
Он чуть склонился, голос стал ниже, почти шепотом:
– Договор, Паулин. На крови. Как с жрицей. Ты помнишь, как это работает. Один обмен. Одно обязательство. Я даю тебе то, чего ты просишь. Ты даёшь мне право на желание. Не сейчас. Не завтра. Но когда я решу. Ты его исполнишь. Без вопросов.
Она склонила голову, словно обдумывая.
– Без пошлятины, – сказала наконец. – Без твоих кривых намёков. Без грязи.
Он усмехнулся. Тонко, даже горько.
– Разумеется, – тихо ответил он. – С тобой… всегда только добровольнопринудительно. Всегда с уважением. Всегда с оглядкой на боль, которую мы оба заслужили.
И она рассмеялась. Впервые – открыто. Звонко. Почти по-доброму.
–
– Заключено, – кивнула. – Договор подписан. Ты получаешь право на желание. Я – доступ к формуле.
Она провела пальцем по его щеке – почти ласково, почти по-домашнему. – Уходи, Готье. И возвращайся с личинками. Мне нужно работать.
И, не давая ему задержаться ни на секунду, она поднялась, легко коснулась губами его щеки – мягко, почти как прощание – и резко отстранилась, повернувшись к окну. Так, будто он никогда не приходил.
А он… остался стоять.
С этой каплей тепла на щеке.
И с новой каплей ярости в груди.
ГЛАВА 10. Жар в сосуде
Помещение для работы выделили внизу, под техническим крылом. Там, где стены ещё пахли бетоном, где лампы мигали, как дыхание забытого механизма. Здесь даже камеры писали в полурежиме – Готье настоял, чтобы "не мешать фокусировке".
Паулин стояла у стола, склонившись над реагентами. Волосы собраны, лицо – маска. Но внутри… внутри всё кипело.
Контейнеры были закрыты, но она уже знала, что в них: остатки старого вещества, фрагменты его новых формул, которые он хранил как артефакты. Рядом лежала металлическая капсула с гравировкой – её символ, только искажённый. Он изменил её знамя. Он построил свою алхимию на руинах её дара.
Она сняла перчатки.
– Ты ведь останешься? – не обернулась. Голос – ровный, будто ветер в лаборатории.
Готье, сидящий у стены, только кивнул.
– Я не доверяю техникам, – отозвался он. – А ты не доверяешь себе.
Паулин усмехнулась, открывая первый контейнер.
Запах ударил сразу – как ржавый металл, смешанный с амброй и горечью. Он был слишком знаком. Он был Готье.
Она влила каплю в чистую колбу, потом – ещё одну. Прочертила ножом по стеклу символ, слегка колебнувшись. Он всё ещё горел в её памяти.
– Ты используешь мой метод, – заметил он с интересом. – Без катализатора.
– Катализатор – это ты, – ответила она. – Но мне надо научиться без тебя.
Он медленно встал, подошёл ближе. Смотрел, как она работает. Руки её дрожали чуть – не от страха, от жара. Внутри что-то шло по кругу. Пульс ускорялся. Ладони стали влажными. Уши заложило.
Ты чувствуешь? – спросил он мягко.
Она кивнула. Лоб покрылся испариной.
– Формула узнаёт меня. Но теперь она… сопротивляется. Как будто просит прежнего сосуда.
Он стоял рядом. Смотрел на её спину.
– Потому что тогда ты не была одна, – сказал он почти шёпотом. – Тогда ты была с нами. Со мной. С ним.
Её рука сорвалась. Стекло надломилось. Реакция остановилась.
– Мне нужен ты, – сказала она, не оборачиваясь. – Но не как зритель.
Он приблизился. Его дыхание стало частью воздуха.
– Тогда зови. Когда будешь готова. Я подойду к огню – даже если сгорю.
Она накрыла контейнер. Закрыла глаза.
Всё, что получилось – этого было мало. Но достаточно, чтобы пробудить старое пламя.
Температура в лаборатории не поднималась выше шестнадцати. Но на лбу Паулин блестели капли пота – не от жары, а от напряжения. Она выжидала. Колба медленно оседала, густеющий пар клубился вдоль стекла. Готье молчал. Он готовил шприц.
Она видела это движение сотни раз – точное, без пафоса. Всё, что касалось инъекций, в его руках было сродни искусству: плавно, холодно, будто не в кожу – а в саму сущность.
– Готова? – спросил он, подойдя ближе.
Она не ответила. Просто откинула волосы вбок и обнажила шею.
Готье подошёл сзади. Коснулся кожи. Игла вошла почти без боли – но её тело дёрнулось, будто внутри что-то откликнулось. Словно щёлкнул выключатель, и все чувства – вкус, слух, кожа – стали вдвое острее.
Густая формула впитывалась в кровь, как масло в ткань. Мягко, но неумолимо. Веки дрогнули. Грудь судорожно вздохнула. Пальцы сжались в ткань халата.
– Ну? – его голос был у уха, низкий, тягучий. – Каково это – когда ты снова работаешь со мной?
–
Она не ответила сразу. Стояла, медленно касаясь рукой стены – как будто пространство стало зыбким. Потом обернулась.
– А не с Люси? – тихо добавила она, уже смотря прямо в глаза. – Чувствуешь разницу?
Он моргнул. Лёгкая тень прошла по лицу, но он выдержал. Ответил не сразу. И это молчание – уже было признанием.
Люси… – выдохнул он, словно хотел взять себя в руки. – У неё другой метаболизм. Она послушна. Принимает всё, что я даю. Без сопротивления.
– Да. Она – сосуд. – Паулин усмехнулась. – А я – горнило.
Она подошла ближе, игнорируя правила, границы, статус. Снова прошлась пальцем по его груди.
– Как она? – спросила спокойно. – Люси. И как Мириэль? Всё ещё дрожит при виде пепельных теней?
Готье отвёл взгляд. Она не дала ему шанса.
– А мои дети? – прошептала. – Эстер? Элизиар? Ты ещё кормишь их ложью? Или они уже научились видеть сквозь неё?
Он напрягся. Но она продолжала:
– Потому что я чувствую. Они где-то рядом. Даже если не помнят. Даже если думают, что я – мертва.
Она улыбнулась. Почти нежно.
– Но я вернулась, Готье. И теперь это снова игра на выживание. Только я – помню всех. А они – не знают, кого ждут.
Он не двинулся, но пальцы на перчатке сжались – будто хотел вырвать из себя то, что начинало пробуждаться.
– Я… – голос предал его. Он выдохнул, как будто наконец сдался перед тем, что знал с самого начала. – Как же я скучал, Паулин.
Эти слова вырвались не как признание. Как исповедь. Он произнёс их с такой болью и тишиной, что даже воздух в комнате перестал двигаться.
Паулин вздрогнула.
– Ты… – начала она, но голос её сорвался. Она ожидала колкости, гнева, манипуляции. Но не этого. Никогда – не этого.
– Скучал по твоей жестокости, по твоей логике, по тому, как ты смотришь сквозь меня, – продолжал он. – По всему, что делало тебя… мной. Я думал, что убил это чувство. Но оно лежало под кожей всё это время.
Он провёл пальцами по её щеке, почти невесомо, как будто боялся разрушить иллюзию.
– Я скучал так сильно, что теперь не могу поверить, что ты стоишь передо мной. Что ты – это ты.
Паулин посмотрела на него, но что-то в ней дрогнуло. Она не знала, как реагировать. Она не верила. Не ему – себе. Не своему ответу – своей слабости.
И всё, что она смогла сказать, было:
Тогда держись за это. Потому что дальше – будет больнее.
Позже, в штабе, он стоял напротив Лирхта – спокоен, выровнен, как всегда, но с каким-то новым электричеством в голосе.
– Ты говорил, что она – нестабильный материал, – тихо начал Готье, глядя на панель с записями. – Но это не так.
Лирхт молчал, не вмешиваясь.
– Она… возвращается к себе. Не к Ориэлле, не к этой фарфоровой кукле, которую ты пытался встроить в свою систему, – продолжал Готье. – А к Паулин. И я чувствую это. Как по венам что-то движется. Как будто в ней снова пульсирует то, что не должно было выжить.
Он прошёлся по кабинету, не глядя в глаза собеседнику.
– Я не понимаю её. Я не могу просчитать, зачем она вернулась именно сейчас. Но я чувствую.
– Что именно ты чувствуешь? – спокойно спросил Лирхт.
Готье остановился. Долго смотрел в пол. Затем коротко:
– Жажду.
– Чью?
– Обоюдную.
Наступила тишина. В ней был огонь – не вспышка, а жара, от которой начинают плавиться старые убеждения.
– Если она сорвётся, – произнёс Лирхт, – ты не сможешь её остановить.
Готье впервые за долгое время улыбнулся. Горько. Почти с нежностью.
– Если она сорвётся, – тихо сказал он, – я пойду за ней.
Лирхт резко обернулся, его голос – не просто гнев, а выброс ярости, будто на мгновение исчез офицер и заговорил тот, кто слишком долго молчал:
– Ты что, вколол ей свою дрянь?
Готье не отреагировал сразу. Просто поднял на него глаза – спокойные, тяжёлые, с блеском, который давно был запретным.
– Да, – тихо произнёс он. – Вколол.
– ТЫ ВКОЛОЛ ЕЙ ФОРМУЛУ?! – Лирхт шагнул вперёд, кулаки сжаты, как будто хотел ударить. – После всего?! После Совета?! После того, ЧТО БЫЛО?!
– Да, – повторил Готье, уже не отворачиваясь. – И она… чувствовала.
Он подошёл ближе, но теперь уже его голос стал ниже – сталь под кожей.
И знаешь, что она сказала?
Лирхт молчал, только дышал тяжело, грудь ходила волной.
Готье наклонился чуть вперёд:
– Что я ей нужен. Что ты всю свою систему можешь выстроить на наблюдении, на угрозах, на изоляции, но она откроется только мне. Потому что во мне – пульс.
– Ты идиот, – прошипел Лирхт. – Ты думаешь, она играет в честную игру?
– Нет. – Готье усмехнулся. – Я знаю, что она играет. Но теперь она играет со мной.
Он развернулся и подошёл к двери, не оборачиваясь.
– И если ты попытаешься вмешаться… ты потеряешь не её.
– А кого? – холодно бросил Лирхт.
Готье замер у выхода.
– Себя.
И ушёл, оставив Лирхта в комнате, где воздух стал таким тяжёлым, что, казалось, стены вотвот начнут трескаться.
Лирхт влетел в помещение, дверь даже не хлопнула – она отскочила от стены, и только потом догнала себя с глухим ударом.
Он шёл быстро, как шторм. Как гнев, которому не нужен повод. Рука в перчатке схватила Паулин за горло, прижимая её к стене.
– Кто ты такая? – прошипел он в упор. – Что ты с ним сделала, а? Что ты с Готье сделала, тварь?
Паулин не моргнула. Не вздрогнула. Она смотрела снизу вверх, дыхание ровное, взгляд – как лезвие.
– Тихо ты.
(короткая пауза – и вполголоса, почти без эмоций)
– Этот болван совсем язык за зубами держать не умеет?
Лирхт отшатнулся, будто его ударили по лицу. Он замер, а потом резко отпустил её, но не отступил – просто стоял, стискивая кулаки.
– Ты играешь с огнём, – сказал он, и голос у него дрожал не от страха, а от того, что внутри него всё кипело. – Один раз ошибёшься – и я не остановлюсь.
Паулин, чуть потерев шею, хмыкнула.
– Ошибусь? – повторила она с усмешкой. – Ты опоздал лет на сто.
Она прошла мимо него, не глядя. Просто бросила через плечо:
Если тебя трясёт – значит, правда рядом. А это плохо. Особенно для тех, кто верит, что всё ещё держит поводок.
Лирхт остался стоять, как вкопанный. Её слова – «Тихо ты. Этот болван совсем язык за зубами держать не умеет?» – прозвучали слишком точно. Слишком интимно. Он уже хотел рвануть снова, вцепиться, вытащить из неё признание – но не смог.
Что-то внутри дрогнуло.
Голос сорвался. Он открыл рот, чтобы крикнуть, но не выдохнул ни звука. Гортань сжалась. Всё напряжение, вся ярость вдруг застряли где-то под кожей, где-то рядом с сердцем. Как будто она словом сжала его связки, не магией – воспоминанием.
Паулин смотрела на него спокойно. Как на кого-то, кто слишком долго держал себя за шкуру зверя – и вот теперь он дрогнул.
– Ну вот, – прошептала она. – Дыши. Я не кусаю. Пока.
Она шагнула вперёд. Медленно. Без страха. И с каждым её шагом облик Ориэллы начинал распадаться – не вспышкой, не трансформацией. Просто… осыпаться, как шелуха.
Цвет кожи потемнел. Волосы стали гуще, чернее, мягче – как у неё. Лицо вытянулось, взгляд стал тяжелее, глубже, старше. Ориэллы не осталось. Только Паулин. В чёрном, в том теле, в том голосе, в той тени, что заставляет дыхание замирать.
– Успокойся, сын дракона, – произнесла она, глядя ему прямо в глаза. Голос был чуть ниже, чем раньше. Сдержанный. Словно храм шептал.
(пауза)
– Я тебя тоже люблю.
Три секунды – и тишина звенит, как колокол после удара.
Он не двигается. Он не может.
Она подошла ещё ближе, почти вплотную, и шепнула:
– А теперь найди, кем ты был до того, как стал льдом.
Он не шелохнулся.
Её голос, как яд, прошёлся по горлу, но вместо боли оставил пепел. «Успокойся, сын дракона… Я тебя тоже люблю.»
Он смотрел на неё – и не мог моргнуть. Как будто его собственное имя, забытое и утонувшее, вернулось из глубины веков. Как будто вся броня, которую он выковывал годами – из стали, из долга, из холода – лопнула с одним её словом.
Он сделал шаг назад – не потому что испугался. Потому что дрогнул. Потому что сердце, которое давно не билось по-настоящему, врезалось в грудную клетку, как зверь.
Губы его разомкнулись, но голос всё ещё не шёл. Только тяжёлое, горячее дыхание, как у зверя, которого загнали в угол – и он не знает, хочет ли убежать… или сдаться.
– Ты… – прохрипел он наконец, почти беззвучно.
Но не закончил.
Он посмотрел в её лицо – не в облик, а в неё. И понял: это правда. Это не акт. Не прикрытие. Это она. Его Паулин. Вернувшаяся. Словами, взглядом, телом – до боли настоящая.
Он шагнул к ней – резко, как будто хотел снова схватить, ударить, что-то доказать. Но руки… дрожали. Пальцы не слушались. Он опустил их, будто признал поражение. Или победу. Трудно было различить.
– Ты… не имеешь… – выдавил он.
Она кивнула. Тихо. Почти ласково.
– Имею. Потому что ты дрожишь. Потому что ты знал. Потому что ты ждал.
Он стоял перед ней – командир, судья, палач. И в эту секунду – никто. Только мальчик, который однажды не смог удержать самое важное.
Он отвернулся.
Резко.
Как будто, если не уйдёт – всё рухнет.
Он не ушёл.
Остался стоять. Как камень. Как глыба ярости, которую сдерживает только дыхание. Глаза горели, пальцы сжимались в кулаки – и всё же он не двигался. Она стояла перед ним – тише, чем любой призрак, реальнее, чем сама смерть.
И вдруг – движение.
Она подошла. Не боясь. Без слов. Осторожно, почти как в те времена, когда ещё была теплота, была вера. Обняла его – медленно, как будто каждый миллиметр этого прикосновения отзывался где-то глубже, чем кожа.
Он не оттолкнул.
Только дыхание стало неровным. Только губы дрогнули.
– Смотри, – прошептала она у самого его уха. – Я всё ещё ношу кольцо, которое ты мне подарил.
Она подняла ладонь между ними. На пальце – то самое тонкое кольцо. Знак, который должен был исчезнуть. Но не исчез.
Он посмотрел.
И весь его гнев… застыл. Как лава, которую резко охладили. В груди всё сжалось – не от боли, от предательства надежды, которую он так долго хоронил.
– Я бы разорвал тебя, – хрипло выдохнул он, глядя на неё так, будто мог это сделать. – Вырвал бы из тебя то, как ты не умерла. И почему ты ушла. Я бы… хотел знать.
Он замолчал.
И добавил, опуская взгляд:
– Но я не хочу всего этого знать.
Пауза. Молчащая. Горящая.
– Потому что тогда мне придётся понять, – выдохнул он, – что я всё это время… ждал.
Она не двигалась. Только обняла крепче.
А потом прошептала:
– Значит, мы оба не простили.
Он не ответил. Но не отпустил.
Он шагнул ближе. Одна секунда – и всё: память, ненависть, голод, любовь, всё сошлось в одном движении. Он целовал её. Не страстно. Жадно. Глухо. Как кто-то, кто долго жил без дыхания. Шея. Скулы. Губы. Лоб. Её лоб. Он касался каждого миллиметра – не как любовник, а как преданный, утративший веру.
Он касался её, будто проверял: жива ли. Существовала ли всё это время – или только в его изломанной памяти.
– Ты… – выдохнул он, прижимаясь лбом к её виску. – Ты же была прахом. Я чувствовал, как ты рассыпалась у меня в руках. Я ждал, что останется только шрам. А ты…
Паулин подняла руки и мягко обвила его шею. Её пальцы скользнули по затылку – там, где у него всегда начиналось напряжение. Там, где он был настоящим.
– Я не исчезла, – прошептала она. – Просто больше не хотела принадлежать.
Он снова поцеловал – резко, глухо, почти грубо. Не требовательно, но словно в попытке заткнуть ей рот. Чтобы она не говорила больше. Чтобы не дразнила прошлым, в котором он проиграл.
Она не отстранялась. Наоборот – будто позволяла себе снова стать телом, а не оружием, кожей, а не тенью. Она стянула с него пальто, легко, без надрыва, и уронила его на пол. Его руки скользнули под ткань её формы, нащупали кожу – горячую, живую. Слишком живую.
– Ты дрожишь, – сказала она, прикасаясь к его груди.
Потому что не верю, – прошептал он, – что ты снова моя.
– Я не твоя, – усмехнулась она. – Я твоя катастрофа.
Они сплелись в медленном падении – не на кровать, не на пол. В себя. В свою трещину. В ту самую комнату, где однажды не перешли порог.
Теперь они переступили.
Он держал её за талию, будто боялся, что она исчезнет, если отпустит. Она гладила его плечи, как будто за каждую линию отвечала лично. Их движения были не торопливыми – будто вспоминали, будто всё ещё не были уверены, что имеют право.
– Скажи мне, – прошептал он, прижимаясь к её ключице, – ты всё ещё умеешь гореть?
– А ты всё ещё умеешь тушить? – ответила она, провела ладонью вниз, туда, где его дыхание оборвалось.
– Только если ты первая загоришься.
И она загорелась.
Без шума. Без крика. В полном молчании. Только дыхание, только кожа, только вечная тяжесть тел, которые знали друг друга слишком хорошо.
Они не занимались любовью.
Они восстанавливали союз. Переписывали формулу.
Он был точен. Она – требовательна.
Он стонал – тихо, как мужчина, который больше не может лгать телом.
Она шептала – коротко, как женщина, которая больше не молчит о боли.
В финале он рухнул на неё, почти без сил, с закрытыми глазами, как будто наконец обрёл место, где можно умереть и воскреснуть.
А она гладила его волосы и впервые за много лет прошептала без злости, без игры, без шипов:
– Добро пожаловать домой, любовь моя.
ГЛАВА 11. Пепел на ладони
Она проснулась не от движения – от того, что воздух сгустился.
Лёгкий жар по спине, пустота рядом. Готье ещё спал, но её уже не было. Она вышла – медленно, как выходят из хирургии, не из постели. На ней снова было чёрное. Закрытая шея.
Закрытая грудь. Открытые руки.
В коридоре – он.
Лирхт.
Он не постучал. Просто стоял, как неизбежность. – Пора, – сказал он.
– Куда?
– Туда, где тебя ждали слишком долго.
Они шли молча. Лестницы под ними стонали. Свет мигал, стены дышали. Что-то за гранью просыпалось.
– Ты хочешь показать меня им? – спросила она.
– Я хочу посмотреть, выживут ли они, когда увидят, кто ты.
Они подошли к двери. Лирхт не открыл её – просто посмотрел, и та сама дрогнула. Паулин вошла первой.
Воздух внутри хрустнул.
Двое стояли в круге. Эстер. Элизиар.
Они не смотрели. Они чувствовали.
Люси – в углу, белая как стена, руками сжимала подол, будто пыталась остаться.
Паулин сделала шаг. Второй. На третьем – температура упала. Из стены вышел он.
Мордрагон. Без предупреждения. Без звука. Без разрешения.
– Ну здравствуй, – сказал он, как будто встречал взрослую дочь на похоронах.
– Здравствуй, отец, – ответила она. Голос – чуть ниже, чем нужно, чуть опаснее, чем хотелось бы.
Он склонил голову.