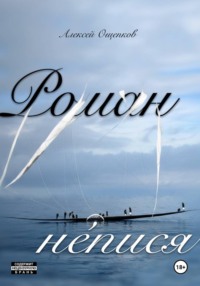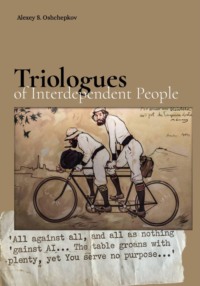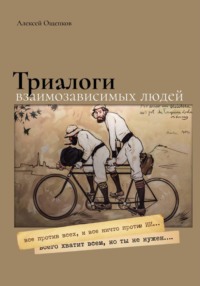Полная версия
Месть за то, что будет. Лог одного дознавателя
Доскочил. Но обратный путь по длинному мосту через бывший ров не преодолел. Десять! Я насчитал десять индивидов. Камни моста образуют монументальный прут. Шириной в типичное городское здание он выгнулся на сотни шагов, прижимая пустоты давно высохшего рва десятком мощных опор. Плюс ещё одну. На каждой из них – по паре монументов героев прошлого в четыре моих роста. Кто-то воздел десницу, у кого-то застывшим ветром распахнуло фалды гранитного плаща, чьи-то мечи обозначили полу-изготовкой острый угол с туловищем статуи. Двадцать два исполина сверлят меня в сорок четыре каменных глаза – как же я буду проживать следующие несколько минут?
В этой немой сцене вдвое больше зрителей, чем актёров. Неужели такой поздний час? Ни одного прохожего на всём сооружении? В центральной позиции – белобрысый верзила. У меня материала сейчас на сотню нитей, не меньше. И забвение от эликсира не фатальное. Отриторюсь. Но мой уникальный жизненный опыт таков, что я всегда знаю, когда меня хотят просто унизить, когда избить до полусмерти, а когда – убить. Десять – это про ‘убить’. Сто из ста, в категории намерения. Фактор оружия почти исключён; они явно из города вышли только что. Напрасно они это. Я субъект права. Придётся применять репрессалии.
– Ты гарцующего коня на колу прилепил для напоминания себе, чтобы утром с дурману ненароком не запрячь ишака? – харкаю я фразой, формально окрашенной инфиксом публичной издёвки. Не дожидаясь ответной реплики я выпаливаю: – Прошу разрешения на официальное раскаяние и аппологацию!
Вспотел я под шляпой в эти шесть ударов сердца, пока он решал. Он, однако, кивнул: ему что до аппологации убивать, что после. Разницы нет. Почему не принять. Не для извинений он сюда с толпой подельников явился. Я плотно закольцевал обе руки, подняв их на уровень плеч, в формальном «оноро», зафиксировав факт почитания, затем подошёл на положенную дистанцию и преклонил колено.
Три мига. Три мига продлилось замешательство девятерых, после того, как шило вспороло путь от подбородка в мозг и вырезало в голове белобрысого широкий внутренний конус с вершиной в коренном зубе. А мне нужно два мига. За два мига я ежедневно по несколько раз, пока Бозейдо нет дома, расстегиваю пряжку ремня, вынимаю его, хватаю с обеих сторон широким хватом, резко натягиваю и замыкаю выкручиванием замок, превращая ремень в составную саблю из брусков-мусатов, чья тыльная сторона, та самая, для которой не нашлось слова в языках Предков, остра как бритва.
Три минус две равно одна. Один миг – это минус семь го́леней. Или четыре злодея, которые не ходят. Ещё миг – это замешательство пятерых, ведущих подсчёт. И ещё пять ног. А сабля в умелых руках против двух бугаёв, пусть и с дубинками, пусть и восстановивших самообладание – это преимущество. Не люблю процесс добивания. Но куда деваться. Кошельки среза́ть тоже дело не из приятных, но сбор лута – неписаный закон. И золотое правило: главаря обшарить до ниточки, до шва. Оказались при нём документики, оказались. Сквозь меня проносится тонкое осознание преходящей природы всего сущего: грусть и одновременно красота момента, когда понимаешь, что всё временно.
⁂
Я двигаю к кромке леса. Прошлое для меня перевернулось с будущим. Как перспектива в рисовании: параллельные линии на бумаге кажутся сходящимися в удаленной точке схода. Все направления исходят из этой точки, далеко впереди меня. Я – наблюдатель. Если это – начало всего, то получается, что я, наблюдатель, нахожусь в будущем? Сейчас я сам становлюсь началом, от которого расходятся все линии. Я оказываюсь в точке отсчета времени, заглядывая, по желанию, то в прошлое, то в будущее. Я стою ногами на качающихся весах, огромных и ржавых. Никто их, кроме меня, не использует. Хотя я говорю, говорю – меня не слышат. Как только я позволяю себе почувствовать себя в прошлом, чтобы что-то толкало меня в спину вперёд, мой выбор сужается, и мне не остаётся ничего, кроме как прыгать в воронку сжимающих обстоятельств.
Я захожу в лес. Время растянулось вдесятеро. Вся воля мира, что шла на обслуживание тех, кто только что стал трупами, ушла ко мне. Обычно так не бывает. Стечение обстоятельств какое-то. Я слышал о таком. Не удивляюсь. Я знаю, что это временно. Я отдаю себе отчёт, что частично это галлюцинация, но мне негде искать опору, чтобы её избежать. Я бреду по большой дуге вокруг города, от первой башни к седьмой, по кочкам, среди деревьев, продираясь через кустарник. Пахнет ягодой. Хвоёй.
Моя вневременность достаточно зыбка, птицы меня замечают. Мне хочется совета. Я думаю, почему бы мне не спросить его у самого большого организма, у грибницы. Я начинаю искать самый красивый гриб. Долго ли, скоро ли, и я его нахожу. Он говорит, что его зовут Клготь. Я прилёг на мох. Прямо правым костяным ухом. Прекрасный гриб не дальше моего носа. Он предлагает мне ползти вокруг него прямо на щеке, отталкиваясь сапогами по кругу. Я соглашаюсь. Я упрекаю себя в присутствии Клогтя, что не чувствую вины и сокрушения, убив многих, что не знаю тугой печали.
– Ты помышляешь прочувствовать скорбь? – спрашивает меня громадный мицелий, протянувшийся в корнях леса от башни до башни, от берега до кручи.
– Помышляю.
– Предупреждаю, что дам тебе утрату во всей полноте, от бешенства до ностальгии, утрату по тем, кого будет тебе недоставать немыслимо более, чем сейчас. Я помещу тебя в то мироощущение себя и в то время, где это действительно будет существенно. Совсем не как сейчас. Совсем не как ты.
– Дай.
На каждом новом шажке спирали я вижу новые одеяния гриба. Вот он клюв ворона. А вот коготь кошки. А вот кольчуга на статуе древнего льва. Я вижу железное острие, оскаленные зубы гиены, расцарапанную кожу. На обратной стороне я вижу пролом-парац, трещины. Парац-пэрец. Я чувствую буйство, сцепление, затем что-то твёрдое, но разломанное, как мостовая во время ремонта. Клюй туда, клюй! Скорбь, рвущая нутро подлой страстью превратить все ощущения в жалость к себе. Разъярение от вопиющей несправедливости царапает мне лёгкие изнутри. Коли́ её!
Я пошарил в карманах, в поисках чего-нибудь режущего. Понял, что у меня нет карманов. Тогда я просто сжал гриб руками. Лес был до краёв наполнен вечером, и я стал бояться ночи. Зазвенели вдруг мириады насекомых. А, может быть, просто слух вернулся по мере нормализации течения времени. Лежа на земле, я ощутил холод правым боком. Я попытался встать, но упал на четвереньки. Так и пополз. Мох. Везде мох. Клготь попрощался и на миг явил свою суть: объект, заполненнее, полнее, чем всё, что бывает в наших измерениях. Он свёрнут сам в себя и вовне одновременно.
Я добежал, частью по лесу, частью вдоль стены, до своей башни. Стою внизу, вижу низкую дверь, плохо соображаю. Ткань стен, почвы, двери – едина. Она колеблется вместе с моим дыханием. Она пропитана смолой. Дверь не может открыться, не порвав всю ткань. Чтобы сместить дверь, нужно притянуть стены к себе. Я не тяну и не качаю. Я вращаюсь, как дервиш. Нет, я стою. Я кручу мир с Луной вокруг себя. Поворачиваю. Смоляная ткань не сминается там, где стоим мы. Я и я. На стене башни забугрилось. Низкая дверь выщёлкивает, как мышеловка, с неподходящим звуком, тихим треском. Я идёт внутрь и скрывается. Дверь закрывается. А я – равнодушен.
Я свищу. Через пару ударов сердца из гнезда вспархивает тяжелая птица и взлетает на несколько саженей, удерживая край веревочной лестницы. Когда когти расцепляются, и лестница расправляется под собственной тяжестью вниз, я взбираюсь по ней вверх к окну и самодовольно думаю: «сотрудничество предпочитаю долгосрочное и симбиотическое».
❡
Глава α4. Начало формального изыскания
Просыпаюсь в динамичном настроении. Лучшая оборона – нападение. Факт. Тётя Клаудо, как и ожидалось, проспала срок наложения штрафа, и счётчик в моём арсенале нитей перевалил за хилиаду небесных унций. Немыслимое прежде число. Денежный штраф она, конечно, вернувшись по своим пятам, наложила, пол-тэллера, но у меня оставался излишек со вчерашнего вечера: прерванная нападением вечеринка сэкономила мне средства. Деньги же из срезанных у горе-убийц кошелей, всего пятьдесят три тэллера и двадцать четыре гроша, я накануне спрятал в гнездо. Бозейдо уже ушёл. Тоже ожидаемо: вчера вечером, взобравшись на наш глубокий подоконник по лестнице, мне не пришлось дожидаться на нём, пока сосед отключится. Тот уже похрапывал в третьей фазе сна. Великий баланс: нельзя же не подкинуть индивиду хоть толику удачи после попытки убыть из миру посредством десятка дубинок с торчащими гвоздьми.
⁂
Достаю из сапога изъятые у белобрысого жлычя документы. Три инвентарные позиции. С первым просто – купчая на колу. Действительно арганорского производства, на индивидуальный заказ сделанная. Мысль, пока плохо оформленная: снова посетить Пансо Плата, вчерашнего трудника-тележника из монастыря. Дальше: карточка необычного содержания. «Взаимонаправленное сосредоточение предложений о покупке и продаже информации и активных действий, применимых в области сдерживания или провоцирования каменного кораблестроения. Адрес: весна 2037». Это я просто выучил, на всякий случай, а потом сжёг, от искушения подальше. Третья инкунабула – на языке Предков. С ней я, прихватив несколько монет, отправляюсь к товарищу на третий этаж, как был, босиком и в одной рубахе до колен. Гадешо открыл сразу:
– Прохватило вчера, я так понимаю? – не стал он меня распекать за то, что я негласно ретировался.
– Ага, – киваю. Рассчитываюсь за вечеринку, подтверждаю дату возврата займа. Прошу занести по пути в Академию два гроша моего долга таверне. У меня на сегодняшний день грандиозные, но не вполне определённые планы, так что в ‘Третью’ я, возможно, не попаду. На предоставленный взору Штиглица документ он, немного поизучав обе стороны довольно объемной бумаги, выдаёт:
– Это наша вчерашняя лекция о финансах. Соответственно, лектор – плагиатор. Это уже не важно: сорвана вся до-аттестация. Характерно, что переведено и использовано в выступлении лишь фрагментарно. Налей себе навара, он тёплый, я посмотрю пока.
Окно в комнате Гадешо выходит в город. Я наблюдаю за поведением тех, кто управляет подводами на перекрёстке. Я не слышу реплик, но всё читается по жестам. Все недовольны всеми. И никто этого не скрывает. Это было бы затруднительно – иногда репликами обменяться необходимо, а когда узлы диалогов схватываются, взаимно перетекает то, что каждый имеет сказать друг о друге. Во всей своей полноте. Получается, индивид всю жизнь платит за то, чтобы сократить пересечения с другими, а дистанцию вынужденного сближения при этом увеличить. Но без себе подобных сходит с ума. Кто за год, а кто к концу семерицы, особенно если приналечь на забвение. Нуждаясь в ком-то, этим же и тяготится. Отмечаю: интересная двойственность. Вопрос самому себе: а достаточно ли для уравновешивания этого псевдо-противоречия наших стандартных категорий в языке5? Интересно, может ли существовать слово, в терминах Предков, подходящее для этой двойственности?
Фиксирую: нет полного удовлетворения от применения стандартной категории6.
– Этот документ посвящён квантованию времени, – вытаскивает меня в реальность Штиглиц. – Авторы-предки описывают время как последовательность приставленных друг к другу, в одну прямую линию, кирпичиков, манипулируя при этом их длиной. Меры стоимости, деньги, использованы лишь как пример. Ирония в том, что основной посыл состоит как раз в проблеме корректного перехода из одной системы отсчёта времени в другую. Приведённая в иную систему отсчёта стоимость – один из объектов изучения. На этом ты его и подловил вчера.
– Значит ложь белобрысого имеет в своей основе его неверное толкование сути этого документа? Неправильно перевёл? – уточняю я.
– Перевёл правильно. Нельзя также сказать, что вырвано из контекста с ущербом для корректности вычислений. Возможно, весь, более широкий по сравнению с лекцией, документ также является мета-ложью. Я пока не успеваю сообразить, так ли это и, тем более, в чём первопричина обмана. Возможно, корень лжи – в пренебрежении нерушимости направления течения времени. Рассуждаю на ходу…
Дальнейшее я отложил в память поаккуратнее, протоколом.
[Штиглиц]: Мы определяем вектор самого Времени направлением эволюции, так как всё, вообще всё, построено на эволюции манипуляций и ‘жадности’, то есть встроенном желании всего, в том числе нас, сэкономить силы, энергию, волю мира. Это направление лежит в основе существования. Нельзя даже гипотетически, даже для обоснования умозрительных рассуждений, вставать задом наперёд, спиной к будущему. Время – это не точная тонкая стрела, не вектор. Это конус, пучок разлетающихся из кишки под высоким давлением песчинок.
– Если это конус, причём без конкретных краёв, – говорю я, – значит правдоподобие предсказаний в конструкции «сначала вот это, следовательно потом вот это» и так далее – принципиально недостижимо.
– Достижимо, я так понимаю. Оглядываясь назад, всегда можно сказать, что в событиях была неоспоримая логика. Однако, угадать именно ту последовательность, которая имеет максимальные… неверная формулировка… нужные шансы – нереально.
– А как же уведомление о туманах? – спрашиваю.
– Так ведь нет другой такой горы: сеттингу можно приписывать атрибуты искусственности. Вообще, нет смысла предсказывать, восклицая: «Смотрите, это основной сценарий. Это наша странная асимптота!». Надо подходить к вопросу по-другому: Что должно произойти, чтобы то, что я хочу увидеть в конце, действительно сбылось? Какие ключевые вехи должна пройти система, чтобы сохранить или приобрести целевые атрибуты?
– Разумно, – я благодарю товарища и бегу одеваться. У меня родился план. Лучшая оборона – это нападение.
⁂
Пансо не рад моему вторичному визиту и скрывать этого не стал. На этот раз я подготовился. В архиве мне удалось сопоставить несколько разрозненных фактов, так что вехи жизненного пути трудника я представлял. Свет жизни он увидел в знаковом году распада Империи. Был с матерью в эвакуации пару лет. Голодал, хотя мог бы жить дома, вместе с братом, в занятом офицером войск Волкариума тёткином доме. Недоедание, уже в мирное время, послужило толчком к женитьбе. К супруге своей он прибился на мясо. Буквально. Хронически голодал и увидел в ней избавление. Прямых воспитанников не было, из-за стерильности, но внучатого племянника воспитать успел. Много лет занимался трапперством, поставлял пушнину и камасьи для снегоступов в церковные мастерские. Когда стала ломить спина от походов в холодные края вниз по реке, пошёл в трудники. Супруга его к тому времени умерла, а племянник растворился где-то в Маристее. С братом не общается.
– Доброе утро, мастер… – тут он внимательнее смотрит на жетон, – магистр Жеушо.
‘Неплохое начало’, – отмечаю я про себя и стараюсь развить успех:
– Я по делу, дорогой Пансо, надолго тебя не отвлеку. Может, присядем, – увлекаю я его во внутренний двор и занимаю место так, чтобы устроившемуся напротив труднику солнце светило в спину. В важной процедуре нет второстепенных деталей, а я люблю свои процедуры.
Я кладу на стол монету в пять тэллеров, которую предварительно выбрал из самых неза́тертых, а после этого отполировал об войлок моего зимнего унта. По лицу Пансо я убеждаюсь, что ярко сверкнувшая в выгодном освещении монета произвела нужное мне впечатление. Он не умеет читать воздух, и это хорошо.
– Тут оплата тебе подоспела по договору долгосрочного обслуживания той чёрной арганорской колы, с оплатой в конце каждой селены, – говорю я, выкладывая на стол формальную бумагу и изъятую у белобрысого купчую. Почерк в договоре и в купчей совпадал – мастерство не потерять и в забытьи. Датировка: селену назад.
– А как же господин… – начал было Пансо, но я прерываю его.
– Умер, – говорю. – Веду вот изыскание, закрываю его долги.
Я нагло вру, но полученный вчера шквал сверкающего небесно-нитного материала позволяет мне перестраховаться за счёт непомерного перерасхода драгоценного сырья. Я продолжаю:
– Договор подпиши, будь любезен, а то в прошлый раз недоработали. И колу перегони на вашу скрытую стоянку, пока изыскание идёт. Вот поручение.
Он отвёл взгляд вправо-вниз и потрогал ладонью заднюю часть своей шеи, выражая спокойное попустительство.
Тут я высыпаю на стол ещё шесть монет по пол-тэллера, тоже заблаговременно прошедших предпродажную подготовку валенком: «И катки обратно переставь на изначальные, будь добр. Это уже по соглашению с моей канцелярией. Бумагу по факту выполнения работ принесу».
Пока трудник ошалело пересчитывает деньги, я театрально в полуобороте махнул ему шляпой «счастливо оставаться», сделал вид, что ухожу, не забрав подписанного им договора, но к тому моменту, когда Пансо ссыпал монеты себе в кошель, я оборачиваюсь:
– Да, кстати. Чуть не забыл. Жалобы тут поступали на тебя.
Я выкладываю две кляузы. Они написаны в том духе, что мол негоже держать на монастырском дворе какие-то бесовские штуки. Чёрные, непонятного назначения. Хуже того – треугольные. А всем известно, что глаз в треугольнике – символ нечестивого. Анонимные, конечно. А почерк – пансовских сослуживцев, имена которых я заприметил на нагрудных нашивках ещё вчера; благо в канцелярии, куда я уже успел утром метнуться, архив за много лет, с удобным классификатором, в том числе по именам.
Он поджал крайние фаланги пальцев правой руки в выражении раскаяния.
– Туда же их? – указу́ю перстом на жаровню, хоть она сейчас и без накалённых углей. Смотрю на него в упор. Кисть второй руки положил на договор. И указательным… по месту подписи легонько постукиваю.
⁂
Остаётся последний штрих. Я вкладываю в него всю душу. Пишу прошение вышестоящему начальству. Дескать, в некоторых языках Предков понятие «вынужденное усиление стараний при появлении нового человека в коллективе, чтобы не потерять статуса в глазах начальства» умещалось всего в шесть символов. Но и это много. А я, как новый в коллективе действительный аспират, сам готов свети его к нулю, взявшись за дело, первое своё дело, пахнущее откровенным «белым», то есть делом с пустой папкой. Прикладываю утреннюю сводку о десятерном убийстве за крепостной стеной. Тем более, что я по одной из жертв уже веду изыскание, хоть и незначительное. Даю копию задним числом сделанной записи в журнале и подкрепляю тончайшей паутиной намёко-лжи, позволяющей, при желании проверить моё утверждение, быстро натолкнуться на показания свидетелей, что да, дело какое-то брал, в мастерскую ходил. Шлифую всё это наново кроткой, благоверной эрудицией о “проверке свежеприобретённого меча в деле посредством убийства первого попавшегося на перекрестке человека”. Проставляю намерение в классе «деньги нужны, очень сильно». Для честности. Сдаю в процедурный кабинет. Всё. Теперь ждать.
Ждать приходится и Тимотеуса. Господа вчера вечером, видимо, долго моей отлучке не предавали значения, продолжая отмечать мой успех, за всех, включая отсутствующих виновников торжества. Пока Тимотеус продирает в своей келье глаза и приводит себя в порядок, я прохожу в библиотеку и первый раз в жизни прошу что-то из прямых переводов Предков, а также словарь ёмких слов, если таковые бывают. Библиотекарь, тоже в первый раз за все эти годы, удостаивает меня личного внимания:
– Вы же приятель Тимотеуса? – спрашивает, внимательно глядя карими глазами из-под серых бровей.
– Друг, – говорю, – лучший.
– Оу. Примечательно, молодой магистр, примечательно. Позвольте, я подберу Вам нечто особенное, по такому случаю.
Я вежливо киваю и усаживаюсь за стол возле окна с солнечной в данный час стороны. Через несколько минут старик приносит мне две брошюры и отмахивает правой ладонью благославляющее «бенедицо». Одна книжка обычная, а другая – древняя, без обложки, форзаца и авантитула, вся сплошь в лисьих пятнах. Я начинаю со второй, раскрыв её, аккуратно придерживая остатки отстава.
[Материал из библиотеки дома Ордена] «Хорошо изучено, что обман – это катализатор эволюционного усложнения. Речь есть именно такое усложнение, результат желания манипулировать. Общаются между собой многие животные. У грибниц есть системы связи. У некоторых растений. Уникальность человеческого языка состоит в наличии правил связи сигналов. Для охоты и собирательства, в целом для жизни человеческого племени, грамматика не нужна. Обезьяны тоже умеют вести совместную деятельность, но при этом они обходятся без структурного языка. Да и современные люди в сложных, «первобытных» ситуациях не прибегают к грамматике. На охоте – жесты. Повторить узел? Не надо слов, возьми пеньку и покажи. Итак, что же, сложность человеческого языка нужна лишь для аргументированных споров? Да. Можно сделать ещё более сильное утверждение: грамматика есть дитя конфликта. Хуже того: так как разум, возможно, тождественен грамматике (большие языковые модели вполне разумны), то сам разум, получается, есть порождение лукавого, результат какой-то важной мутации. Но какой?»
Мне с трудом даётся этот текст. За парой абзацев я просидел те минут пятнадцать, что Тимотеус собирался. Я хочу попросить брошюру с собой, но бывший послушник делает страшное лицо: не думай, де, даже. С благодарностью и обещанием продолжить чтение в следующий раз я возвращаю книжицу, забираю под роспись словарик, и мы выходим наружу.
⁂
– Отчего умерли Предки? – спрашиваю я Тимотеуса. Мы идём по направлению к таверне несколько минут. Я всё ещё под впечатлением текста.
– Дурацькими мнениями нужно интересоваться, чтобы знать, как там дела у дураков. Так-то… Церковь не считает, что Предки ушли. Мой Орден призван работать над установлением взаимовыгодного сотрудничества с ними, следуя букве установлений Сьвятых наших.
– Да понятно, – отмахиваюсь я, – но все же знают, что они вымерли. Так, от чего?
– Это ересь, и я в это не верю, ясно? – фиксирует моё согласие, а затем продолжает в том духе, что существует лишь версия: якобы, из-за глубокой связи между вычислениями и биологией Предки восприняли интеллект как «социальный фрактал», а не как единую монолитную сущность.
– Суть?
– Не постигаю, – признаёт Тимотеус. – И прельстительное неверие с гневом отвергаю.
Через несколько минут я стояло перед кассиром, протягивая ему полсотни два гроша. Предварительно, на пути сюда, я расторгнуло сделку с Тимотеусом о разделении функций и ответственности при полу-воровстве, мотивировав фразой «действительному аспиранту – изжило». Соглашаетсо безо всякого переживания, подтвердив мою готовность дать ему в долг при надобности.
– Ещё за вчера с меня два гроша, – напоминаю я кассиру.
– Отдали уже, – кивает доброй лыбой.
Я спрашиваю, чтобы не обидеть – с иронияком:
– Это не Ваш почин был цену поднять?
– Какой! – нисколько не обидевшись, отмахивается он. – Куратор из муниципалитета настойчиво рекомендовал. Сказал, что денег у народа будет больше этим летом, имеет смысл повысить маржу.
Я жду, пока Тимотеус тоже заплатит и заберёт свои блюда. Мы наверху. Штиглиц тут. Мы двигаем свои тарелки, как шашки, и рассаживаемся с комфортом.
Едим. Говорим о планах на лето. Я просматриваю словарик. Книга оказалась огромной подборкой групп моно-осно́вных слов. У Предков потрясающей глубины история, в дебрях которой слова бродили и видоизменялись мириады лет, обрастая смыслами, теряя смыслы. Словарик выплетает канатные дорожки, протянутые между стволами деревьев-великанов. Умелый балансёр может по этим нитям бегать, превращаясь постепенно в бога колгунов. В их мире, конечно. Не у нас. У нас нити рвут, а там – хотят их крепости.
Тимотеус, оказывается, уже подписал каникулярные; теперь ветер на всё лето. Я говорю, что буду отрабатывать долги, но на каждые выходные можно на меня рассчитывать.
– Про каменное судостроение слышамши? – вкидываю я в расчёте на слухи из внутренней среды Ордена.
– В бульварных листках столицы Волкариума время от времени упоминается такая конспирологическая теория, – подхватывает Штиглиц. – Но это хвост собаки Алкивиада. Каменные баржи якобы должны стать ледоколами на пути через океан. Но барж таких точно нет. Иначе просочились бы какие-то достоверные свидетельства. Выдумки. Впрочем, официальных данных нет и о землях за океаном. Хотя тут скорее да, чем нет. Слухов о корсаирах великое множество плодится, уже много лет.
– Ты про тех, у кого свой град на острове Луна? – уточняет Тим.
– Точнее сказать, про тех, кто принадлежит династиям, посвятивших себя экспедиционной деятельности. Лишь в последние пару поколений стало нормой, что экспедиции вооружены. Тому должны быть причины. А остров, а вместе с ним и город, если он там был, уже нерелевантен: покрыт льдами, координаты неизвестны.
У Тимотеуса мнения на сей счёт нет, и мы переключаемся на обсуждение роста цен. С каждым днём явление приобретает признаки повсеместного. По поводу участия муниципалитета, в котором сознался кассир, Гадешо говорит: