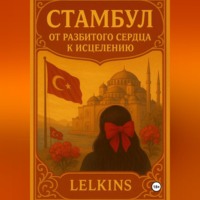Полная версия
Сердце в заливе бабочек
Он провёл её к машине. Музыка играла едва слышно. В багажнике – бутылка воды и второй букет: этот уже из лаванды.
– На случай, если первый покажется слишком простым, – сказал он.
– А если покажется слишком красивым?
– Тогда я проиграл, – усмехнулся Каан. – Но с удовольствием.
Они поехали.
За окном – пальмы, мандариновые деревья, горы, облака.
А внутри – будто всё встало на место.
Они ехали медленно. Словно никто и не хотел торопиться. Машина мягко катилась по серой дороге, а солнце начинало клониться к горизонту, окрашивая всё в персиковые, медные, прозрачные цвета. Ева прижалась к окну и молчала.
За стеклом проносились отрывки новой реальности: лавочки у обочин, где сидели старики в кепках и пили чай; вывески на турецком, в которых мелькали знакомые слова; лимонные деревья, вытянувшиеся к небу, как тонкие руки.
Каан молчал тоже, но это было не неловкое молчание. Это было молчание присутствия.
Иногда он бросал на неё взгляд. Не проверяющий, не смущённый. А как будто он просто убеждался: она есть. Рядом. Правда.
Музыка тихо лилась из колонок. Что-то инструментальное, почти прозрачное.
– Всё ещё кажется сном? – спросил он.
– Уже меньше, – прошептала она, не отводя взгляда от окна. – Но, если честно… не до конца. Как будто внутри меня спит девочка, и она сейчас боится проснуться.
– Пусть спит, – сказал он. – Мы будем аккуратны.
Через полчаса они остановились на прибрежной дороге. Ни туристов, ни шума. Только волны. Они катились к берегу с мягким ритмом, словно дышали. Камни блестели от влаги. Где-то неподалёку цвёл жасмин – и воздух был полон его терпкой сладости.
– Мы почти дома, – сказал Каан.
– Где «почти»?
– Сюда приводят тех, кто важен. Я не зову сюда всех.
– Я не «все», – тихо сказала Ева.
– Ты – нет.
Он открыл дверь. Она вышла и вдохнула – глубоко, впервые по-настоящему.
Тишина.
Но не глухая. А живая.
Море говорило, но не шумом.
Как дедушкины сказки в детстве.
Как турецкие слова, которые раньше казались чужими.
Теперь – будто внутри.
Она присела на камень у воды. Сняла сандалии. Провела пальцами по мокрому песку. Смотрела, как горизонт медленно теряется в золоте. И вдруг, словно не думая, сказала:
– Когда я была маленькая, дедушка говорил: «Море никогда не говорит громко. Оно просто ждёт, чтобы ты услышал».
Каан сел рядом.
– И ты услышала?
Она повернулась к нему.
– Я думаю, я приехала именно за этим.
Солнце садилось.
Каан снял рубашку, остался в белой футболке.
Ветер трепал её волосы, и она даже не думала их поправлять.
Он подал ей пластиковый стакан.
Внутри – чай с мятой.
Тёплый, терпкий. Как из детства. Как из сна.
– Добро пожаловать, Ева, – сказал он.
– Знаешь… мне не хочется уезжать, – сказала она. – Хотя я только приехала.
– Это правильно. Здесь не считают дни. Здесь считают дыхания.
Она смотрела на него. В его глазах плескалось море.
А внутри – впервые за долгое время – было спокойно.
Дом Каана не был просто домом. Это была вилла – но не вычурная, не показная. Она была будто частью ландшафта, сливавшаяся с рельефом, с солнцем, с ветром. Каменные стены, залитые медовым светом, широкие окна в пол, открытые настежь, так что с террасы в комнату тянуло запахами: солью, цветами, древесным дымом и мятой.
– Ты живёшь в журнале, – тихо сказала Ева, когда он открыл перед ней дверь.
Каан усмехнулся:
– Или просто привык видеть мир красиво. Хочешь, покажу тебе его?
Она кивнула.
Они прошли вглубь. Внутри всё было светлым: выбеленные деревянные балки под потолком, плетёные кресла с подушками, глиняные светильники, абажуры из ткани, словно выцветшие от солнца. Всё дышало теплом и… историей. Но не музеем. Живым домом, в котором слышен смех и утренние шаги босиком.
В гостиной у стены стояла полка, на которой были книги – на турецком, английском, даже несколько русских – и виниловые пластинки.
– Моя мама собирала их. А я теперь не могу выбросить ни одну, – сказал он, проводя рукой по корешкам.
– Никогда не выбрасывай. Это как выбросить чьё-то дыхание.
Она сняла рюкзак, осторожно поставила у дивана.
– Тебе удобно? —
– Как будто я вернулась туда, где ещё никогда не была, – ответила Ева.
Каан достал из кухни два бокала.
– Белое или гранатовое?
– Ты и правда владелец кафе, да? – усмехнулась она.
– Удивительно, но да. Хотя бабушка до сих пор говорит, что я должен был стать учителем.
Они выпили по бокалу турецкого вина. Лёгкое, фруктовое, с горчинкой. На террасе уже зажглись фонари – маленькие, как звёзды.
– У тебя красиво.
– У тебя глаза такие, будто ты уже всё это рисовала, только не знала, где это находится.
Она засмеялась. И в её смехе не было усталости дороги – только лёгкость. Каан включил музыку – старую анатолийскую балладу, медленную, нежную. Ева прошла вглубь комнаты, открыла дверь на вторую террасу, и увидела море – совсем близко.
– Ты просыпаешься с этим видом?
– Не всегда. Иногда я просыпаюсь со светом в лице. А иногда – с тоской. Тогда я иду к воде. Понимаешь?
– Понимаю.
Она провела рукой по деревянной перилам.
– Я боялась, что всё будет не так. Что ты будешь не таким. А ты…
Он подошёл ближе. Не касаясь. Просто встал рядом.
– А я?
– А ты – как в том сне. Только чётче.
Позже, уже ночью, он отвёл её в комнату для гостей. Светлая, простая. Белое постельное бельё, плетёный ковёр, раскрытые ставни.
– Здесь тихо.
– Если будет слишком тихо – зови. Я рядом.
Она села на край кровати, проводя ладонью по одеялу.
– Спасибо, что встретил.
– Спасибо, что приехала.
И когда дверь за ним мягко закрылась, она долго ещё сидела, обняв колени. Слышала, как где-то в доме скрипит дерево, как по террасе пробегает ветер, как за стеной живёт другая жизнь. И не хотелось ни засыпать, ни просыпаться.
Только быть.
Ночь в ФетхиеЛуна поднималась над морем – белая, как фарфор. Волны тихо перекатывались где-то внизу, словно мир дышал – медленно, спокойно. Ева лежала на спине, глаза раскрыты, взгляд упирался в потолок, где перекрещивались деревянные балки. В комнате пахло лавандой, и ещё чем-то едва уловимым – как будто временем.
Она снова слышала его голос – уже без экрана. И это было странно. Не только потому, что голос был рядом, а потому что он звучал как дома. Ни один из его слов не тревожил. Даже паузы между ними казались нужными. Раньше она часто чувствовала, что нужно что-то говорить, чтобы не зависла тишина. А с ним… можно было просто быть.
Она поднялась, прошла босиком к окну.
Ночь была прозрачной. Ни капли жары, только лёгкая прохлада, которую нес ветер с холмов. Внизу поблёскивали крыши, чёрное море казалось густым, как тушь. Звёзды висели низко, почти касаясь горизонта.
Ева достала скетчбук, который везла с собой – тот самый. Присела у окна, раскрыла страницу. Рисовать не хотелось – хотелось только провести пальцами по линиям старых рисунков, как по шрамам, и убедиться: всё это действительно было. Он был. Это место – было.
Она уснула так – в кресле, с блокнотом на коленях.
УтроПервые лучи солнца просачивались сквозь щели в ставнях, как тёплые полоски на белом полу. Воздух был другой – свежий, с ароматом моря и хлеба. За окном послышался лёгкий звон – кто-то поставил чашки на стол. Потом шаги. Смех.
Ева открыла глаза и медленно потянулась. Она всё ещё сидела в кресле, скетчбук соскользнул на пол. Несколько зарисовок высыпались – лодка, женщина с чашкой чая, берег, нарисованный из памяти.
Она подняла их, сложила аккуратно, и подошла к окну. Открыла ставни.
И её охватило чувство невероятной новизны – будто всё внутри было вымыто дождём. Птицы перекликались на крышах. Внизу, на террасе, Каан накрывал на стол. У него на плече висело кухонное полотенце, волосы были чуть растрёпаны, как у человека, который проснулся давно, но ещё не отдался дневной суете.
Он поднял глаза и увидел её в окне.
Улыбнулся.
– Доброе утро, художник.
– Доброе утро, – ответила она, и голос её был сиплым, но светлым.
– Голодная? У нас завтрак с видом на Эгейское море. Только тосты слегка драматичные – подгорели с одной стороны.
Ева рассмеялась.
– Звучит честно.
Она накинула рубашку поверх тонкой пижамы и спустилась босиком. Тепло каменных ступеней, пение цикад, запах кофе и мёда – всё обрушилось на неё сразу, как будто день давно ждал её.
И когда она села напротив Каана, взяв чашку кофе, и солнце коснулось её щёки, она поняла: это утро – уже не в гостях. Оно – её.
Глава 12. Море и гранаты
Утро растворилось в полдень почти незаметно. Тень за спиной Каана стала короче, а солнце – настойчивее. Они шли по узкой дороге вдоль берега: справа – море, слева – ряды домов, выкрашенных в светлый песочный, с яркими ставнями. Воздух был густым от аромата сосен, пекарни и чего-то ещё… немного терпкого, будто гранатового.
Ева шла медленно. Всё хотелось трогать глазами – вывески на турецком, будто написанные каллиграфом, яркие пледы на перилах, шум пальм, шелестящих над их головами, как крылья.
Каан чуть замедлился и посмотрел на неё:
– У тебя на лице то же выражение, что у туристов, впервые увидевших мечеть на закате.
– Это комплимент?
– Это метафора.
– Тогда я впечатлена.
Они смеялись легко – как будто так разговаривали всегда. Но Ева чувствовала: у неё внутри что-то странное. Тепло, которое не пугало. Не «бабочки», а скорее спокойствие, как у воды в бухте – глубокое, надёжное.
Они дошли до небольшой лавки у дороги, где женщина в платке продавала свежевыжатые соки. Гранатовый стоил всего пару лир. Каан протянул купюру, и через минуту Ева держала в руках пластиковый стакан, холодный, как лёд.
– Попробуй. Только осторожно. Этот вкус не про сладость. Он про правду.
– Ты как будто рекламу пишешь.
– Нет, я просто вырос на этом. На гранатах и чабрецовом чае.
Она сделала глоток.
Сок был терпким, почти колющим, с послевкусием, которое долго не отпускало. Её лицо чуть сморщилось, но она тут же рассмеялась:
– Это как поцелуй, который оставляет след.
– О! Ты начинаешь говорить, как художник влюблённый.
– Может быть, я и есть художник, влюблённый… в Турцию.
Каан поднял бровь:
– Хорошо спасла концовку. Убедительно.
Они спустились к воде.
Берег был почти пустой. Пара лодок покачивалась вдалеке, волны мягко шлёпали по камням. Море простиралось до самого горизонта – синее, живое, как ткань, которую ветер гладит ладонью.
– Можно? – спросила Ева, уже разуваясь.
Каан кивнул:
– Обязательно.
Она ступила на мокрые камешки осторожно – сначала пальцами, потом всей ступнёй. Вода была прохладной, но не ледяной – обволакивающей. Почти сразу она вошла чуть дальше, по щиколотку. Стояла, смотрела вниз: на то, как волны касаются кожи, как морская пена оставляет солёный след.
– Всё кажется настоящим только, когда ты касаешься его, – сказала она тихо.
– А ты боялась, что это – сон?
– Иногда всё слишком красиво. Хочется ущипнуть себя. Или просто побыть в тишине, чтобы поверить.
Каан не ответил. Он просто рядом встал босиком, подошёл к кромке воды и сел на камень. Взял горсть морской гальки, медленно перетирал её между ладонями.
– Вода здесь всегда помнит, кто в неё заходил. Даже через годы. Ты уже часть её.
Ева села рядом. Пальцы её были влажными, гранатовый сок всё ещё отдавался на языке. Море шумело, и ветер играл с прядью её волос.
Она посмотрела на него – спокойно, внимательно.
Каан улыбнулся, как человек, который рад быть увиденным.
– Как ты скажешь по-турецки: «Я это запомню навсегда»?
Он медленно произнёс:
– Bunu hep hatırlayacağım.
Она повторила.
И сказала себе:
Я запомню это навсегда.
Они возвращались медленно, как будто не хотели оставлять берег. Солнце уже скатывалось к горизонту, и улицы окрашивались в медные, розовые, золотые оттенки. Всё вокруг будто приглушалось – голоса, звуки моторов, лай собак – и только тени удлинялись, обнимая дома, людей, деревья.
Каан нёс бумажный пакет с фруктами – черешней, инжиром, лавандой, которую купили у женщины у дороги. Ева шла босиком, перекинув сандалии через плечо. Она больше не боялась быть легкомысленной – здесь всё казалось разрешённым, как в детстве.
Когда они вернулись, солнце уже почти спряталось за холмами.
На веранде было тихо. Стол из тёплого дерева, плетёные кресла с мягкими подушками, стеклянный графин с водой и дольками лимона. Над столом висела лампа из цветного стекла – в ней уже теплился огонёк, как будто он дышал.
– Остаться здесь навсегда – звучит как план, – сказала Ева, откидываясь в кресле.
– Остаться – не всегда про географию, – отозвался Каан, включая чайник. – Иногда это просто про кого-то.
Она чуть улыбнулась, не отрывая взгляда от неба. Оно было густо-лиловым, как будто кто-то медленно выливал чернила в воду. Сосны шелестели. Вдалеке звенела ложка о стекло – кто-то ужинал за соседним домом.
Когда они разложили фрукты на деревянной тарелке, Ева достала скетчбук.
– Я давно не рисовала с кем-то рядом.
– Я давно не смотрел, как кто-то рисует вживую. Это как быть свидетелем заклинания.
Она смеялась тихо, почти смущённо.
– Только без давления, ладно?
Она вытащила карандаш, обмакнула кисточку в воду. Несколько быстрых линий – кресло, стол, лампа, силуэт мужчины в полупрофиль, тень от бокала, виноград. Она не стремилась к точности – она искала ритм. Настроение. Их вечер.
Каан молчал. Он ел черешню и иногда поднимал взгляд – то на неё, то на бумагу. И будто ничего не нужно было больше.
Через сорок минут она отложила кисть.
– Готово?
– Нет, – ответила она, – но момент уже случился.
Она показала ему страницу. На ней было всё, кроме лиц – только свет, форма, жест.
Он провёл пальцем по краю бумаги.
– Это как смотреть в зеркало, только чище.
Потом добавил:
– Могу я забрать это, когда ты закончишь?
– Нет.
– Жадная.
– Просто хочу помнить, что это было со мной. Не в кадре, не на экране. Со мной.
Вечер загустел. Свет в лампе стал теплее. Где-то вдалеке заиграла музыка – тихо, едва различимо. Что-то восточное, с аккордами, которые будто звали в прошлое.
Они сидели на веранде, каждый со своей тишиной. Но между ними – ни капли неловкости.
– Как по-турецки будет «спасибо за сегодня»?
Каан сказал мягко:
– Bugün için teşekkür ederim.
Она повторила.
Он закрыл глаза.
– Так хорошо звучит из твоих уст. Прямо как обещание.
Она ничего не ответила. Просто накрыла его руку своей.
Глава 13. Дом Каана
День клонился к вечеру, когда машина свернула с трассы и поехала вдоль оливковых рощ. Воздух был сухой и пыльный, но с запахом моря – чуть терпкий, чуть солоноватый. Ева смотрела в окно, не веря, что это происходит наяву.
– Почти приехали, – сказал Каан, слегка замедлив ход.
Она кивнула. В груди будто жили птицы – тревожно и трепетно. Она не боялась, но чувствовала, что вступает в новую зону – не туристическую, не романтическую, а личную, как дневник без замка.
Дом появился за поворотом. Двухэтажный, с терракотовой крышей, увитый виноградной лозой и глицинией. Окна распахнуты, ставни выкрашены в светло-голубой. Солнечный свет делал всё нереально тёплым.
Каан заглушил мотор, бросил взгляд на Еву:
– Готова?
– А есть выбор? – она усмехнулась, но по-детски нервно.
– Уже нет. Пошли.
Они прошли по каменной дорожке, ведущей к входу. На крыльце стояла женщина – Нурие, мать Каана. Она была невысокой, в свободной домашней тунике, с лёгким платком, завязанным на затылке. В руках держала полотенце и что-то чистила – персик, судя по всему.
Она заметила их, сразу отложила всё в сторону и подошла ближе. Глаза её – тёплые, глубокие, с той усталой добротой, которую не сыграть.
– Hoş geldin, – сказала она негромко, и в этих двух словах было всё: гостеприимство, осторожность, принятие.
– Мама, это Ева, – сказал Каан.
Ева шагнула вперёд.
– Очень приятно, – по-турецки произнесла она, немного запинаясь:
– Memnun oldum.
Нурие удивлённо подняла брови – и улыбнулась.
– Ты говоришь на турецком? Уже?
– Немного.
– Уже достаточно. Пойдём в тень, тут жарко, как в духовке.
Дверь дома открылась снова. Изнутри вышел Омер – отец. Высокий, сдержанный, с суровым лицом и густыми бровями. Он был в жилете поверх светлой рубашки, пах немного мылом и пыльцой.
Он подошёл, не торопясь. Сказал коротко:
– Hoş geldiniz.
Каан перевёл:
– Папа говорит – добро пожаловать.
Омер протянул руку. Его ладонь была шершавой, крепкой, но рукопожатие коротким, словно строго дозированным.
Нурие тут же мягко отвела их к столу на террасе:
– Я приготовила чай и бёрек с сыром. Вы голодны?
– Всегда, когда я рядом с тобой, – усмехнулся Каан. – Ева, ты должна попробовать мамины бёреки. Это национальное достояние.
– Национальное? – вдруг раздался юный голос откуда-то сверху.
– Ну ты и преувеличиваешь.
На балконе появилась Зейнеп. Девушка лет семнадцати, в шортах и широкой футболке с надписью «Whatever», волосы собраны в небрежный пучок. Глаза как у Каана – тёмные, живые, проницательные.
– Ты Ева? – спросила она, наклоняясь через перила.
– Какая ты… Не как на фото. Живее что ли.
– А ты как в TikTok? – парировала Ева.
Зейнеп прыснула от смеха.
– Ладно, ты мне уже нравишься.
Она спустилась с лестницы и, не дожидаясь представления, подбежала, обняла Еву мимолётно, но крепко.
– Я – младшая. Меня не слушай, но слушай.
– Логично, – улыбнулась Ева.
Каан махнул рукой:
– Она подросток. У неё фаза сарказма.
– Лучше, чем твоя фаза «я всё знаю». – Зейнеп кивнула на брата. – Он, кстати, сидел у окна всю неделю как кот, ждал твоего сообщения.
– Зейнеп! – резко бросил Каан, но не по-настоящему сердито.
Нурие прикрыла рот рукой, скрывая улыбку.
– Ладно, хватит болтать. Садитесь, чай стынет.
Они сели на веранде. На столе – чай в тюльпановидных стаканах, тарелка с домашними печеньями, бёрек, немного оливок и мёд в стеклянной банке. Ветер играл шторами, воздух был наполнен цветочным ароматом.
Никто не спешил. Ева почти не говорила – не от неловкости, а от желания впитывать всё: ритм этой семьи, мягкие интонации, движения рук, полуулыбки.
Омер почти не смотрел на неё, но слушал. Зейнеп то болтала, то исчезала, то снова появлялась с какими-то вопросами:
– А ты всегда рисуешь в скетчбуке?
– А ты ела когда-нибудь козий сыр?
– А у вас правда свет в шесть вечера уже выключается зимой?
Каан смеялся.
– У неё тысяча вопросов в минуту. И половина – риторические.
Вечер стемнел. На балконе загорелись фонари. Где-то в саду зазвенели колокольчики.
Нурие провела Еву наверх, в комнату для гостей – простую, с белыми стенами, деревянной мебелью и видом на апельсиновое дерево.
– Спокойной ночи, – сказала она. – Если вдруг не уснёшь – открывай окно. Воздух здесь помогает дышать.
Когда дверь закрылась, Ева подошла к окну. Снаружи звучали тихие разговоры, где-то щёлкал сверчок, вдалеке плыли огни побережья.
Она легла в кровать, не веря, что это всё – не сон. Что кто-то рядом. Что дом, в котором её не знали, теперь пахнет её чайной чашкой.
И в этом было что-то новое.
И настоящее.
Фетхие просыпалось медленно.
Свет просачивался в комнату сквозь резные ставни: тёплый, пыльный, золотистый – как мёд на солнце. Он скользил по полу, перебегал на простыни, на раскрытую книгу на прикроватной тумбочке, на волосы Евы, растрепавшиеся после сна.
Проснувшись, она долго не двигалась – слушала. Снаружи было не по-московски тихо. Где-то вдали – шелест листьев, ритмичные звуки метлы, лай собаки, плеск воды, и чуть слышное «цок-цок» старого металлического чайника. Сад дышал, как живое существо.
Она надела рубашку поверх лёгкой майки, босиком вышла из комнаты, осторожно ступая по прохладной плитке. Дом всё ещё дремал, будто приглядывался к ней. В саду уже светило солнце, но не яростно – оно пока касалось поверхности мягко, как заботливая ладонь. Воздух пах мятой, сухими травами, чем-то лимонным и немного древесным.
На лавочке у виноградной арки сидела Зейнеп, с кружкой в руках и телефоном. Увидев Еву, она приподняла бровь и сделала приглашающий жест:
– Ну наконец-то. Я уже думала, ты спишь до обеда.
Ева улыбнулась, подошла и села рядом.
– Мне снилось море. Оно разговаривало со мной.
– Ты уверена, что это не мама варила кофе под твоим окном?
Зейнеп протянула ей вторую кружку.
– Ты теперь одна из нас. Без утреннего кофе тут не выживешь.
Ева взяла чашку. Горячий, пряный запах окутал пальцы и лицо. Кофе был крепкий, насыщенный, с едва заметной кислинкой. Не как дома – совсем не как дома. Но удивительно правильный для этого утра.
– Спасибо, – сказала Ева. – Как красиво у вас. Сад будто живёт сам по себе.
– Он и правда живёт, – кивнула Зейнеп. – Папа говорит, что деревья тут запоминают людей. И знают, кто добрый, а кто просто поливает, чтобы галочку поставить.
– А я? – Ева посмотрела на неё через край кружки. – Какой у меня балл у деревьев?
Зейнеп фыркнула.
– Ну… Пока что нейтральный. Но если поможешь маме на кухне – есть шанс выбраться из серой зоны.
Ева рассмеялась.
– Хорошо. Я иду завоёвывать симпатии деревьев.
На кухне пахло тёплым хлебом, зирой и чем-то сладким. Нурие стояла у плиты – в простом платье и фартуке, завязав волосы в пучок. Её движения были точными, неспешными. На столе уже дымились тарелки с менеменом, рядом – оливки, сыр, мёд, свежие лепёшки.
Ева замерла у двери.
– Можно я помогу?
Нурие обернулась. На её лице мелькнуло лёгкое удивление, но почти сразу сменилось мягкостью.
– Конечно. Возьми, пожалуйста, вот эти тарелки и разложи хлеб. И чайник – вон тот, с красной ручкой.
Они двигались молча, но в этой тишине не было неловкости. Лишь размеренная, почти хрупкая гармония утреннего домашнего ритуала.
– Я думала, вы будете спать дольше, – сказала Нурие, выкладывая оливки в глиняную миску.
– Слишком красиво, чтобы спать, – тихо ответила Ева.
Нурие на секунду взглянула на неё – пристально, но не холодно.
– Твоя мама будет волноваться?
– Да. Но она рада, что я здесь. И я – рада.
Нурие кивнула. И добавила уже по-турецки:
– Bazen insan, kendi olmaya başka yerde başlar.
Иногда человек начинает быть собой в другом месте.
Ева уловила не все слова, но смысл почувствовала. Слово «başlar» – как начало. Как рассвет.
В этот момент на кухню вбежала Зейнеп:
– Ага! Значит, ты всё-таки в зелёной зоне у деревьев.
Она подмигнула Еве, и та снова рассмеялась.
Завтрак на большой деревянной террасе – с видом на сад, с ветром, пробегающим по волосам, и пчелами, кружащими над виноградной лозой, – стал первым настоящим утренним моментом её новой жизни. Не туристической. Не экранной. Жизни, в которой можно трогать кору деревьев и видеть лицо человека, когда он молчит.
После завтрака Каан подождал её у калитки, в тени апельсинового дерева. На нём была светлая рубашка, закатанные рукава, и он держал в руках шляпу – не надел, просто крутил в пальцах, как будто не решался.
– Готова к маленькому путешествию? – спросил он, когда она подошла.
– Я уже иду, – ответила Ева, чувствуя, как внутри щелкает какой-то тихий, но отчётливый механизм радости.
Они шли вдоль улиц старого Фетхие. Каменные дома с деревянными ставнями, плетущиеся вдоль стен бугенвиллии, запах свежего хлеба и лимонных деревьев, звонкие голоса продавцов – всё было как будто нарисовано. Мир был ярче, чем вчера. Или это была она, другая.
Каан показывал ей детали – но не те, что в путеводителях. Он говорил, где делают лучший айран, где в мае поют ночные птицы, где сидел один художник, рисовавший только улицы в дождь. Она слушала – и чувствовала, как его голос будто продолжает её собственные мысли.
– Видишь вон ту лавку? – Он показал на крошечное кафе с тремя столиками и вывеской, выцветшей на солнце. – Здесь я работал летом, когда мне было шестнадцать. Варил кофе, носил подносы, и влюбился в туристку из Германии, которая оставила мне книгу с закладками из лепестков. Я не понял ни слова, но держал её год.
Ева засмеялась:
– А ты романтик, Каан.
– Иногда. Только не говори сестре. Она решит, что у меня кризис среднего возраста.