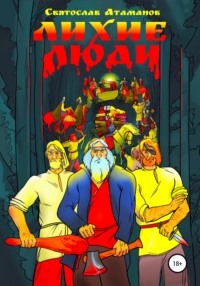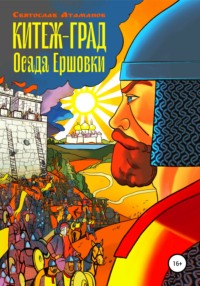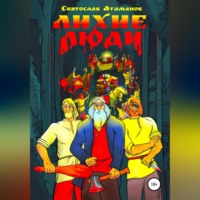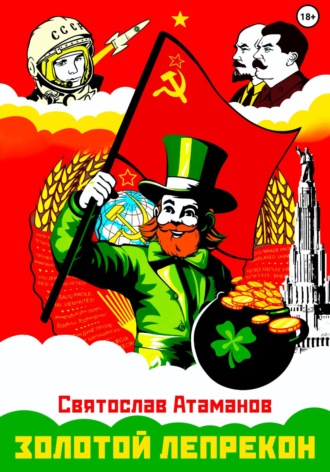
Полная версия
Золотой лепрекон
– Почему? Сказали – «не-рен-та-бель-но».
– Ах нерентабельно?! Нерентабельно?! – вскипела Надежа Сергеевна. – А о нас они подумали?! Нам-то жить на что?!
– Надя, чего ты на меня кричишь? – грустно улыбнулся Фёдор Степанович. – Не я же закрываю его.
Гнев Надежды Сергеевны прошёл так же быстро, как и начался. Глаза её наполнились слезами, и она тихо спросила у мужа:
– Как жить-то будем, Федя?
Её вопрос был вполне резонным. Ремонтно-механический завод – был единственным промышленным предприятием в Алзамае, именно он и давал большинству населения города работу. Однако, как и везде в XXIII веке – количество народу на одно рабочее место превышало все разумные пределы, и чтобы устроиться работать на завод – многие годами ждали своей очереди. Люди, как и везде – держались за своё место руками и ногами, были готовы работать сверхурочно за те же деньги, были готовы работать даже за пол зарплаты.
И вот – завод закрывали. Слушавший этот разговор Фёдор – живо представил картину – как вулкан, выплёвывает из жерла лаву во время извержения, так и завод, выбрасывает, выплёвывает, из себя на улицу сотни людей, которые отныне – станут безработными. Он представил – к каким последствиям для города это приведёт. Разгул преступности – и так был немалый, но, если закроют завод – можно было не сомневаться – это приведёт для города к катастрофическим последствиям.
Фёдор явно представил десятки банд, которые орудуют уже не под покровом ночи – а и среди бела дня. Он представил, как бандиты врываются в дома, убивают людей и выносят всё имущество. Он представил, как на улицах – день и ночь гремит стрельба и идёт криминальная война за сферы влияния. Словом – он представил Алзамай, который погружался в хаос.
Эта трагедия маленьких городов – была в «золотом веке» повсеместной и была известна всем. То тут, то там – закрывались предприятия, признанные нерентабельными, то тут, то там – тысячи людей оставались без работы, и соответственно то тут, то там – города погружались в пучину криминальных войн.
Очень сильно везло тем городам, в которых помимо единственного предприятия, было ещё что-нибудь, например большой водоём. Тогда был шанс – пережить закрытие предприятия относительно бескровно. Так, например, было в Байкальске – другом городе родной Фёдору Иркутской области. В Байкальске – несколько лет назад был закрыт единственный бумажный комбинат, однако в силу близости к городу Байкала – хаоса и настоящей трагедии в городе удалось избежать. Когда комбинат закрыли – большинство работавших там людей – стали ловить рыбу, а многие – и браконьерничать. Так и стали выживать.
Зато на всю страну отгремела трагедия другого сибирского города. Город Калтан был расположен на Кузбассе, и почти всё его население – работало на единственной в городе шахте. Но вот, около 10 лет назад, в 90-х годах XXIII века – шахта была закрыта. И Калтан сразу же, как по щелчку – превратился в арену для боевых действий местных ОПГ. Причём это были именно «боевые действия» в прямом смысле этого слова. В городе шла настоящая война.
Однако у Калтана тоже было одно преимущество. Рядом с ним находился крупный город – Новокузнецк. Туда-то и побежали мирные жители, спасая свои жизни, а банды между тем – продолжали войну. В итоге – мирные жители или убежали из города, или были убиты в ходе криминальных разборок. Когда же война за передел собственности между бандитами в Калтане, была наконец закончена – внезапно все увидели, что делить уже больше и нечего, ибо в городе – ничего собственно и не осталось. В ходе войны ОПГ – город был практически стёрт с лица земли.
В итоге – даже после окончания войны, мирные жители в Калтан так и не вернулись, ибо возвращаться на пепелище, где ничего нет и никогда уже не будет – желающих не нашлось. Бандиты же, увидев, что в ходе своей войны уничтожили город – тоже уехали оттуда и перебрались в другие города. В итоге – Калтан превратился в настоящий город-призрак. Немногочисленные, оставшиеся целыми здания – разрушались, улицы зарастали травой, а там, где ещё недавно ходили люди – теперь бегали дикие звери. Такова была трагедия этого сибирского города, к которой привело то, что в Калтане закрыли последнюю шахту, и тысячи людей остались без работы.
Впрочем, в Алзамае – всё обещало быть ещё хуже для жителей, ибо Алзамай не обладал преимуществами Байкальска и Калтана. Возле Байкальска – находилось огромное озеро, кишащее рыбой, а от Калтана – было совсем недалеко до крупного города. Ни того ни другого – в Алзамае не было, а областной центр – находился от него на расстоянии более шестисот километров. Поэтому – закрытие последнего завода, грозило обернуться для города настоящей катастрофой.
Между тем, Фёдор Степанович ответил жене:
– Они посоветовали, после того как завод закроют – всем из города уезжать.
– Как уезжать? – не поняла Надежда Сергеевна.
– Ну вот так – уезжать. Они сразу предупредили, что в Алзамае скоро – совсем худо станет, советовали продавать всё, да уезжать из города.
– Уезжать?! Как это уезжать?! – возмутилась Надежда Сергеевна. – Вот так всё продавать и уезжать?!
– Да, вот так продавать и уезжать. А что ещё делать, если работы нет?
– И куда же нам ехать?
– Ну они советовали в Иркутск ехать. Или если не хотим в Иркутск – в Красноярск, Барнаул, Новосибирск, Новокузнецк. Это города крупные, там без работы никогда не останешься. Даже если там какие предприятия и закроют – всё равно их много, все не позакрывают.
– И что на заводе об этом говорят? – спросила Надежда Сергеевна.
– Говорят-то? А что говорят? Что тут скажешь? Закроют – значит закроют. Что мы сделать-то можем? Не можем же мы заставить их завод не закрывать?
– И что же? Все собираются уезжать?
– Собираются. А как иначе-то?
– И куда мы все отсюда поедем?
– А кто куда. В разные стороны разъедемся – Россия большая. У кого где родственники есть – тот туда и поедет. Вон Витька Петров говорит – что у него родственники в Ставрополе есть, поэтому, говорит – «на юга подамся». А у Семёныча – аж в самой Москве, оказывается, родственники есть. Вот в Москву ехать собирается.
– Да, Москва… Где она, Москва-то? – сказала задумчиво Надежда Сергеевна, глядя из окна их пятиэтажки. – А у нас ведь Федя, никого нигде нет, родственников – то.
– Ну так может и хорошо, что нету. Раз нету – значит все пути нам открыты. Мы куда хочешь можем поехать! Соберёмся, и поедем в Иркутск! А не в Иркутск – так куда захотим! – с оптимизмом говорил Фёдор Степанович, пытаясь успокоить жену.
Однако, помогло это мало. Надежда Сергеевна понимала, что им с тремя детьми, пусть уже и взрослыми – придётся совсем скоро срываться и ехать не пойми куда, чтобы там как-то продолжать жить.
Словом, начало нового, XXIV века – стало для Алзамая роковым. Всё получилось так, как и предсказывал Фёдор – город начал погружаться в хаос. Разница была только в том, что как оказалось – в хаос город погрузился не после закрытия завода, а гораздо раньше.
После того, как все узнали, что через год завод закрывают – в городе сразу же начался невиданный доселе разгул преступности. А вместе с тем – в город сразу же откуда ни возьмись пожаловали какие-то непонятные и явно нездешние люди, которые стали скупать у местных жителей их жилплощадь. Цену эти люди предлагали очень маленькую, раза в 3, а то и в 4 ниже рыночной стоимости квартир. Да ещё предлагали её они с таким видом, будто делают жителям одолжение. Мол – «Продавай, пока хоть какую-то цену даём, скоро и этого не будет – придётся просто так бросать жильё и уезжать». И многие действительно продавали жильё, и разъезжались кто куда, не дожидаясь закрытия завода.
Семья же Щукиных решила – оставаться в Алзамае до последнего. Мол – вот когда закроют завод, тогда и подумаем, что и как. Уехать планировали уже после закрытия завода – следующей зимой или ранней весной.
Однако – сбыться этим планам было не суждено. Начало XXIV века – обернулось для семьи Щукиных настоящей катастрофой.
Началось с того, что старший сын – Иван Фёдорович, вдруг начал пить. Неизвестно, стало ли причиной его пьянства закрытие завода, или что-то другое, однако же факт остаётся фактом – до этого малопьющий Иван начал пить по-чёрному.
Деньги на водку уходили стремительно, и вся зарплата Ивана – пропивалась им же самим. На работе, обо всём этом, естественно, знали, но не увольняли его. Да и зачем – все знали, что завод в любом случае скоро закроют.
Дома у Щукиных каждый день были скандалы. Ивана ругали на чём свет стоит. Особенно кричал на него Фёдор Степанович. Он кричал, что Иван – подвёл всю семью, и запил именно в такой момент, когда деньги нужны как никогда, в тот момент, когда совсем скоро придётся продавать всё что есть и уезжать неизвестно куда. Иван в свою очередь кричал – чтобы его оставили в покое и уходил на улицу пьянствовать.
Атмосфера в семье была накалена до предела, а Иван между тем – спивался всё больше и больше. Спивание это происходило у него какими-то семимильными шагами, и тот путь, на который другим требуются годы и даже десятилетия – Иван пролетел стремительно. Через три месяца такой разгульной жизни – он уже превратился в настоящего запойного алкоголика.
Продолжалось всё это около пяти месяцев. Зима закончилась, заканчивалась и весна. На дворе стоял май. Развязка наступила разом – одним майским вечером, Иван не вернулся домой ночевать. Не вернулся он ни на следующий день, ни через день.
В семье сразу всё поняли. Как говорилось ранее – в «золотом веке», с его разгулом уличной преступности, «не прийти домой» – почти наверняка означало смерть.
Щукины написали заявление в правоохранительные органы, но Ивана никто не искал. Нашли его труп только через неделю случайные прохожие – кто-то проломил Ивану голову, и скинул его тело в канализационный люк.
Ивана похоронили, и стали жить как прежде. Надо сказать, что несмотря на то, что все Ивана любили и жалели, но от его смерти – почувствовали даже некоторое облегчение. Слишком уж тяжёлые времена предстояли впереди, а пьянство Ивана – только усугубило бы ситуацию.
Прошёл месяц. На дворе был конец июня. Фёдор закончил десятый класс, его сестра Света – девятый. Света решила не идти в десятый класс, ушла из школы после девятого. Планировала поступать в техникум. Фёдор же – корил себя за то, что пошёл в десятый. Теперь ему предстояло доучиваться в школе ещё один год, чтобы получить аттестат о полном среднем образовании. Но заканчивать школу – ему предстояло не в Алзамае, а где-то ещё, на новом месте. Зачем ему нужен был этот аттестат, и будет ли он учиться дальше – Фёдор не знал, однако мать с отцом уверяли его, что закончить школу и получить аттестат – необходимо. Надежда Сергеевна говорила ему – «Иди Федя, в одиннадцатый класс. Иди, не думай. Что же мы с отцом – немощные какие, не прокормим вас со Светой? Иди, тебе школу надо закончить».
И тут, в конце июня, в семье Щукиных случилась новая трагедия – умер Фёдор Степанович. После смерти Ивана он сильно сдал, то и дело жаловался на сердце. Видимо, он так и не смог смириться с пьянством и ранней смертью своего первенца, на которого в семье возлагали большие надежды.
После смерти Ивана – Фёдор Степанович стал неразговорчив, замкнулся в себе. Он мог часам смотреть в окно, не произнося при этом ни слова. В семье видели, что ему очень плохо – и старались лишний раз не трогать Фёдора Степановича и не беспокоить.
Однако же – Фёдор Степанович по-прежнему ходил на работу, дорабатывая последний год существования завода. Что делать после его закрытия – он решительно не знал. Всё чаще и чаще он жаловался на сердце, всё чаще щупал у себя пульс, всё чаще сидел у окна и о чём-то думал.
И вот, как гром среди ясного неба – инфаркт. Однажды вечером, когда все ложились спать, Фёдор Степанович сказал, что ещё немного посидит у окна. Никто ему не противоречил, все, как и всегда решили, что ему надо побыть одному. Вся семья пошла спать, а Фёдор Степанович всё так же сидел на стуле и смотрел на ночную улицу.
Таким его и нашла семья утром – он всё так же сидел на стуле у окна. Мёртвый. Ночью у Фёдора Степановича отказало сердце.
Это была настоящая трагедия. Надежда Сергеевна, после смерти мужа – впала в какую-то прострацию. Она молча ходила по квартире как привидение и ничего не делала. Фёдор и Света не тревожили мать, и сами стали вести домашнее хозяйство.
Прошёл месяц после смерти Фёдора Степановича. Заканчивался июль. Надежда Сергеевна всё так же бесцельно бродила по квартире. Но вот однажды, она вдруг поймала себя на том, что так же, как и её ныне покойный муж – сидит у окна и смотрит на улицу.
Это подействовало на Надежду Сергеевну так, будто ей на голову выплеснули ведро холодной воды. Она словно увидела себя со стороны и сразу же пришла в себя.
«Да что же я делаю-то?! – вдруг подумала Надежда Сергеевна. – Я же мать, у меня же двое детей! Лето через месяц закончится, а нам надо ещё квартиру продать, переехать неизвестно куда, Федю в школу устроить в одиннадцатый класс, Свету – в техникум, самой на работу устроиться. Дел по горло, а я уже месяц тут бесцельно брожу и ничего не делаю. Нет, всё! Хватит!».
И в квартире Щукиных закипела работа. Надежда Сергеевна сказала своим детям собирать и паковать вещи, а сама пошла искать покупателя на квартиру. За этим долго ходить не пришлось, этих неизвестно откуда взявшихся «покупателей» – было в Алзамае хоть отбавляй. Покупатели нашлись сразу, в тот же день, правда цену за квартиру предложили совсем маленькую – меньше трети её настоящей стоимости.
Надежда Сергеевна не стала торговаться, так как понимала, что скоро, возможно – за квартиры в Алзамае нельзя будет получить даже столько. Она согласилась, правда настояла, чтобы ей и детям – дали неделю на сборы.
За эту неделю предстояло сделать немало. Надежда Сергеевна уволилась с работы, забрала из школы Фёдора, вместе с детьми – уложила в чемоданы всё, что Щукины увозили с собой. А потом, Надежда Сергеевна пошла к торговцам оружием – и купила пистолет.
Пистолет и в самом деле был необходим. Правда, в «золотом веке» – огнестрельное оружие было вне закона, а его покупка, хранение, ношение и использование – карались очень строго, вплоть до пожизненного заключения. Но надо ли говорить, что несмотря на то, что в «золотом веке» огнестрельное оружие было под строжайшим запретом – при желании его вполне себе можно было достать.
И всё же зная, что оружие находится вне закона, Надежда Сергеевна купила пистолет. Купила его, осознавая, что, если его найдут правоохранительные органы – ей придётся провести в тюрьме как минимум долгие годы и десятилетия, а скорее всего – всю оставшуюся жизнь. Однако же, риск быть арестованными – был всё же не так страшен, как риск быть убитыми. А в те времена – пускаться в путь-дорогу женщине с двумя детьми (пусть уже и взрослыми детьми), да ещё и с деньгами за проданную квартиру – было почти что равносильно самоубийству. Разгул преступности был столь велик, что скорее всего – путешествие закончилось бы даже не начавшись, и Надежду Сергеевну с её детьми – нашли бы в какой-нибудь придорожной канаве мёртвыми. С пистолетом же – появлялся шанс отбиться от лиходеев.
Собрав вещи – Щукины стали думать, куда им перебираться и в каком городе России продолжать свою непростую жизнь. Маленькие города они отбросили сразу – так как боялись повторения того, что произошло в Алзамае. Нельзя было снова допустить, чтобы закрытие какого-либо предприятия – фактически ставило крест на самом городе, в котором это предприятие находилось.
Поэтому – город надо было выбирать крупный, желательно – вообще мегаполис. Однако же такие крупные города как Москва и Санкт-Петербург – были Щукиными тут же отброшены. Эти города находились слишком далеко, и жизнь в них была слишком дорога. Щукины сразу поняли, что жить там – им не по карману, и денег, которые они выручат за квартиру – надолго не хватит.
Кроме того – для переезда в Центральную Россию возникали серьёзные препятствия. Первое из них – уже упомянутое разделение по племенам, которого в Сибири не было. В той же Москве – большинство населения относило себя к племени вятичей, а потому, как и положено при родоплеменном строе – чужаков они не жаловали. Всех же сибиряков в те времена, в Центральной России называли «чалдонами» и, хотя и относились к ним лучше, чем к племенам из соседних областей, но тоже не так чтобы очень привечали.
Однако же – в крупные мегаполисы, как и в предыдущие века – продолжали отовсюду ехать люди. И в итоге это привело к тому, что однажды настал момент, когда даже такие огромные города как Москва – не смогли «переварить» всех, кто хотел в них поселиться. Население Москвы, к началу XXIV века – составляло более 40 миллионов человек, а население Санкт-Петербурга – около 19 миллионов.
Это привело к тому, что к началу XXIV века – вокруг мегаполисов российских городов выросли настоящие трущобы. Такие трущобы раньше были в основном только в южных, тёплых странах Азии, Африки и Латинской Америки. Теперь же они появились и в России.
Самые большие трущобы в России, были, конечно, вокруг Москвы. Тысячи людей, приехавших в Москву и не нашедших в ней места – селились в трущобах, находившихся в непосредственной близости от города. Все поля и луга вокруг мегаполиса – были утыканы самодельными жилищами, а многие из них – стояли прямо возле МКАДа.
Так как зиму в России никто не отменял, то и трущобы вокруг российских городов – выглядели несколько иначе, чем трущобы в Индии, Кении или Бразилии. Тут одним домиком из фанеры дело ограничиться не могло. Превратиться при первых заморозках в окоченевший труп – никто желания не испытывал.
Именно поэтому – трущобы вокруг Москвы и других крупных городов, по своему внешнему виду больше напоминали одновременно селища северных народов и стоянки кочевников. Тремя основными типами жилища в российских трущобах – были чум, юрта и яранга. Только такие строения – помогали живущим в трущобах пережить российскую зиму. Были, правда и те, кто строил себе в трущобах настоящие русские избы – но таких было мало. К тому времени лес уже основательно повырубили, а потому, оставшийся ещё вокруг трущоб лес – шёл на растопку печей, а не на строительство.
Строили северные жилища в трущобах из чего попало – делали каркас, укрывали брезентом и разными тряпками, конопатили щели мхом и глиной. Многие – устраивали в подмосковных лесах настоящую охоту на животных, чтобы их шкурами укрыть своё жилище, а мясо – съесть. Поэтому – к началу XXIV века, в подмосковных лесах не осталось ни волков, ни медведей, а потом – повыбили и почти всех бродячих собак. И всё равно – шкур на всех не хватало, и многим людям было практически нечем укрыться от холода.
Каждую зиму, в трущобах умирали как минимум несколько сотен, а кое-где – и несколько тысяч людей. И всё равно – трущобы ширились день ото дня, а на место умерших людей – приходили новые.
Надо ли говорить, что в трущобах цвели пышным цветом такие вещи как преступность, проституция, наркомания и алкоголизм. Всё это, впрочем, имело место везде, кроме самых богатых районов и посёлков, куда не пускали чужаков. Однако же в трущобах – всё это приобрело поистине ужасающий размах.
Каждый день можно было видеть картину – как сотни людей, живших в трущобах – плетутся к ближайшим автобусным остановкам – и едут в город, а вечером – возвращаются обратно. Но далеко не все из них, ехали в город для того, чтобы там честно зарабатывать себе на хлеб. Многие ехавшие в город женщины – занимались проституцией, а многие мужчины – мелкими кражами или грабежами. Вечером же – те и другие возвращались домой с деньгами или без денег. Или не возвращались уже никогда, так как были к тому моменту мертвы.
Словом, жизнь в городских трущобах – никак не устраивала семью Щукиных. Надежда Сергеевна прекрасно понимала, какое будущее ждёт там её детей. Потому – решено было не перебираться на другой конец страны, а остаться жить в Сибири, в каком-нибудь крупном городе.
Из сибирских городов – трущобы были только вокруг Новосибирска. Слишком суров был климат, слишком холодны зимние морозы. Поэтому в Сибири люди, как и раньше – жили в квартирах или частных домах. Однако население Новосибирска – к XXIV веку перевалило за 10 миллионов человек, а потому – вокруг города несколько лет назад уже начали появляться юрты и яранги. Поэтому – в Новосибирск решили не ехать, тем более – что и находился он далековато.
Решено было ехать в один из ближайших городов-миллионников. И таких было два – столица их области, Иркутск, а также – Красноярск. Оба находились от Алзамая на примерно одинаковом расстоянии – около шестисот километров, что по меркам Сибири, подходило под категорию «недалеко».
Стали думать, в какой из двух городов поехать. Иркутск находился в той же области, что и Алзамай, однако Красноярск – был ближе к Алзамаю, и населения в Красноярске было больше. К началу XXIV века – население Красноярска составляло 4 миллиона человек, а населения Иркутска – 2,5 миллиона. Как следствие – в Красноярске было больше возможностей, больше предприятий (а значит – больше работы), и больше учебных заведений, в которые скоро предстояло поступать детям Надежды Сергеевны. Трущоб же не было ни в том, ни в другом городе.
Однако в случае с Красноярском – возникала всё та же пресловутая проблема «золотого века», когда люди из соседних регионов – часто относились друг к другу с неприкрытой ненавистью и враждой. И поэтому для XXIII-XXIV веков вопрос нахождения того или иного города в одном с тобой регионе – часто был жизненно важен.
Иркутск находился в одном регионе с Алзамаем, а Красноярск – нет. И этим всё было сказано.
Впрочем, в Сибири – весь этот местечковый национал-шовинизм – был выражен в гораздо меньшей степени, чем в Центральной России. Как всех жителей Сибири в Центральной России часто называли чалдонами, так и в самой Сибири – её жители часто говорили, дескать – «Все мы сибиряки, и не важно из какого ты региона. Будь ты хоть из Томска, хоть из Новосибирска, хоть из Красноярска, хоть из Иркутска – всё одно сибиряк».
И тем не менее – даже такой, казалось бы, в целом дружелюбный подход – не спасал сибирские регионы от погромов. Погромы в те времена – происходили во всех городах и странах. Так как наплыв людей в мегаполисы – подразумевал огромный приток в города людей из других регионов и даже – других стран. Поэтому время от времени – на улицах крупных городов появлялись агрессивно настроенные толпы, и начинали «искать чужаков».
Толпы эти – подходили к случайным прохожим и требовали у них паспорта. В паспортах они смотрели только одну графу – место рождения. Если место рождения совпадало с тем городом, где сейчас находился человек – ему возвращали паспорт и отпускали. Если нет – были варианты.
Варианты эти зависели главным образом от двух вещей. Первое – как далеко от места рождения он сейчас находился, и второе – насколько агрессивной и отмороженной была толпа, на которую он напоролся.
Если человек родился неподалёку, например на момент погрома человек находился в Москве, а родился в Люберцах или в Орехово-Зуево, словом, в Подмосковье – их как правило тоже отпускали. Если местом рождения была указана, например Рязань или Калуга – обычно тоже всё обходилось мирно, так как эти города – считались землями вятичей. Максимум что ждало гостей столицы из этих городов – их могли отвезти на вокзал и посадить на электричку или поезд до родного города.
Если же человек родился в городе, который в землях вятичей не находился – то дело приобретало более серьёзный оборот. Традиционно, к жителям дальних регионов – в Москве относились более терпимо, чем к жителям ближних. Если в результате погрома выяснялось, что человек родился на Урале, в Сибири или на Дальнем востоке – то это была русская рулетка. Их вполне могли избить, но могли и не тронуть «на первый раз», могли же – насильно выдворить из города. Этим как правило всё и ограничивалось.
Но горе тем, кто оказался в Москве во время погрома с паспортом, в котором в графе «Место рождения» – были указаны, например Тверь или Смоленск. Города эти – относились к землям кривичей, а потому, ничего хорошего в землях соседних племён – в XXIV веке их не ждало. То же самое, разумеется – относилось и к представителям всех остальных племён, рискнувших появиться в землях вятичей.
Иноплеменников – в самом лучшем случае избивали и грабили, но как правило – убивали. После погромов – в городах находили десятки, а иногда даже и сотни трупов. Органы же правопорядка – смотрели на всё это сквозь пальцы по трём причинам. Во-первых – в связи с разгулом преступности в «золотом веке», трупы на улицах находили ежедневно. Посему, результаты погромов – были хоть и более заметны на общем фоне, но кардинально ничем не отличались от того, что происходило тогда в мегаполисах каждый день. Во-вторых, многие из представителей правоохранительных органов – и сами придерживались национал-шовинистических взглядов и искренне считали, что после погромов «город становится чище». Но самой главной была третья причина. Она заключалась в том – что им просто-напросто ЗАПРЕЩАЛИ вмешиваться в погромы и беспорядки, а также запрещали искать тех, кто принимал в них участие.