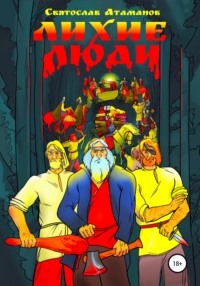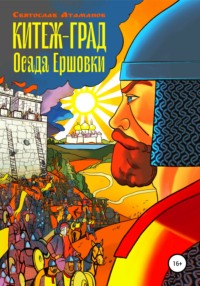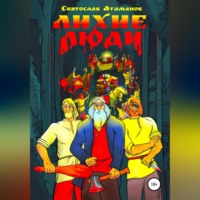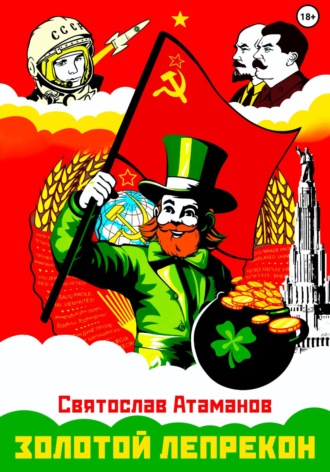
Полная версия
Золотой лепрекон
Причина такого запрещения была всё та же – «разделяй и властвуй». Людям ни в коем случае нельзя было дать объединиться в единый народ. Потому эта вражда и раздувалась с такой силой, чтобы люди из соседних областей – как можно яростней ненавидели друг друга.
Но то было в Центральной России, где погромы происходили стабильно раз в год, а бывало – что и по нескольку раз в год. Сибирь в этом плане – была гораздо спокойнее. Погромы здесь тоже происходили, но не носили систематический характер, так что люди из разных регионов – могли спокойно жить в крупных городах не один год.
Например, в Красноярске, который Щукины рассматривали в качестве одного из вариантов своего дальнейшего проживания – погромов не было вот уже больше пятнадцати лет. Вот потому – там вполне можно было попробовать обосноваться.
«Риск конечно есть. – рассуждала Надежда Сергеевна. – Но ведь сколько лет прошло уже, после последнего погрома. А что, если тот погром – и впрямь был последним? Может ещё не один год там будет тихо и мирно, а потом – Федя и Света станут взрослыми, можно будет и ещё куда-нибудь переехать».
Она поделилась своими мыслями с детьми, и немного подумав и взвесив все за и против – Щукины всё же решили ехать в Красноярск.
Фёдор пошёл на вокзал Алзамая и купил три билета на поезд до Красноярска. Продажу квартиры Надежда Сергеевна назначила на то же самое число, на которое были билеты. Делать по-другому и ночевать на вокзале было смертельно опасно.
С продажей квартиры управились быстро, а потом – взяв деньги за квартиру и сумки с вещами – Щукины пешком отправились на вокзал. До отхода поезда было ещё несколько часов.
Деньги за квартиру Надежда Сергеевна спрятала в пояс, а в боковой карман сумочки положила пистолет. Карман закрывать не стала, чтобы в случае опасности – можно было тут же выхватить оружие.
Впрочем – в глубине души она надеялась, что всё обойдётся. Для нападения лиходеев было слишком рано, вряд ли кто-нибудь рискнёт нападать среди бела дня.
Щукины пришли на вокзал, сели и стали ждать. По станции шныряли какие-то подозрительные личности, изредка кто-то зыркал на них, но в общем – всё было тихо.
Поезд отходил в шесть часов вечера. Время это было самым удобным. Во-первых, в шесть вечера летом ещё светло, а во-вторых, именно в это время заканчивается смена на заводе. Работяги пойдут домой, а чуть позже банды – будут вылавливать их во дворах. Поэтому – всё внимание в это время будет приковано не к вокзалу, а к проходной завода.
Вокзал постепенно заполнялся людьми. В те дни – многие продавали свои квартиры и уезжали из Алзамая. Люди собирались на вокзале кучками, охраняли свои вещи, и готовились, если что – вступить в схватку.
Но, как и ожидалось – на вокзале в это время было тихо. Наконец, все услышали звук приближающегося поезда. Щукины взяли свои вещи, и вместе с другими людьми пошли на платформу.
Тут надо сказать, что представляли собой поезда XXIII-XXIV веков. Первое, что может прийти на ум, при мысли о таком далёком будущем – это, разумеется, высокоскоростные поезда, мчащиеся по рельсам с невероятной скоростью.
Однако же, не следует забывать, что речь идёт о «золотом веке». А значит – комфортабельные поезда, развивающие огромную скорость – конечно были, но далеко не везде и далеко не для всех.
Например, в России – высокоскоростные поезда ходили только между Москвой и некоторыми ближайшими мегаполисами, например Петербургом и Нижним Новгородом. Поезд между Москвой и Петербургом назывался «Ястреб» и проезжал расстояние между городами всего за 1 час. Вокруг железнодорожного полотна на все 700 км пути – был построен высокий забор с колючей проволокой под напряжением. Причина этого была всё та же – путь между двумя столицами – проходил через земли кривичей. Пока что, правда – штурмовать стену никто не пытался и железнодорожные пути не взрывал, конфликт между племенами ещё не достиг такого размаха.
А вот кроме «Ястреба», да ещё пары его аналогов – больше во всей России не было не только высокоскоростных поездов, но и пассажирских поездов вообще в полном смысле этого слова. В поездах «золотого века» – не было ни плацкартных вагонов, ни купейных. Там не было полок, как и не было вообще лежачих мест.
Поезда предыдущих веков – к началу XXIV века сгнили, сломались или просто пришли в полную негодность. Однако делать новые поезда по старым лекалам – сочли нерентабельным. Вместо этого сделали и пустили по всем городам и весям поезда, которые больше всего напоминали обычные электрички. В каждом вагоне стояли приваренные к стенам железные лавки – и всё, больше в вагоне не было ничего. И лавки – это в лучшем случае. Были и такие поезда, где вагон представлял собой полностью пустое пространство и в нём было некуда даже сесть. В таких вот поездах люди ездили часто по несколько суток.
И вот раздался гудок – и к вокзалу Алзамая подкатил наконец поезд. Он и правда больше напоминал не поезд, а электричку. Разница была только в том, что двери в вагон были с ручками, и открывались не автоматически, а проводником. Поезд был старый и ветхий, скорее всего – он был собран в самом начале XXIII века, и ему было уже около ста лет.
Поезд-долгожитель был весь изрисован граффити, исписан непристойными надписями. Окна его были выбиты, двери держались, что называется – «на соплях». Чтобы в вагон не дул ветер – оконные отверстия были заколочены досками. И как следствие – в вагон не проникал солнечный свет, а значит – в вагоне царила полная темнота почти на всём времени пути. Точнее говоря – в вагоне была одна лампочка, освещавшая вагон, но её включали только во время стоянок, когда люди загружались в вагон. Как только все рассаживались – поезд трогался и свет выключался. Сквозь щёлки между заколоченными досками окнами – пробивались лишь слабые полоски света, не давая тьме сгуститься окончательно. Когда же поезд доезжал до следующей станции – свет снова на короткое время включался. Обычно в эти короткие промежутки – люди, зашедшие в вагон ранее – старались быстро поесть, пока снова не выключился свет. Поэтому – пока одни пассажиры заходили в вагон и рассаживались – другие, зашедшие ранее, быстро доставали еду, быстро-быстро ели что придётся и запивали водой. Потом поезд снова трогался, свет выключался, и пассажиры снова ехали в темноте. До следующей станции.
Внешне же – поезд, повторимся, напоминал собой обычную старую электричку. Собственно, от электрички он отличался только двумя вещами – вагонными дверями и установленными на крыше пулемётами.
Пулемёты на крыше поезда – в «золотом веке» были не прихотью, а суровой необходимостью. Так как нигде, кроме немногочисленных дорог для скоростных поездов, вроде дороги между двумя столицами – стены с колючей проволокой не было, то и не было ничего удивительного в том, что на поезда – часто нападали банды.
Собственно банды в те времена – были не только в городах, они были везде. И в посёлках, и в сёлах, и в деревнях, и на дорогах, и на полях, и в лесах. И в этом не было ничего удивительного – населения в «золотом веке» становилось всё больше, а работы – не прибавлялось. Предприятия закрывались, людей увольняли, а новую работу найти себе могли далеко не все. Поэтому люди, потеряв работу – часто либо примыкали к одной из городских банд, либо уходили из города куда глаза глядят. Многие из них подавались в леса и жили там, образовывая разбойничьи шайки. Лиходеи эти – часто выходили из леса на большую дорогу (в том числе – и дорогу железную), и организовывали нападения на машины и поезда.
Если же лиходеям удавалось захватить поезд – то дальше могло произойти что угодно, в зависимости от того, кто на них напал. В лучшем случае – пассажиров обирали до нитки, но оставляли в живых. Если напавшая шайка была немногочисленна – могли предложить пассажирам вступить в их ряды. И среди пассажиров находились те, кто действительно вступал в шайку. Это было совершенно неудивительно, учитывая, что много безработных людей, ехало на поездах куда глаза глядят, искать лучшей доли. Что делать дальше в своей жизни – многие из них не представляли совершенно. Поэтому – когда им вдруг предлагали вступить в шайку и заниматься грабежами и убийствами – некоторые из людей соглашались, так как это хотя бы была не голодная смерть.
Но это в лучшем случае. Если же напавшая банда была многочисленна, и новые люди были им не нужны – всех пассажиров поезда могли просто убить. Не раз и не два в те времена находили на железных дорогах поезда с мёртвыми людьми. Мертвы были все – и машинисты, и проводники, и пассажиры от мала до велика.
Именно для того, чтобы защититься от внезапного нападения – на крышах вагонов и стали ставить пулемёты, а каждый поезд, даже самый ветхий и старый – сопровождал усиленный конвой.
Итак, Щукины зашли в вагон. На счастье – вагон был не стоячий, в нём были железные лавки. Надежда Сергеевна, Фёдор и Света заняли полностью одну лавку. Это было очень удобно, так как можно было спать лёжа по очереди. Двое сидят – а один лежит у них на коленях и спит. Так делали многие, поэтому идеальное количество попутчиков в поездах – было трое или шестеро.
Посадка закончилась, поезд тронулся и свет выключился. Люди копошились в полной темноте как тараканы, многие прильнули к заколоченным окнам, пытаясь сквозь щёлки рассмотреть, где они сейчас.
Время шло, а поезд с черепашьей скоростью продолжал тащиться вперёд. Неизвестно, сколько прошло времени – может два, может три или четыре часа, в темноте чувство времени словно куда-то исчезало. И вот наконец – поезд подошёл к первой станции – это был город Тайшет.
Тайшет к тому времени – разросся и разбух как на дрожжах. Из относительно небольшого городка – он превратился в по-настоящему крупный город. К началу XXIV века – население Тайшета составляло более трёхсот тысяч человек. Оно было и понятно – ведь именно в Тайшете сходились БАМ и Транссибирская магистраль, именно через этот город лежал путь в Центральную Россию и на Дальний Восток.
Поезд подошёл к тайшетскому вокзалу и остановился. В вагоне загорелся свет. Но в вагон никто не входил.
И вдруг с улицы раздался крик:
– Эй, все кто есть в вагоне! Выходи на улицу!
И чей-то хриплый голос добавил:
– С вещами на выход!
Надежда Сергеевна так и похолодела. Происходило что-то непонятное. Люди тревожно переглядывались. Выходить из вагона, однако, никто не спешил.
С улицы снова послышался крик:
– Я сказал, выйти всем из поезда! Быстро!
И, как и в первый раз, вслед за первым голосом, послышался второй:
– Сами выйдете, или вас силой из выгонов выкинуть?
Наконец, вагон пришёл в движение. Напуганные люди, стали брать трясущимися руками свои вещи и выходить из вагона. Выходили в полном неведении – не зная, с чем они столкнутся на улице. Если бы поезд остановился в чистом поле – у людей не было никаких сомнений, что поезд захвачен бандитами. Однако сейчас – они находились не в поле, а в городе. Впрочем, в те лихие времена случалось и такое, что банды объединялись между собой, и устраивали налёты на населённые пункты. Конечно, большой город такие банды захватить не могли, а вот взять под свой контроль деревню, посёлок или небольшой городок – вполне могли. Правда трёхсоттысячный Тайшет был для такого налёта великоват – но кто знает, что могло произойти?
Люди вышли с вещами на платформу. Вместе со всеми вышли и Щукины. На перроне стояло большое количество вооружённых людей. Надежда Сергеевна с облегчением отметила, что на бандитов эти люди явно не походили. Все они были в форме вооружённых сил и полиции Иркутской области. Из-за разногласий и вражды между регионами одной страны – в «золотом веке» у каждого региона страны была своя армия и полиция, а их форма – в каждом регионе была своя собственная.
Вперёд вышел человек в кожанке. На кокарде его фуражки был герб Иркутской области, а на боку в кобуре висел «Маузер».
Человек обвёл недовольным взглядом толпу, и сурово сказал:
– Всем приготовить документы!
Люди стали нехотя доставать паспорта. Прямо на перроне стоял письменный стол, за которым сидел немолодой штабной офицер в очках. Люди построились в очередь и стали по одному подходить к столу. Штабной подробно записывал паспортные данные в большую общую тетрадь, и всё равно спрашивал у каждого:
– Фамилия-имя-отчество? Год рождения? Место рождения? Адрес проживания?
Когда он записывал паспортные данные Щукиных, то так же, как и всем, задавал эти стандартные вопросы. Когда же подошёл черёд вопроса об адресе проживания, Надежда Сергеевна сказала:
– Нет у нас адреса проживания!
Офицер удивлённо поднял на неё глаза:
– Как нет?
– А вот так вот – нет!
Офицер снял очки, протёр их и снова надел. В графе адрес он поставил прочерк, встал и пошёл к человеку в кожанке:
– Товарищ майор, разрешите обратиться! Тут это…
И он стал что-то негромко говорить, указывая на Надежду Сергеевну.
Человек в кожанке, который как оказалось, носил звание майора, подошёл к Надежде Сергеевне, цепко взял её за руку, отвёл её в сторону и спросил:
– Адреса проживания нет?
– Нет!
– Бездомные? Бичи?
– Никакие мы не бичи! – запальчиво, с обидой выкрикнула Надежда Сергеевна.
– Тогда почему адреса нет?
– Был адрес, да весь вышел! – снова с обидой проговорила она.
Очень не хотелось Надежде Сергеевне, разговаривать сейчас с этим майором с маузером на боку. Однако немного подумав она решила, что лучше будет всё-таки рассказать ему.
И она рассказала ему обо всём – о жизни в Алзамае, о закрытии завода, о смерти сына и мужа, о продаже квартиры за бесценок и о том, как двинулись они из города на поиски лучшей жизни куда глаза глядят.
А майор стоял и слушал, иногда приговаривая:
– А, Алзамай стало быть? Гм… ну да – ну да… слышал… гм…
Когда Надежда Сергеевна закончила свой нехитрый рассказ, майор спросил:
– И куда же вы теперь едете?
– В Красноярск.
– В Красноярск? – удивлённо переспросил майор. – А почему в Красноярск?
И действительно – Красноярск находился в другом регионе, а потому вопрос этот для «золотого века» с его местечковым шовинизмом – был далеко не праздный.
Надежда Сергеевна объяснила, что детям надо продолжать учёбу, а так как Красноярск больше Иркутска, а погромов там не было уже много лет – они и выбрали его для дальнейшего проживания.
– Ну тогда спешу вас разочаровать. – сказал майор. – Погромов не было, а теперь есть.
– Как?! В Красноярске погромы?! – на Надежду Сергеевну словно ведро холодной воды вылили.
– Пока что в Новосибирске. – ответил майор. – До Красноярска ещё не добрались. – Но то, что доберутся – в этом можно не сомневаться. Волна погромов движется на восток и захватывает всё новые города. Сегодня пришла новость – что в Барнауле тоже начались.
Тут к майору подбежал молодой старлей:
– Товарищ майор, разрешите обратиться!
– Ну что там ещё?
– Только что новость пришла – в Кемерово и Новокузнецке тоже погромы начались.
– Начались? Гм… Ну ничего удивительного, к тому всё и шло. – сказал майор.
– Так что же нам теперь делать? – спросила Надежда Сергеевна. В том, что волна погромов докатится и до Красноярска, причём в самом ближайшем времени – теперь не оставалось ни малейших сомнений.
– Оставаться в своём регионе. – отрезал майор.
– Но у нас же билеты на поезд до Красноярска! Мы же на них, деньги потратили! – чуть не плача сказала Надежда Сергеевна.
– Билеты? Гм… Ладно, подождите, что-нибудь придумаем. – сказал майор. Стойте пока здесь, никуда не уходите.
Надежда Сергеевна горько усмехнулась, услышав это «никуда не уходите». Если бы она и хотела уйти – то всё равно не смогла бы. Куда идти? Тайшет для них – совершенно чужой город – родственников, знакомых и друзей тут у Щукиных не было.
Тем временем, проверка документов была закончена. Пассажиров поезда разделили на две неравные группы – тех, кто родился в Иркутской области, и тех, кто родился в других регионах. Первых было немного – около двадцати человек, вторые же составляли почти весь поезд.
Майор пошёл к пассажирам и громогласно объявил то, что несколькими минутами ранее сказал Надежде Сергеевне. В связи с начавшимися погромами – жителям Иркутской области рекомендовалось остаться в своём регионе, а всем остальным – побыстрее возвращаться с тот регион, который был указан у них в паспорте.
Пассажиры стояли на перроне с вещами, чесали затылки, переговаривались и обсуждали последние известия – решали, что им теперь делать. Тут поезд дал гудок на отправление, и людская масса, похватав свои вещи, кинулась в вагоны занимать места.
Через несколько минут поезд поехал и исчез вдали, оставив на перроне два десятка уроженцев Иркутской области, включая и семью Щукиных.
Майор поручил людей старлею, а сам пошёл к Щукиным. Надежда Сергеевна, Фёдор и Света стояли чуть в отдалении, и переговаривались, решая, что делать дальше.
– Ну и куда вы дальше? – коротко спросил майор.
– Поедем в Иркутск, больше нам ничего не остаётся. – сказала Надежда Сергеевна.
– Родственники в Иркутске есть?
– Нет.
– Гм… – снова неопределённо сказал майор. – Ладно, пойдёмте на вокзал, попробуем что-то придумать.
И он широкими шагами двинулся в сторону старого здания тайшетского вокзала. Щукины, похватав свои вещи – пошли за ним.
Майор привёл Щукиных на вокзал и велел подождать. Они сели на лавки в маленьком зале ожидания, а майор пошёл в привокзальной кассе и долго о чём-то переговаривался с женщиной в окошке. Наконец, он подошёл к Щукиным и сказал:
– Идите в кассу, обменяйте свои билеты на поезд до Иркутска. Я договорился, билеты вам продадут за пол цены.
– Спасибо вам большое. – сказала Надежда Сергеевна и пошла к кассе.
Билеты им действительно продали за пол цены, но тут же возникла новая проблема – ближайший поезд до Иркутска, шёл через Тайшет только через пять дней.
Пять дней в незнакомом городе! Как прожить эти пять дней, где прожить? О том, чтобы остаться на это время на вокзале – не могло быть и речи. С разгулом преступности в «золотом веке» – это было бы смерти подобно.
Впрочем, Надежда Сергеевна сразу успокоилась. «Ничего, квартиру снимем, или номер в гостинице – решила она. – Тайшет – большой город, тут наверняка многие квартиры посуточно сдают. Главное – снять у нормальных людей, чтобы проблем не возникло. А вот как раз сейчас и узнаю».
И Надежда Сергеевна направилась к майору, чтобы узнать, не знает ли он в Тайшете людей, которые смогут сдать им на пять суток квартиру.
А майор. Словно угадав её мысли, спросил первый:
– Вам жить есть где?
– Нет, откуда же? – ответила Надежда Сергеевна. – Я как раз и хотела спросить, не знаете ли Вы…
– Если негде – можете остановиться у меня. – не дал ей договорить майор.
– У Вас? – Надежда Сергеевна так и ахнула от удивления.
– Да, у меня. Живу я один, места всем хватит. Согласны?
Надежда Сергеевна снова посовещалась с детьми, и наконец все решили, что остановиться у майора – было бы наилучшим вариантом. Главным образом потому, что его звание и должность – были лучшей зашитой от нападений. Всем было понятно, что вряд ли кто-то из бандитов – стал бы нападать на представителя правоохранительных органов. К тому же – у майора было оружие.
Словом, Щукины согласились остановиться у майора, и тот повёл их к себе домой. Идти было совсем недалеко, как оказалось – майор жил возле вокзала в частном секторе. Дом его был старый, но это был довольно просторный и тёплый пятистенок.
Внутри – дом представлял из себя типичную холостяцкую берлогу. На столе стояла пепельница с горой окурков, на полках был слой пыли – а в раковине – гора немытой посуды.
Майор выделил всем койко-места, показал, куда поставить вещи. Потом достал буханку хлеба и несколько банок тушёнки – гостей надо было чем-то покормить, а больше у него ничего не было. В свою очередь Щукины – достали свои запасы, заготовленные в дорогу, и тоже поставили их на стол, так что ужин вышел на славу.
Во время ужина, Надежда Сергеевна сказала майору, что хочет завтра взяться за уборку дома. Майор что-то пробурчал, но кажется не возражал. В процессе разговора так же выяснилось, что звали майора – Андрей Евгеньевич Буров.
Наконец все наелись, ужин закончился. К тому времени солнце уже село, и на Тайшет опустилась ночь. Поэтому став из-за стола – все разошлись по своим кроватям и тут же уснули.
На утро – Буров ушёл на службу, а Щукины – остались у него в доме. Надежда Сергеевна, как и обещала – взялась за уборку, а Фёдор и Света ей помогали.
Наведя в доме чистоту, Надежда Сергеевна послала детей в магазин за продуктами, а потом принялась за готовку.
Когда Буров пришёл со службы – он буквально обалдел от увиденного. Дом его сверкал чистотой, пыли и грязи как не бывало. На столе дымилась тарелка куриной лапши, и тарелка с варёной картошкой и жареной рыбой. Еда была самая незамысловатая, но Бурову такой ужин – показался невиданной роскошью. Ел он быстро и жадно – аж за ушами трещало.
А на следующий день, видимо находясь под впечатлением от чистоты в доме и вкусного ужина – Буров предложил Надежде Сергеевне выйти за него замуж:
– Мужа у тебя нет, детей поднимать надо. – Буров как-то незаметно перешёл на «ты». – А у меня оклад неплохой, и жилплощадь своя. Детей поднимем, дочь пусть в техникум поступает, а сына – к нам на службу пристрою.
Однако Надежда Сергеевна ответила отказом. Мотивировала это тем, что, во-первых, муж её только что умер, и это будет не по-людски, а во-вторых, что Фёдору надо продолжать образование и поступать в институт. Поэтому – надо ехать в крупный город. Буров возражал, что Тайшет – тоже крупный город, в нём живёт больше трёхсот тысяч человек и есть один институт. Но Надежда Сергеевна уже решила, что ехать им нужно непременно в мегаполис, там возможностей было на порядок больше.
Буров, поняв, что ему отказывают наотрез, расстроился, но кажется, не обиделся. Всё же, заканчивая разговор, он сказал Надежде Сергеевне:
– Ну ладно. Раз решили ехать – езжайте. Но ты всё-таки подумай. Если что – возвращайся.
Щукины прожили в доме у Бурова все пять дней, а потом сели на поезд и поехали в Иркутск. Поезд был точно такой же, как тот, на котором они уезжали из Алзамая. С забитыми окнами и приваренными к стенам железными лавками. Точно так же в вагонах выключался свет, и люди ехали в полной темноте. Как и раньше – на перроне скопилась толпа народу, и все толкались, пытаясь побыстрее влезть в поезд и занять место на лавках. Щукины кое-как положили свои вещи, пристроились втроём на одной лавке и поехали на восток.
Долог был их путь на поезде. Расстояние от Тайшета до Иркутска было примерно таким же, как от Москвы до Санкт-Петербурга – чуть меньше 700 километров. Однако то расстояние, которое высокоскоростные поезда XXIV века проезжали между двумя столицами за 1 час, поезд-развалюха, на котором ехали Щукины – кое-как проехал за трое суток.
Путь занял бы меньше времени, если бы по дороге, поезд не подвергался нападению банд. За эти трое суток, на поезд нападали трижды – два раза за первые сутки, и один раз на третьи, когда до Иркутска оставалось меньше пятидесяти километров.
Этот, третий налёт на поезд – оказался особенно опасным. Бандитов, судя по всему – было достаточно много, с крыши поезда без устали строчил пулемёт, кругом слышались крики и стрельба. По вагонам тоже непрестанно били пули, и потому пассажиры – сразу попадали на пол, лежали прижавшись друг к другу и молились, чтобы всё закончилось благополучно.
Наконец, стрельба утихла. Судя по всему – нападение банды было отбито и нападавшие были убиты или разбежались по лесам.
Изрешечённый пулями поезд стоял ещё несколько минут, а затем тронулся, и с той же черепашьей скоростью поехал к Иркутску.
Наконец, когда уже третьи сутки были на исходе, Щукины прибыли в конечную точку своего долгого пути. Первую ночь в Иркутске – они провели в маленькой и грязной привокзальной гостинице, отличавшейся при этом – сильно завышенными ценами.
На следующий день – они сняли двухкомнатную квартиру, и наконец-то вздохнули с облегчением. Теперь у них был хоть и съёмный – но свой угол.
И потекла неспешной рекой их жизнь в сибирском двухмиллионном мегаполисе. Надежда Сергеевна устроилась работать в больницу, Фёдор закончил школу и через год после переезда в Иркутск поступил в институт, а вечерами подрабатывал. Светлана училась в колледже.
Именно в Иркутске и узнал впервые Фёдор Щукин про то, что такое коммунизм. Учился Фёдор хорошо, много читал, среди однокурсников был, что называется – «на хорошем счету». Поэтому как-то раз, его однокурсник и тёзка Фёдор Кречетов – пригласил его однажды вечером прийти на некое собрание.
Щукин было подумал, что предстоит банальная студенческая пьянка, и потому отказался. Алкоголя он практически не употреблял. Однако Кречетов объяснил ему, что речь идёт вовсе не о пьянке, а о собрании книжного клуба.